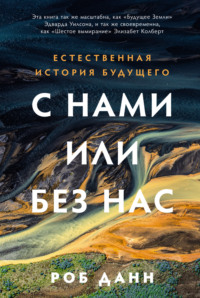Kitabı oxu: «С нами или без нас: Естественная история будущего»
Переводчик: Анна Петрова
Научный редактор: Елена Наймарк, д-р биол. наук
Редакторы: Андрей Захаров, Наталья Нарциссова
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Анна Тарасова
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Елена Барановская, Ольга Петрова, Елена Рудницкая
Верстка: Андрей Фоминов
Иллюстрация на обложке: EXTREME-PHOTOGRAPHER / iStock / Getty Images
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Rob R. Dunn, 2021
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
⁂

Моему отцу, который любит, чтобы всегда был план
Введение
Я вырос на рассказах о реках. В рассказах люди сражались с реками, и реки всегда побеждали.
Реками моего детства были Миссисипи и ее притоки. Я вырос в Мичигане, но семья моего отца жила в Гринвилле, штат Миссисипи. Город Гринвилл, где рос мой дед, располагался на древней пойменной равнине, за земляной дамбой, которая должна была сдерживать речные воды. Река Миссисипи могла заглатывать лодки. Она заглатывала маленьких мальчиков. А когда моему деду было девять, она заглотила весь Гринвилл. Дома плыли вниз по течению. Коровы захлебывались на привязи, вода тащила их прочь. Утонули сотни людей. Город уже никогда не стал прежним.
Великое наводнение 1927 года было из разряда катастроф, требующих объяснения. Объяснение же зависело от рассказчика. Так, в одной из версий обвинялись «джентльмены» из Арканзаса, западного соседа штата Миссисипи по ту сторону реки. Если прорывает сдерживающую дамбу, вода разливается и топит Миссисипи, а соседний Арканзас остается невредим – как раз как во время Великого наводнения. Поэтому некоторые (без каких бы то ни было доказательств) утверждали, что компания джентльменов из Арканзаса переплыла реку на лодках, динамитом подорвала дамбу и затопила Гринвилл. Согласно другим версиям, потоп наслал в наказание разгневавшийся Бог. Немудрено: наводнения и эпидемии всегда оставались излюбленными орудиями мстительных божеств, начиная с древнейших дошедших до нас сказаний шумеров. Наконец, по той версии, что я слышал чаще всего, вода попросту поднялась слишком высоко и смыла дамбу. В некоторых вариациях этой истории тем мальчиком, который заметил, что дамба начала оседать, и принес весть о приближающейся беде в город, был именно мой дед.
Но самый правдивый рассказ гласит, что Великое наводнение 1927 года произошло из-за попыток человека управлять рекой. Реки по природе своей должны петлять, выходить из берегов, прокладывать новые русла. Реки с их извивами не приспособлены к тому, чтобы на берегах возводили дома, а тем более города. Реки не подходили и не подходят для строительства крупных портов. До Великого наводнения жители берегов Миссисипи тратили уйму денег на постройку дамб, не позволявших реке делать новые петли. Русло, которым раньше управляли время, физика и случай, перестало быть естественным. Говорили, что реку «приручили», «подчинили» и даже «окультурили», чтобы города росли, а богатства приумножались. Укрощение реки вызывало гордость, переходящую в высокомерие. То было самодовольство, построенное на вере, будто человек может взять и приспособить природу под людские нужды.
На протяжении миллионов лет Миссисипи каждый год выходила из берегов, затапливая окружающие равнины. Она петляла то здесь, то там, создавая новое пространство для жизни и даже новые участки суши. Как отмечал Амитав Гош, описывая в книге «Великий беспорядок» (The Great Derangement) похожие процессы в дельте Ганга, «потоки воды и ила были таковы, что геологические процессы, обычно происходящие в "глубоком времени"1, стали идти со скоростью, при которой перемены можно было наблюдать в течение месяцев и даже недель»1. Рельеф Луизианы, например, – это результат древних процессов изменения реки: штат находится в устье, через которое отводятся воды с целого континента.
Деревья и травы эволюционно приспособились извлекать пользу из наводнений и смещений рек. А для рыб изобилие затапливающих вод стало частью нормального жизненного цикла. Американские индейцы, жившие вдоль Миссисипи, соотносили с циклами реки периоды земледелия, собирательства, а также ритуалы и строили поселения достаточно высоко, чтобы избежать затопления. И природа, и индейцы взаимодействовали с рекой, обращая в свою пользу неизбежные изменения ее состояния. Но с началом индустриализации появившийся на Миссисипи коммерческий транспорт не мог ждать милостей от природы и считаться с ее циклическими колебаниями. На заре американской индустриализации от пароходов и барж ожидалось следование расписанию, а города, куда направлялись груженные товарами суда, должны были располагаться как можно ближе к воде. Индустриализация требовала от реки не просто предсказуемости, но постоянства.
Требование постоянства – это попытки человека включить реку в обширную сферу своего контроля. В разговорах берега представали трубами, по которым течет вода, и ее можно перенаправлять, замедлять, ускорять или даже останавливать. Такое отношение к реке имело множество последствий. Эти последствия затопили дом моего деда, а река все равно осталась необузданной. И она не обуздана до сих пор. Как сказал поэт Арчибальд Рэндольф Эммонс, невзирая на все наши вмешательства, река «будет течь вместе с текущим»2.
Даже в наши дни Миссисипи, укрощенная намного основательнее, иногда поглощает лодки, маленьких мальчиков и фермы. Она так и будет затапливать города, и мы отчего-то будем этому удивляться. А в результате глобального потепления наводнения станут только сильнее. Набеги реки напоминают нам, что природа справится с любыми попытками человека игнорировать ее, сражаться с ней или властвовать над ней. В этом река Миссисипи подобна реке жизни, частью которой мы являемся. Попытки управлять Миссисипи олицетворяют наши притязания на управление природой, но особенно – на управление самой жизнью.
Представляя будущее, мы обычно воображаем себя встроенными в механизированную экосистему, населенную роботами, аппаратами и виртуальными реальностями. Будущее радужно и технологично. Оно насквозь цифровое: в нем преобладают единицы и нули, электричество и незримые соединения. Опасности будущего, включая автоматизацию и искусственный интеллект, порождены, как утверждают бесчисленные новые книги, нами же самими. В размышлениях о том, что ждет нас впереди, природа лишь несущественная деталь, что-то вроде трансгенного цветка в горшке за окном, которое все равно нельзя открыть. В большинстве описаний будущего нечеловеческие формы жизни вовсе не фигурируют – разве что на отдаленных фермах, где работают роботы, или в домовых оранжереях.
В воображаемом будущем мы – единственные живые действующие лица. Мы сообща ищем способы упростить мир живого и поставить его себе на службу, подчинить природу до такой степени, чтобы ее даже видно не было. Мы воздвигаем дамбу между своей цивилизацией и остальной жизнью. Эта дамба – ошибка: и потому, что невозможно удержать жизнь в предписанных рамках, и потому, что подобные попытки дорого нам обойдутся. Неверно это и с точки зрения понимания того места, что отведено нам в природе, а также с точки зрения наших познаний о законах природы и о взаимоотношениях человека с прочими формами живого.
Некоторые законы природы нам преподают в школе. Например, мы знаем о силе притяжения, инерции и энтропии. Но это далеко не всё. Биологи начиная с Чарльза Дарвина открывают свои законы, о которых писатель Джонатан Вайнер сказал, что это «законы развития земного, столь же простые и всеобщие, как у физиков»3. Это законы преобразования клеток, организмов, экосистем и даже самого разума. О биологических законах необходимо помнить, если мы желаем хоть что-то понять относительно грядущего. Эта книга – о таких законах, а также о том, что они говорят нам о естественной истории будущего.
В ряду биологических законов стоят и законы экологии, которые я изучал наиболее основательно. Самые полезные из них (это относится и к связанным с экологией областям – биогеографии, макроэкологии и эволюционной биологии), подобно законам физики, универсальны. Эти биологические законы наряду с физическими позволяют нам строить прогнозы. Но, как не раз указывали физики, в этих законах есть ограничение: в отличие от физических, они приложимы лишь к крошечному уголку вселенной, в котором существует жизнь. Тем не менее, поскольку любой нарратив, касающийся нас, повествует также о жизни, биологические законы можно считать универсальными для всех миров, в которых мы можем оказаться.
Легко увязнуть в терминологическом споре, можно ли называть правила биологической природы «законами» (как это делается в моей книге), «закономерностями» или как-то иначе. Оставлю этот спор философам науки. Я буду именовать их законами в соответствии с бытовым употреблением термина. Это «законы джунглей» – точнее, законы джунглей, прерий, болот и, поскольку наши дома тоже полнятся жизнью, законы спален и ванных. В конечном счете самым важным для меня остается то, что знание подобных законов позволяет людям четче осознавать будущее, в которое человечество с энтузиазмом мчится на всех парах.
Большинство законов природы хорошо известно экологам. Многие из них были открыты больше ста лет назад, а в последние десятилетия уточнялись и прорабатывались с помощью новых достижений статистики, моделирования, экспериментов и генетики. Поскольку экологам эти законы хорошо известны и интуитивно понятны, они зачастую даже не упоминают о них. «Конечно, это так. Зачем говорить о том, что и так все знают?» Но если десятилетиями не размышлять и не говорить об этих законах, то на интуитивном уровне они становятся вовсе не очевидны. Более того, когда дело касается будущего, почти все законы приводят к заключениям, удивительным даже для самих экологов, заключениям, вступающим в противоречие со множеством решений, которые мы принимаем в повседневной жизни.
Один из самых непоколебимых биологических законов – закон естественного отбора, результат открытия Чарльзом Дарвином того, как эволюционирует жизнь. В дарвиновском термине «естественный отбор» отражается мысль, что в каждом поколении природа отбирает одних особей, предпочитая их другим. Она отбраковывает тех, чьи качества понижают вероятность выжить и размножиться, и потворствует тем, чьи качества повышают эту вероятность. Именно последние передают следующим поколениям свои гены и признаки, в этих генах закодированные.
Дарвин представлял, что естественный отбор действует медленно. Теперь мы знаем, что он может идти очень быстро. У многих, очень многих видов наблюдали эволюцию в реальном времени. Ни один из этих примеров не удивителен. Но что поражает, так это неумолимая, как течение реки, неизбежность, с какой последствия этого простого закона обрушиваются на нашу повседневную жизнь всякий раз, когда мы, например, стремимся уничтожить какой-нибудь биологический вид.
Мы пытаемся убивать виды, применяя антибиотики, пестициды, гербициды и любые другие «-циды». Мы проделываем это в своих домах, больницах, садах, полях, иногда даже в лесах. Таким способом мы пытаемся утвердить свой диктат над природой – примерно как строители дамб на реке Миссисипи. Последствия вполне предсказуемы.
Недавно Майкл Байм и его коллеги из Гарвардского университета соорудили гигантскую чашку Петри – прямоугольную мегачашку, разделенную на полосы. Об этой мегачашке с полосами еще пойдет речь в главе 10. Она имеет огромное значение. В чашку Байм налил агар, который служит микробам и пищей, и жильем. В крайних полосах с обеих сторон чашки не было ничего, кроме агара. Но чем ближе к середине находилась полоса, тем выше в ней оказывалась концентрация антибиотиков. Выполнив необходимые приготовления, Байм запустил по краям чашки бактерии и стал смотреть, разовьется ли у них резистентность к антибиотикам.
Бактерии попадали в чашку беззащитными, как овечки: у них не было генов, обеспечивающих способность противостоять антибиотикам. Если агар служил овечкам-бактериям пастбищем, то антибиотики были волками. Эксперимент воспроизводил: а) способ, посредством которого мы обращаемся к антибиотикам, желая контролировать болезнетворные бактерии у себя в организме; б) способ, посредством которого мы применяем гербициды, чтобы держать под контролем сорняки на собственном газоне; в) и вообще каждый из способов, посредством которых мы пытаемся отразить натиск природы, вторгающейся в нашу жизнь.
Что же произошло в итоге? Закон естественного отбора предсказывает: пока за счет мутаций обновляется генетическая изменчивость, бактерии имеют возможность в конце концов выработать резистентность к антибиотикам. Но на это, по идее, должны уйти долгие годы. Столь долгие, что пища у бактерий может закончиться задолго до обретения ими способности освоить полоски с антибиотиками – полоски, кишащие волками.
Однако это заняло не годы, нет. Бактериям хватило 10–12 дней.
Байм повторял эксперимент снова и снова. Результат всякий раз оказывался одним и тем же. Бактерии заполняли первую полосу, а затем их экспансия слегка замедлялась – до тех пор, пока сначала одна линия бактерий, а за ней и другие не вырабатывали устойчивость к малым концентрациям антибиотика. Эти линии заполняли следующую полосу и опять ненадолго притормаживали, но вот новая линия и ее потомки адаптировались уже к следующему уровню концентрации антибиотиков. В конечном счете несколько линий развивали такую сопротивляемость к предельной концентрации антибиотиков, которая позволяла им устремиться к последней полосе – подобно воде, устремляющейся через дамбу.
В ускоренном воспроизведении эксперимент Байма производит ужасающее впечатление. Но вместе с тем он невероятно прекрасен. Ужасает та скорость, с какой бактерии из беззащитных перед нашими человеческими усилиями превращаются в несокрушимых. Прекрасна же предсказуемость результатов эксперимента, если помнить о законе естественного отбора. Из этой предсказуемости следуют две вещи. Во-первых, она позволяет понять, когда можно ожидать развития резистентности – неважно, у бактерий ли, клопов или любых других организмов. И во-вторых, она позволяет управлять рекой жизни таким образом, чтобы понизить вероятность развития резистентности. Понимать закон естественного отбора – значит получить ключ к человеческому здоровью и благополучию – и, честно говоря, к самому выживанию нашего вида.
Есть и другие биологические законы природы, следствия которых подобны следствиям естественного отбора. Скажем, закон, определяющий, сколько видов сможет жить на острове или какой-то другой территории той или иной площади. Этот закон позволяет предсказывать, где и когда виды будут вымирать, а также где и когда будут появляться новые. Закон экологических коридоров диктует, какие виды будут переселяться по мере изменения климата и как именно это будет происходить. Закон избавления описывает, как преуспевают виды, сумевшие избавиться от паразитов и вредителей. Именно победа над вредителями помогает отчасти объяснить успехи человеческой популяции, а также то, как нам удалось столь колоссально нарастить свою численность по сравнению с другими видами. Кроме того, этот закон обрисовывает некоторые из трудностей, с которыми мы столкнемся в будущем, когда возможностей для избавления (от вредителей, паразитов и прочих) станет меньше. Наконец, законом ниш определяются местообитания, где способны жить биологические виды (в том числе люди) и где по мере изменения климата мы сможем благополучно существовать.
Кое в чем эти законы едины: их последствия наступают независимо от того, принимаем ли мы их во внимание или нет, а пренебрежение ими приводит к неприятностям. Если не учитывать закон коридоров, то мы невольно поддержим выживание проблемных видов (вместо полезных или просто безобидных). Если не учитывать соотношение числа видов и площади, то проблемные виды станут эволюционировать – так, например, возник новый вид комаров, обитающих в лондонской подземке. Если не учитывать закон избавления, то мы попусту растратим драгоценное время и упустим момент, когда наши организмы и урожаи окажутся свободны от паразитов и вредителей. И так далее. Вместе с тем перечисленные законы объединяет и то, что, обратив на них внимание и учитывая их воздействие на естественную историю будущего, мы сможем создать мир, более терпимый к нашему собственному существованию.
Имеются также законы, описывающие, как ведем себя мы сами. Законы человеческого поведения имеют больше ограничений и путаницы, чем более общие биологические законы. Их в равной мере можно считать и законами, и тенденциями. Пусть, но все же эти тенденции раз за разом повторяются в различных культурах и в разные эпохи; они важны для понимания будущего потому, что, во-первых, очерчивают наиболее вероятный образ наших действий, а во-вторых, указывают, о чем надо помнить, если мы собираемся идти против закона.
Один из законов человеческого поведения имеет отношение к контролю – к нашей склонности упрощать сложности жизни: в точности как пытаться выпрямить и перенаправить древнюю могучую реку. Грядущие годы принесут с собой больше новых экологических новшеств, чем породили прошедшие миллионы лет. Человеческие популяции разрастутся. Больше половины земной поверхности уже покрыто созданными нами экосистемами: среди них города, сельскохозяйственные угодья, мусороперерабатывающие заводы. В настоящее время мы контролируем – напрямую и неумело – многие из важнейших экологических процессов, протекающих на Земле. Нынешние люди съедают половину всей чистой первичной продукции – зеленой жизни, растущей на планете. А есть еще и климат. В ближайшие 20 лет сложатся такие климатические условия, с какими человечество не сталкивалось никогда. Согласно даже самым оптимистичным прогнозам, к 2080 году сотни миллионов видов, чтобы выжить, будут вынуждены мигрировать в новые регионы и даже на новые континенты. Мы перекраиваем природу в небывалых масштабах, причем почти всегда бездумно невнимательны к собственным деяниям.
По мере преобразования природы мы склонны ужесточать контроль – например, делая сельское хозяйство все более простым и технологичным, а биоциды, возвращаясь к предыдущему примеру, максимально сильнодействующими. Такой подход, как будет показано ниже, проблематичен в целом, но в особенности он сомнителен в переменчивом мире. В таком мире наша склонность все контролировать вступает в противоречие с двумя законами разнообразия.
Первый закон разнообразия проявляется в когнитивных способностях птиц и млекопитающих. В последние годы экологи выяснили, что в изменчивой среде преимущество получают животные, способные применять изобретательный интеллект для выполнения новых задач. Среди подобных животных – ворóны, вóроны, попугаи и некоторые приматы. Эти животные пользуются интеллектом, чтобы сглаживать перепады условий, с которыми они сталкиваются; такой феномен называют законом когнитивного буфера. Когда среда, которая когда-то была устойчивой и стабильной, становится изменчивой, виды, обладающие изобретательным интеллектом, множатся. Мир становится вороньим.
Второй закон разнообразия – закон разнообразия-устойчивости – гласит, что экосистемы, в которых больше видов, более стабильны во времени. Осознание этого закона и ценности разнообразия весьма важно для сельского хозяйства. Регионы с бóльшим разнообразием посевов, вероятнее всего, будут из года в год приносить стабильные урожаи, а значит, в них снизится риск дефицита зерновых. Сталкиваясь с переменами, мы чаще всего пытаемся упростить природу или даже пересоздать ее заново, но следует повторить, что к устойчивому успеху с большей вероятностью ведет поддержание природного разнообразия.
Стремясь управлять природой, мы зачастую воображаем себя вне ее рамок. Мы говорим о себе так, будто мы уже не животные, а какой-то отдельный вид, обособленный от всего живого и подчиняющийся другим правилам. Это ошибка. Мы остаемся частью природы и непосредственно зависим от нее. Соответствующий закон гласит, что все виды неразрывно связаны с другими видами. А мы, люди, вероятно, зависим от большего количества видов, чем любой другой вид, когда-либо живший на Земле. Вместе с тем наша зависимость от других видов отнюдь не означает, что природа зависит от нас. Законы жизни продолжат действовать и после нашего вымирания. Даже самые страшные атаки человека на окружающий мир благоприятствуют тем не менее некоторым обитающим в нем видам. В глобальной истории жизни примечательно, насколько она в конечном счете отстранена от нас.
И наконец, один из самых значимых сводов законов, регулирующих наши планы на будущее, связан одновременно и с нашим незнанием природы, и с нашими заблуждениями относительно ее масштабности. Закон антропоцентризма гласит, что мы, люди, склонны воображать себе биологический мир, заполненный видами, похожими на нас, – то есть обладающими глазами, мозгом, позвоночником. Этот закон обусловлен ограниченностью нашего восприятия и воображения. Не исключено, что когда-нибудь мы перестанем подчиняться этому закону и преодолеем давние предубеждения; такое возможно, но по причинам, которые здесь описываются, маловероятно.
Десять лет назад я написал книгу «Все живое» (Every Living Thing), посвященную нынешнему разнообразию форм жизни, а также тому, что еще предстоит открыть. В этой книге я утверждал, что жизнь намного более многолика и вездесуща, чем мы себе представляем. Фактически книга была пространным рассуждением на тему, которую я называю «законом Эрвина».
Ученые много раз объявляли о конце науки (или о приближении такового) и о том, что открытия новых видов или новых ее пределов больше не будет. Как правило, в подобных случаях они отводили себе главенствующую роль в обобщении целостной картины: «Теперь, когда я довел всё до конца, мы достигли финиша. Только посмотрите, как много мне известно!» Но после подобных заявлений очередные открытия снова и снова показывали, насколько масштабнее жизнь в сопоставлении с нашими представлениями и до какой степени непознанной она остается. Закон Эрвина отражает тот факт, что бóльшая часть всего живого еще не поименована и тем более не изучена. Он был назван в честь Терри Эрвина, биолога и специалиста по жукам, который одним-единственным исследованием, проведенным в джунглях Панамы, изменил наше ви́дение многомерности жизни. Эрвин запустил такую революцию в нашем понимании жизни, которую можно уподобить космологии Коперника. Коперниканский переворот завершился после того, как ученые достигли согласия по вопросу вращения Земли и других планет вокруг Солнца. Эрвиновская революция закончится лишь тогда, когда мы твердо усвоим, что мир живого намного более обширен и намного менее исследован, чем нам кажется.
Совокупно законы живого мира и нашего места в нем дают некоторое представление о том, что возможно, а что невозможно в естественной истории будущего и какое место мы займем в ней. Устойчивое будущее для нашего вида, в котором города не будут снова и снова захлестывать волны – причем не только воды, но и вредителей, паразитов и голода, и все это вследствие наших провальных попыток управлять жизнью, – такое будущее можно представить только при условии, что мы начнем считаться с законами живого мира. Если же мы продолжим пренебрегать ими, нас ждут новые и новые провалы. Плохая новость в том, что наш нынешний подход к природе по умолчанию предполагает попытки обуздать и покорить ее. Мы стремимся бороться с природой, неся издержки, а потом, потерпев очередную неудачу, винить мстительных богов или джентльменов из Арканзаса. Хорошая новость в том, что можно действовать и по-другому: если мы обратим внимание на довольно простые правила и законы жизни, то наши шансы прожить еще 100, 1000 или даже миллион лет значительно повысятся. Ну, а если нет – что ж, у экологов и эволюционных биологов есть довольно убедительное ви́дение того, как будет развиваться жизнь без нас4.