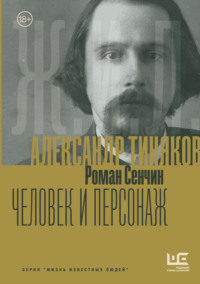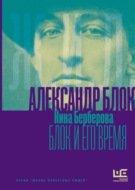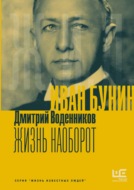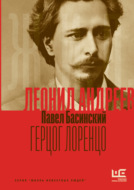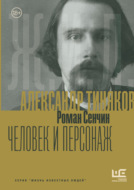Kitabı oxu: «Александр Тиняков. Человек и персонаж»
© Сенчин Р.В.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление.
© ООО «Издательство АСТ».
Автор идеи Майя Кучерская
На переплете фото А.И.Тинякова, предоставленное ФГБУН Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
Предисловие
Это малоприятный рассказ
не про маменькиного сыночка,
а о жизни «маленького плевочка»,
как себя окрестил
недопроклятый русский поэт…
Евгений Евтушенко
Писатель больше всего боится забвения. Казалось бы, публикация произведений от этого уберегает, но это не так. Тысячи лет назад выбитые на камнях надписи скалывали, слова с пергамента соскабливали и смывали, писали новое, свое. Позже книги сжигали, и не только потому, что они вредны, – попросту печки топили, и в огонь летели последние экземпляры; а с увеличением тиражей и сжигать оказалось не надо – большинство книг, бумажных или цифровых, не замечают. Совершенно. Почти всё тут же погружается в Лету. Вместе с именем автора.
По сути, из русской литературы мы читаем пусть золотые, драгоценные, но крупицы. «Житие» протопопа Аввакума из XVII века, книги двух-трех авторов века XVIII, десятков двух XIX, десятков трех-четырех XX. Еще кое-кого знаем лишь по фамилии.
Серебряный век породил множество талантливых поэтов – живут в русской литературе считаные имена. Еще несколько появляются в антологиях, кто-то упоминается в статьях и монографиях через запятую… Время от времени литературоведы пытаются вернуть читателю очередного забытого сочинителя, издатели выпускают сборники стихов, но почти всегда это заканчивается неудачей: сочинитель вновь уходит в небытие.
Воскреснуть в литературе – такое же чудо, как и в реальной жизни.
Чудо произошло с тем, кто, казалось, был забыт прочно и навсегда, кто писал о себе в тридцать восемь лет от роду и за девять лет до смерти: «…к сожалению моему, судьба неудачника отяготела надо мною и, вероятно, я не только не добьюсь известности и успеха, но погибну безвременно от голода и нищеты. <…> Неудачником рожденный и в гроб должен сойти неудачником, не поведав о себе ничего и никакого следа в жизни не оставив».
Человек, как говорится, предполагает, а Бог (или некие другие силы) располагает. И теперь этот человек на слуху. Более того, на него возникла чуть ли не мода. О нем пишут литературоведы и историки литературы, его лирические стихотворения, красиво оформив виньетками, выставляют на своих страницах в интернете девушки с нежной душой, а стихи иного рода – декаденты, панки, некрофилы, эзотерики наших дней.
Евгений Евтушенко не только включил его произведения в «Строфы века», но и посвятил ему свое стихотворение, в котором назвал «недопроклятым».
Зовут этого «недопроклятого» Александр Иванович Тиняков.
Интерес к нему возник в начале 1990-х, и не потому, вероятно, что тогда было многое рассекречено, стало доступно исследователям (получая не так давно в архивах и библиотеках его прижизненно изданные книги, рукописи, письма, материалы о нем, я видел, что большая часть их была затребована и в 1960–1980-е годы); нет, скорее всего, противоречивая фигура Тинякова, его необычная судьба оказались созвучны происходящему в ельцинский «переходный период», да и тому, что продолжает происходить сегодня.
«…О жизни Тинякова можно было бы написать увлекательный роман, особенно если бы о ней было известно лучше, чем нам сейчас», – предположил составитель и автор предисловия к первому после семидесятипятилетнего перерыва сборнику его стихотворений литературовед Николай Богомолов.
Замечу, для написания биографического романа не нужно особенно много материалов о жизни героя, но в общем полностью согласен: жизнь Александра Ивановича (это не фамильярность – его именем-отчеством назвал свой очерк, а вернее, по сути, рассказ Георгий Иванов) тянет на роман. Психологический, приключенческий, исторический, морализаторский… Героем (точнее, антигероем), правда не главным, его сделал не один писатель. Я попробую внести свою лепту – по возможности подробно покажу Александра Ивановича как человека и как персонажа. По-моему, далеко не во всем они схожи.
Часть первая
Человек
Орловская земля щедра на литераторов. Тургенев, Тютчев, Лесков, Фет, Апухтин, Якушкин, Писарев, Бунин, Зайцев, Пришвин, Андреев, Вольнов, Потёмкин, Блынский, Шорохов… Все красавцы, большинство – настоящие русские богатыри. Изумительные лирики и пейзажисты. И почти всех объединяют странные, с изломами, роковыми поступками судьбы, которые нельзя объяснить только изломами русской истории. Может быть, сама природа – мягкая, ласкающая глаз – порождает людей с непростым, скажем так, характером. Чтоб не было скучно…
Майя Кучерская начинает свою биографию Николая Лескова словами: «Лесков был человеком разорванным. Его постоянно „вело и корчило“, растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятьем, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и аггелом, праведниками и злодеями».
Биографию Тинякова можно начать так же.
И он был рожден лириком и пейзажистом. Правда, с первых же шагов на писательском поприще обратился к миру, казалось бы совершенно чуждому тому, в каком родился и рос, чуждому даже своей собственной природе, – обратился к декадентству. Смешно ведь – декадент из мужиков, Шарль Бодлер Мценского уезда. Но попытаемся понять.
Родился Александр Тиняков 13 (25 по новому стилю) ноября 1886 года в селе Богородицком того самого Мценского уезда Орловской губернии. Ныне это Свердловский район Орловской области. В районе два Богородицких; нужное нам – по переписи 2010 года в нем числилось двадцать пять жителей – стоит на реке Оптухе, впадающей в Оку. Природа классически русская: равнины, рощицы, овраги. Над всем этим – широкое поле неба.
Правда, в уголовном деле Тинякова, хранящемся в архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, местом его рождения указано село Становой Колодезь. Впрочем, это рядом, каких-то несколько километров.
В повести в документах «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи»1, давшей старт десяткам и десяткам статей о Тинякове, Вардван Варжапетян пишет: «Крестьянский сын, он и гордился и стыдился за мужицкое свое происхождение; выдавал себя то за нищего, то за наследника богатого орловского помещика, радовался, читая на конвертах „Его высокородию А.И.Тинякову“».
В утверждениях Тинякова, что он то из крестьян (подчеркну – государственных, а не крепостных), то нищий, то наследник богатого помещика, нет противоречия. Его род по отцу действительно был крестьянский. Но еще в 1860-х прадед купил первое имение (300 десятин земли), затем второе (600 десятин), третье, четвертое… Тиняковы были богатые помещики, но не дворянские, не купеческие, а именно крестьянские (кстати сказать, почти не освещенное литературой сословие, вернее, социальная группа). Порядки в таких имениях царили отнюдь не аристократические. (В скобках замечу: в полном собрании сочинений Льва Толстого Александр обозначен как «шестнадцатилетний сын купца, церковного старосты»2.)
Отец время от времени лишал непутевого, оторвавшегося от их среды сына наследства, не высылал денег, и тот превращался в нищего, выпрашивающего у знакомых дворян-литераторов поношенные костюмы. Потом прощал, и Тиняков превращался в наследника громадного состояния.
Дальше я буду периодически цитировать «Отрывки из моей биографии» (так, с высокомерной скромностью, назвал семь листочков из школьной тетради в клеточку, ныне хранящихся в Пушкинском Доме, сам Тиняков), написанные в апреле 1925 года по просьбе библиографа Петра Васильевича Быкова. Этот документ до сих пор является, в общем-то, единственным источником сведений о детстве и отрочестве нашего героя.
Род Тиняковых на Орловщине известный. Дед поэта Максим Александрович был фигурой поистине знаменитой: богач, жертвователь на строительство храмов, настоящий образец главы патриархального семейства3. Жители Станового Колодезя даже отлили его бюст, который пропал после революции.
В семействе Тиняковых кипели нешуточные страсти. Вот что вспоминал Александр Иванович в своих «Отрывках…»:
Всех своих многочисленных сыновей и замужних дочерей, а также и внуков, он (Максим Александрович. – Р.С.) держал в полном у себя подчинении. Помню, как в 1897 г. по его настоянию его старшая внучка, моя кузина, вышла замуж за нелюбимого человека. Таких слез, какие проливала она, – да и почти все ее близкие, – перед этой свадьбой, я не видал и на похоронах. Эта самая кузина была моей первой страстной любовью: у меня до сих пор цела ее карточка с надписью от 1893 г. (мне шел тогда 7-й год).
На мою жизнь дед пытался повлиять только однажды – в 1897 г., когда отец решил отдать меня в гимназию. Дед решительно воспротивился. Но и отец, во всем ему подчинявшийся, на этот раз настоял на своем.
Теперь я думаю, что дедушка был по существу прав. О моих психических особенностях, в частности о моих литературных способностях он, конечно, тогда знать не мог, а среднего ребенка из такой патриархальной крестьянско-кулацкой среды отдавать в гимназию безусловно не следовало, так как для того, чтобы вести хозяйство и торговлю и выжимать из крестьян пот, вовсе не нужно знать ни Цезаря, ни Овидия, ни геометрию, ни русскую литературу. Дедушка был мудро последователен, а отец проявил здесь очень нездоровый уклон, разросшийся впоследствии до того, что он даже и дочерей не только отдал в гимназию, но и отпустил их потом на высшие женские курсы, правда – не без борьбы. Это я считаю явным признаком разложения праведной патриархальной жизни.
Предки моей матери происходили из мещан г. Орла. Дед с материнской стороны – Лука Федорович Позднеев († 1895) также был человеком выдающимся. Не получив никакого образования, он играл видную общественную роль в городе, в 1881 г. был в числе депутатов, поздравлявших императора Александра III с восшествием на престол, принимал у себя на дому архиереев и губернаторов. С семейными он также обращался деспотически. Его старший сын отравился, потому что дед мой не позволил ему жениться на любимой девушке. Хотя этого моего деда я не люблю, но в данном случае считаю его правым, а к памяти моего дяди-самоубийцы отношусь с величайшим отвращением, хотя я и никогда не видал его, т. к. в год его самоубийства мне не было еще года от роду.
Отец мой – Иван Максимович († 1921) унаследовал от деда его коммерческие способности и до значительной степени его властный, крутой характер. Но дедовской силы в нем все же не было. Надо, впрочем, сознаться, что и внутренние жизненные условия, выпавшие на его долю, оказались значительно тяжелее, чем те, среди которых жил дед.
Дед был женат на крестьянке из родного села; она нарожала ему здоровых, грубоватых ребят и до глубокой старости († 1906) хлопотала по хозяйству, следила за каждой тряпкой и щепкой, за каждым куриным яйцом и грошом.
Отец же мой женился на горожанке, взятой из семьи состоятельной и на вид почтенной, но уже тронутой вырождением. <…> Мать моя – Мария Лукинична († 1919) также не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена. Но ее выдали замуж за грубого, земного, напористого человека, соединили огонь и лед, и – в результате – еще одна патриархальная русская семья оказалась подточенной изнутри.
Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь Откомхозом, и была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши-ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники…
Было бы долго рассказывать здесь о моих семейных отношениях, о моей борьбе с отцом, закончившейся только с его смертью, о моих детских и юношеских впечатлениях. Это – тема для целого романа, и, если б я выбился когда-нибудь из невероятной нищеты, я написал бы его.
Вот из такой среды вышел один из самых колоритных персонажей Серебряного века.
* * *
«Писать прозой» Тиняков начал еще до поступления в гимназию; первые стихи сочинил в пятнадцать лет. В конце 1902 года бросил орловскую гимназию, где одним из преподавателей был уже тогда известный литератор Федор Крюков (некоторые исследователи приписывают ему авторство первой книги «Тихого Дона»), и впервые серьезно рассорился с родителями.
Кстати, об учебе в гимназии Александра Тинякова (или очень похожего на него юноши) можно узнать из повести «Картинки школьной жизни» Крюкова, которая была не так давно переиздана. По версии И.В.Самариной, Тиняков стал прототипом главного героя – Петра Кривцова4. С этим сложно не согласиться:
Он (Кривцов. – Р.С.) занял место в самом отдаленном углу «камчатки», и на стене, как раз над его головою, красовалась крупная надпись чернилами:
Сверхчеловек
Петр Иванович Кривцов
Одинокий! <…>
На уроках он скучал до отчаяния, зато издавал совместно с некоторыми семиклассниками журнал «Лучи Зари», а в пансионе выпускал раз в неделю газету «Пансионские Известия». Этим литературным опытам он посвящал большую часть своего времени. Гулял мало, перестал ухаживать за гимназистками и позволял себе «развлекаться» только в классе. <…>
Весь персонал инспекции и большинство учителей считали теперь Сверхчеловека «заразой» класса и даже всей гимназии. Он, с своей стороны, проклинал это заведение, громил его в своих журнальных статьях, издевался и мечтал, как о высшем празднике, о том дне, когда он расстанется с «мертвым домом».
Действительно, в бумагах Тинякова есть списки содержания рукописного журнала «Лучи Зари» с августа 1903 по май 1904-го. Выпускал он в 1902–1903 годах и журнал «Школьные досуги» – сейчас переплетенные восемь номеров его хранятся в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С.Тургенева.
Что делал шестнадцатилетний Александр Иванович несколько месяцев после того как бросил учебу, где жил, практически неизвестно. Осталось очень мало документов. Например, коротенькое письмо Зинаиды Гиппиус, датированное 2 мая 1903 года, извещающее, что стихи Тинякова не могут быть напечатаны в журнале «Новый путь».
Еще один документ – письмо Тинякова Льву Толстому от 17 сентября 1903-го, отправленное из Орловской губернии:
Я был у Вас в Ясной Поляне в январе, когда Вы были больны. В ответ на мое письмо Вы ответили мне коротенькой запиской, в которой, между прочим, не советовали разрывать с родителями. Вы дали этот совет, не зная меня и моих обстоятельств, но тем не менее мне тогда же пришлось последовать ему. Я возвратился в семью и даже в гимназию.
Письмо Толстого, на которое ссылается Тиняков, неизвестно. В своем рассказе «Дедушка», опубликованном в журнале «Урал» (2017, № 1), я попытался представить последние часы жизни Александра Ивановича, его воспоминания о детстве, юности, мысленное раскаяние перед дедом Максимом Александровичем (умершим в переломном для нашего героя 1903-м), и сочинил фрагмент того пропавшего письма Толстого.
Забавно, что теперь этот фрагмент можно встретить в интернете в некоторых очерках о Тинякове, представленный как подлинный документ…
Дошедшее до нас послание Толстому Александр отправил через несколько дней после своего литературного дебюта: 14 сентября в «Орловском вестнике» было напечатано стихотворение в прозе «Последняя песня» за подписью «Одинокий».
Псевдоним, по общему мнению литературоведов, был позаимствован у шведского писателя Стриндберга – как раз в 1903-м вышел роман с таким названием. Впрочем, быть может, на выбор псевдонима Тинякова натолкнуло название деревни Одинок, находящейся неподалеку от его родного Богородицкого.
Первые публикации Тинякова-Одинокого были в надсоновско-декадентском ключе:
…И, припомнив все Страданья, мрак и холод Умиранья,
Высоко в простор небесный взглядом мертвым
я взгляну,
И к лучам звезды прелестным из темницы своей
тесной остов рук я протяну,
И, нарушив сон чудесный раздирающим рыданьем,
Воплем жалобы, стенаньем тишь Молчанья всколыхну…
Но писал он и другое:
Черные впадины окон
Нежно целует закат,
Землю и дали облёк он
В розово-грустный наряд.
Сумерки – темные чёлны
Близят к закатным огням.
Сумерек мягкие волны
Солнечным ранам – бальзам!
Кротким молитвенным гимном
Встречу прибытие их;
В воздухе вечера дымном
Тихо зареет мой стих.
В декабре того же года Тиняков с рекомендательным письмом Федора Крюкова побывал в Москве, где завел первые литературные связи – с Серафимовичем, Леонидом Андреевым («благожелательно, – как к земляку, – отнесся ко мне»), Брюсовым. «Знакомство с первыми двумя мне не дало почти ничего, но зато Брюсов на долгое время стал моим литературным учителем и предметом моего поклонения».
В 1904-м поэтические опыты Тинякова опубликованы в московском альманахе «Гриф», затем стихотворения печатались в «Весах», «Золотом руне», «Перевале», «Голосе жизни», «Аполлоне». В конце 1904 года Тиняков посылает своему знаменитому земляку Ивану Бунину подборку для журнала «Правда» и вскоре получает сердитый, но честный ответ:
…А кое-что мне прямо не нравится – как напр<имер> стих<отворение> «Мертв<енно>-бледн<ые> крылья»… с его «скорпионовcкими» выкрутасами в роде какой-то «свечи» в какой-то совершенно для меня непонятной «Заброшенной» дали, написанной почему-то с больш<ой> буквы, и мелких декадентских новшеств, состоящих в употреблении во множеств<енном> числе таких слов, как «шум», «дым», и т. д.
Впрочем, некоторое время Бунин не терял надежды сделать из Тинякова реалиста. Но и автором «Скорпиона», возглавляемого главным символистом России Валерием Брюсовым, Александр Иванович не стал (в отличие от Бунина). Отношение Брюсова к Тинякову вообще странное: несколько лет он давал молодому последователю надежду на издание книги, обещал протекции и печатные отзывы о его стихах, но ничего не сделал.
Может быть, причина в том, что Тиняков публиковался на страницах главного конкурента «Скорпиона» в Москве – альманаха «Гриф»? Не исключено, что Александр Иванович, столь приятный честолюбию Брюсова как его последователь, был все-таки поэтом (по крайней мере в то время) более чем посредственным, и мэтр не хотел «мараться» похвалами. А может, корень публичного молчания Брюсова о Тинякове – любовный треугольник: Брюсов – Нина Петровская – поэт Одинокий. («Не целуйся с Одиноким», – просил Валерий Яковлевич в одном из писем.)
Нине Петровской Тиняков посвятил такой акростих:
На пажити земли всещедрая Гатора
Из глубины своей Тебя послала нам.
Над пасмурной страной – Ты луч нетленный Гора,
Алтарь любви живой и вечной страсти храм.
Пленительны твои загадочные очи,
Елеем нежности смиряя волны бурь,
Ты проясняешь в нас заветную лазурь,
Рассветною зарей встаешь над скорбью ночи.
Огнеподобный взор Твой ярок, жгуч и быстр,
В душе Твоей всегда звенит волшебный систр,
Cзывая всех к Тебе на праздник поклоненья.
Кругом и тень, и мрак, и мертвые слова,
А Ты стоишь, светясь, Улыбка Божества,
Являя на Земле Гаторы воплощенье.
Вскоре после выхода первой тиняковской книги «Navis nigra» («Черный корабль», «Черная ладья») в 1912 году, на которую Брюсов, вопреки обещанию, не отреагировал ни рецензией, ни хотя бы несколькими словами в печати, их отношения практически сошли на нет. В 1915-м в письме Владиславу Ходасевичу герой нашей книги напрямую называет своего учителя «бездарным».
* * *
О жизни Тинякова до 1912 года сведения скудные. Аккуратные подписи к стихотворениям показывают, что он много ездит. Москва, Орел, Богородицкое, село Пирожково, Киев, деревня Кишкино, Самара, Брянск, Курск, Тула… Несколько стихотворений апреля 1906 года подписаны «Орел, тюрьма, камера № 81». За что он попал за решетку – доподлинно неизвестно. Позже Тиняков намекал на свою революционную деятельность.
Вполне революционные стихи можно отыскать в его тетрадях той поры.
Тучи сгустились. Не видно ни зги…
Громче кричат, торжествуя, враги.
Мы отступаем… Уходим назад,
Местью священною души горят.
Тени погибших за дело святое
Вьются над нами печальной толпою.
Мы отступаем, но снова придем,
Песню о братьях погибших споем.
Ринемся смело мы в бой за народ.
Жажда Свободы нас в путь поведет.
Впрочем, следом идут контрреволюционные:
Не вашими кровавыми руками
Престол и храм свободе созидать:
Вы были, суть и будете рабами,
Тюрьмой вы рождены – и умирать
Вам суждено в цепях и за стенами!
Неведома вам страсти благодать,
Дешевой краской выкрашено знамя,
К которому вы мните мир собрать…
И все же больше – о любовной тоске, о грусти, о природе. В стихотворениях, не изданных при жизни или не вошедших в первую и вторую книги, почти нет декадентства, зато много пушкинских, некрасовских, фетовских мотивов. Может быть, Тиняков их стеснялся, считая себя символистом?.. Наверное.
Но вот – хорошо же, проникновенно:
В полутемной, тесной горенке
Шьет швея с утра – весь день.
С ней ребенок – мальчик хворенький,
Бледный, тихенький, как тень
Он в углу сидит с игрушками,
Но не видит их давно,
И за беленькими мушками
Робко тянется в окно.
Взор туманится слезинкою…
Стук машинки… Мать грустна…
Он растает чистой льдинкою
В дни, когда придет весна.
Отношения с родителями то налаживаются (первую книгу, кстати сказать, Тиняков издаст на средства отца), то портятся. (Рассказ Александра Ивановича, что отец выгнал его из дому за роман с мачехой, – явная выдумка: отец и родня непутевого отпрыска принимали, никакой мачехи у него не было. Но сюжет заманчивый, попал в воспоминания Ходасевича, в очерк Евгения Евтушенко и кочует из одной интернет-статейки в другую.)
В автобиографии Тинякова это десятилетие уместилось в коротенький абзац:
С 1903 по 1912 г. я проводил часть времени в Москве и Орле, часть в имении своего отца или в имении дяди Михаила Максимовича († 1917 г.) (когда отношения с отцом особенно обострялись и он переставал высылать мне деньги).
Портрет Тинякова 1900-х – начала 1910-х можно найти в письме Ходасевича Борису Садовскому от 22 апреля 1916 года:
Тиняков – паразит, не в бранном, а в точном смысле слова. Бывают такие паразитные растения, не только животные. На моем веку он обвивался вокруг Нины Петровской, Брюсова, Сологуба, Чацкиной, Мережковских и, вероятно, еще разных лиц. Прибавим сюда и нас с Вами. Он был эс-эром, когда я с ним познакомился, в начале 1905 г. Потом был правым по Брюсову, потом черносотенцем, потом благородным прогрессистом, потом опять черносотенцем (уход из Северных записок), потом кадетом (Речь). Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды. Эта способность (или порок) физиологическая. Она ни хороша, ни дурна, как цвет волос или глаз. В моменты переходов он, вероятно, немножко подличал, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов). В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит. Меня лично иной раз от этого и подташнивало, но меня и от Раскольникова иной раз рвет.
Это написано в разгар так называемой тиняковской истории, речь о которой впереди и в которой Ходасевич занял позицию Садовского. Поэтому характеристика Тинякова резка, хотя упоминание о метаниях от эсеров к монархистам, от черносотенцев к кадетам справедливо. Александр Иванович будет метаться еще не раз.
Впрочем, до 1916 года Тинякова и Ходасевича будут связывать почти (или вполне) дружеские отношения. Сохранилось довольно много писем к нему Ходасевича (переписка продолжалась с 1907-го по 1915-й), и в них ни намека на то, что для Владислава Фелициановича Тиняков нуль или паразит. Наоборот. В письмах Ходасевича постоянно встречается «любящий Вас», «дорогой», «сердечно Ваш», «позвольте дружески пожать Вашу руку».
Они – ровесники, начинающие поэты – критикуют мэтров, обмениваются своими опытами, делают друг другу замечания и дают советы, которые и тот и другой нередко принимают. Так что в некоторых стихотворениях Ходасевича есть толика Тинякова. И наоборот.
* * *
Томик «Navis nigra. Стихи 1905–1912 гг.» герой нашей книги собирал тщательно и долго. Советовался со своим учителем Брюсовым, что засвидетельствовано в письме Валерия Яковлевича, написанном за два года до выхода сборника:
…Среди стихотворений, собранных Вами на «Черном корабле», есть несколько очень удачных. Два основных Ваших недостатка: пристрастие к хитрым рифмам и пристрастие к слишком страшным темам. От того и другого освободиться можно. Два основных достоинства Ваших стихов: ясность, четкость образов и мелодичность стиха.
От «пристрастия к слишком страшным темам» Тиняков, как мы увидим, освободиться не захотел или не смог. Изменилось качество выражения этих «страшных тем». Правда, произойдет это много позже…
Здесь я снова обращусь к Владиславу Ходасевичу, так как других свидетельств условно московского периода жизни Тинякова (хотя в Москве он появлялся наездами), в отличие от петербургско-петроградско-ленинградского, почти нет.
Вот что вспоминает Ходасевич в очерке «Неудачники», написанном в 1935-м:
В 1904 году в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого, впрочем, не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то – «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он – сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. <…>
Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота.
Чувствовалось, что собственные стихи не легко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях – и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.
Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал подготовлять первую книжку своих стихов, и чем больше по виду смиренничал, тем жгучее в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству, изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Навис нигер» – и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Навис нигра». К предстоящему выходу книги готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга…» Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним (впрочем, и псевдоним был указан. – Р.С.): должно быть, затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной5.
Но готовил Александр Иванович книгу слишком долго – она вышла в год, когда читателей увлек только что народившийся акмеизм, когда критики ругались из-за будетлян и эгофутуристов. Запоздалого символиста Тинякова, которому тогда исполнилось двадцать шесть, почти не заметили. «Всегдашние дети вчерашнего дня», – охарактеризовал собранное в «Navis nigra» Николай Гумилев.
Мешали выпустить книгу раньше не только строгость автора к своим произведениям, но и обстоятельства жизни. Вот из тетради Тинякова со стихами и рабочими записями 1909–1912 годов (сохранившиеся тетради допетербургского периода хранятся в Государственном музее И.С.Тургенева в Орле; некоторые страницы выложены на сайте музея):
В половине июля 1910 г. я тяжело заболел, и моя литературная деятельность возобновилась лишь в январе 1911 г.; к очень большому для меня сожалению, тетрадь от 1 янв. 1910 г. с переписанными набело стихами пропала во время моих скитаний по больницам, но, к счастию, у меня остались черновики почти всех моих стихотворений. Убедившись теперь, что чистовой тетради мне не вернуть, я решил по черновикам восстановить все наиболее значительные стихи и собрать их здесь, переписав по порядку. Что касается последних стихов 1909 г., то сделать это было очень легко, т. к. сохранилась библиографическая запись о порядке их написания. О стихах 1910 г. такой записи не сохранилось, и пришлось разбираться в массе черновиков…
Может, и отец не давал достаточную для издания книги сумму…
Издаваться за свой счет или за счет меценатов было популярно в России. Особенного расцвета этот способ донести свои произведения до читателя достиг в Серебряном веке. Причем в первую очередь среди стихотворцев. Тоненькие книжки стихов заполонили магазины, их пытались продавать на улице, как пирожки и папиросы, на творческих вечерах… Россию часто называют страной поэтов, и в 1900–1910-х они, кажется, впервые действительно явились массово (или, вернее, массою). Все не только сочиняли стихи, но и стремились их опубликовать, издать книжку, прочитать со сцены.
Многие будущие классики Серебряного века начинали с книжек за свой счет. Брюсов, Игорь Северянин, Цветаева, тот же Гумилев. Ну и большая часть тех, кто вроде бы не оставил следа. Таких были сотни и сотни. Достаточно заглянуть в книгу Николая Гумилева «Письма о русской поэзии», чтобы убедиться, что происходило тогда в литературе.
Pulsuz fraqment bitdi.