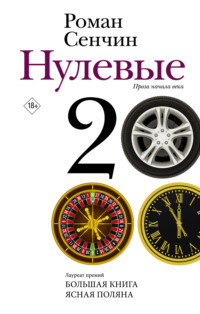Kitabı oxu: «Нулевые»
© Сенчин Р.В.
© Беляков С.С., предисловие
© ООО «Издательство АСТ»
Летопись прекрасной эпохи
Нашу жизнь будут знать по рассказам Сенчина, как мы знаем о жизни русских интеллигентов позапрошлого века по рассказам Чехова. Я не раз об этом писал. И предсказание мое сбылось намного раньше, чем я рассчитывал. Нулевые ушли в прошлое недавно, но все же это другая историческая эпоха. Времена изменились удивительно скоро и резко. Та же страна, вроде бы те же люди, а жизнь уже совсем другая. Мы не чувствуем нашего исторического времени, как рыба, должно быть, не чувствует воды, в которой живет.
Автор подошел к исторической хронологии жестко, по-математически. Сборник Романа Сенчина открывается рассказом 2001 года. Вопреки распространенному предубеждению, именно в 2001-м, а не в 2000-м начался новый век. Последний рассказ в книге датирован 2010-м. Полные десять лет. Но история не во всем подчиняется математике. На мой взгляд, нулевые начались той знаменитой новогодней ночью с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000-го, когда Борис Ельцин в последний раз обратился к «дорогим россиянам» и впервые произнес слова: «Я ухожу». Это и был настоящий, как позже выяснилось, конец 1990-х. Высшей власти достиг совсем молодой тогда Владимир Путин. Он так не походил на больного, уставшего и ненавидимого многими Ельцина, что со сказочной легкостью завоевал любовь народа, еще недавно совсем ничего о нем не знавшего. Это напоминало какое-то волшебство или мираж. Как раз в начале нулевых бестселлером стал роман Александра Проханова «Господин Гексоген». Там молодой президент – Избранник – в конце концов и оказался миражом: «Избранника не было. Только в кристаллическом ромбе кабины слабо пылала прозрачная радуга. Рассыпалась на пучки летучих лучей».1
Но миражей не было. Постепенно, шаг за шагом, месяц за месяцем стало ясно, что живем мы совсем в другом историческом времени. Многие считают, что в лучшем за всю историю России.
Нулевые – время сравнительно спокойное. В самом его начале еще гремели сражения второй чеченской войны. Но к середине десятилетия наступил мир, который казался вечным. Как будто навсегда прошло время войн и революций. Нулевые – время счастливого и трудолюбивого обывателя, который не ставит перед собой великих целей. Его заботит насущное: взять ипотеку, купить приличную машину, найти хорошего репетитора для детей. Всё, что нельзя съесть, выпить, использовать, – для него непонятно. И слава богу! Довольно было в нашей истории благородных правдоискателей, что довели до великих кровопролитий прошлого века. Теперь российские пассионарии шли главным образом в бизнес, создавая финансовые империи.
Одной из первых примет нового времени стали автомобильные пробки, заторы на дорогах. Может быть, в столице они появились и раньше, но в другие города России пришли именно в нулевые.
В моем детстве (80-е годы XX века) на улицах полуторамиллионного промышленного Свердловска изредка встречались даже лошади: они возили телеги с бидонами молока и сметаны из пригородных совхозов. Эти телеги исчезли в девяностые, вместе с совхозами. На улицах появились иномарки, но их было сравнительно мало. И вдруг, в самом начале нулевых, – целая автомобильная революция. Машины завелись даже у людей, еще недавно еле сводивших концы с концами. Теперь они «стали на ноги». Люди уже не ограничивались одной машиной на семью. Сколько в семье взрослых, сколько совершеннолетних – столько и машин. Как-то постепенно стало исчезать привычное и всем понятное слово «иномарка». Считалось, что иномарка по определению лучше нашей машины, не важно «Мерседес» это или «Нексия». Теперь иномарок стало много, а в различиях между ними начали разбираться, наверное, даже дошкольники из старшей или подготовительной группы детского сада.
Из дворов убрали столы доминошников, исчезли и привычные старушки-сплетницы, что сидели на лавочках, кажется, со времен незапамятных. Неуютно стало во дворах. Воздух отравлен десятками автомобилей, да и сами лавочки уже поставить некуда. Всё свободное пространство заняли парковки.
Обзаводясь машинами, люди осуществляли давнюю, советских времен мечту. В СССР человек с машиной – состоявшийся, успешный человек. И вот теперь люди торопились доказать свою успешность, состоятельность. Если не хватало денег, брали кредиты. Иллюзия успеха? Да, но все же не вполне иллюзия. Красивая заграничная машина в собственности. Как ни крути, а сбылась мечта.
Начался бум потребительского кредитования. В девяностые банки ассоциировались с какими-то темными делами, с финансовыми аферами. Герой культового фильма поздних девяностых «Ворошиловский стрелок» приходит в банк, изумляется: «Денег в стране нет, а на какие шиши банки строятся?» В нулевые уже не изумлялись. Дорожку в банк протоптали миллионы простых людей. И банкиры давали им кредиты, зная, что большинство – честно отдадут деньги с процентами. Российский заемщик – ответственный, добросовестный, в меру пугливый – не станет нарываться на конфликт с могущественным финансовым монстром
На деньги, свои и кредитные, ремонтировали квартиры, превращая старое жилье в комфортабельные апартаменты с удобствами, о которых и не мечтали еще несколько лет назад. Обычная, нормальная квартира без новомодного евроремонта перестала цениться («бабушкин вариант», как презрительно называют ее риелторы).
Однажды, как раз году в 2001-м, я услышал рассказ девушки, профессорской дочки, как она предпочитает проводить летний отдых, куда, к какому морю любит ездить. Это мне казалось историей из другой жизни. В 90-е и я, и очень многие жители моего города только вспоминали, как ездили на море еще в Советском Союзе. Пройдет несколько лет, и к морю снова поедут миллионы людей. Но уже не в старые, обжитые Сочи и Ялту, а в Турцию, Италию, Испанию, Таиланд, Малайзию, Индонезию, на Мальдивские острова – купаться в Индийском океане. Или на Канарские острова – купаться в океане Атлантическом. Круизы перестали быть привилегией немногих богачей. Жители спальных районов поехали на далекие южные моря, о которых их родители разве что читали у Жюля Верна. А многие молодые люди вовсе оставили скучную жизнь в холодной северной стране и поселились где-нибудь на Гоа или в Таиланде, Камбодже, Вьетнаме. Хочешь, купайся в океане хоть круглые сутки, хочешь – медитируй, постигай тайны буддизма, кришнаизма, шиваизма…
Оставшиеся на родине жили теперь тоже по-другому. В 70–80-е советским гражданам приходилось много часов проводить в очередях. И в нулевые люди снова начали проводить в магазинах по многу часов, только теперь они не в очередях стояли, а занялись «шопингом». Варваризм, у которого нет и еще недавно не могло быть русского аналога. Провести в торговом центре выходной день, оставить ребенка в комнате для игр, а самим часами подбирать новые наряды или еще что. Рассказали б мне в детстве о таком отдыхе – не поверил бы. «Общество потребления» складывалось у нас уже в советское годы, начиная еще с хрущевского времени. Но только в нулевые потребление стало настоящим образом жизни. И теперь уже не покупатели выстраивались в очередь за товаром, а сами продавцы готовы стать в очередь перед состоятельным покупателем.
Товары, что в советское время были для избранных, для номенклатуры и для золотой молодежи, в нулевые стали доступными. «Хотите попробовать французскую сигарету?.. Кто откажется от французской сигареты! На пачке нарисован петух и написано “Голуаз блё”», – спрашивает герой повести Василия Аксенова «Звездный билет», культовой книги начала шестидесятых. А герои Сенчина запросто покупают сигареты «Голуаз» в обычном ларьке.
А что говорить о бытовой технике, которая была некогда предметом роскоши? Когда-то квартиры грабили, чтобы унести телевизор или видеомагнитофон. Сейчас они и даром не нужны. Некуда девать. Плоский телевизор с огромным экраном, DVD-проигрыватели, компьютеры, ноутбуки стали доступны, дешевы, привычны именно в нулевые. В повести Сенчина «Ничего страшного», написанной в самом начале нулевых, ноутбук – еще редкий, диковинный и дорогой девайс. Муж Ирины, счастливый обладатель этого чуда техники, оправдывается перед ней: «Я на квартиру копил, <…> хотел снять однокомнатку, а тут вот предложили…» Для героев Сенчина середины – второй половины нулевых такое уже и не представить.
Совсем иначе стали питаться. В рассказе «Изобилие» 1995 года перечисляется богатый (сейчас кажется – скромный, а тогда вполне себе богатый) ассортимент продуктового магазина: «Колбасы – пять сортов вареной и три копченой. Сервелат, салями. Ветчина рубленная и просто ветчина (видимо, спутал лирический герой ветчинно-рубленную колбасу с ветчиной. –С.Б.). Сыры – “Нежный”, “Голландский”, “Костромской”, “Пошехонский”, какой-то еще с зеленой плесенью…» Но на все это 2изобилие нет у героя денег, даже на хлебушек нет… Магазин для него – как музей.
А вот герой рассказа «Сорокет» (вторая половина нулевых) с удовольствием ходит по магазину, неспешно выбирает, что взять: «Юрьев ходил вдоль рядов, складывал в пакеты одно, другое, третье. Помидоры, огурцы, зелень, куриные грудки (жена пусть запечет в сыре), сыр, несколько видов колбасы (сначала хотел активно рекламируемое “Останкино”, но остановился на проверенном “Вегусе”) – копченой, сырокопченой, салями, сервелата, бастурмы немного, буженинки, карбоната – для мясного ассорти; несколько видов рыбы – для рыбного. Маслины, оливки…» При желании он может взять даже «какую-нибудь дорогую ерунду вроде консервированных улиток или кенгурятины». В восьмидесятые так питались разве что большие начальники, представители номенклатуры или преуспевающие подпольные дельцы. В девяностые – «новые русские» (понятие, которое именно в нулевые забудут), то есть бизнесмены или бандиты, или бизнесмены-бандиты, очень быстро разбогатевшие. А герой «Сорокета» – обычный человек, не очень-то преуспевающий. Один из многих. Такой же и Денис Чащин из романа Сенчина «Лед под ногами». В юности был рад рису с килькой в томате, а теперь «почти автоматически» набивает сумки, пакеты «обычным набором: немного свинины, немного баранины, розовая, аппетитная говядина, немного телячьей печени, филе индейки. В одном из тонаров торговали полуфабрикатами. Недорогими, но качественными. Чащин любил манты и говяжьи рубленые бифштексы…» Он медленно возвращается домой, «с удовольствием приподнимая и опуская тяжелые, туго набитые пакеты». Не севрюжина с хреном, конечно, не роскошь. Просто сытная, благополучная жизнь. В истории России случались хорошие времена, но такого не было, кажется, никогда. Я не экономист, а потому не буду искать объяснения в ценах на нефть или в других причинах. Сенчин и его герои тоже не ищут. Он стал не столько аналитиком, сколько летописцем этой удивительной, уникальной для нашей истории эпохи.
Литературные нулевые начались почти одновременно с политическими. Литературные девяностые были разнообразны. Поздняя военная проза Виктора Астафьева не имеет ничего общего с «Кысью» Татьяны Толстой (опубликован в 2000-м, писался с 1986 года). Фантасмагории Юрия Буйды времен его «Бориса и Глеба» написаны для одного читателя, «Генерал и его армия» Георгия Владимова – совсем для другого. «Голубое сало» Владимира Сорокина, «Чапаев и пустота» и «Generation “П”» Виктора Пелевина, «Двести лет вместе» Александра Солженицына – становились литературными событиям, но написаны они как будто в разные эпохи. И все же тогдашняя «прогрессивная» критика настаивала, что мы живем в «ситуации постмодерна», в эпоху постмодернизма: «Кто-то (Михаил Эпштейн, Вячеслав Курицын, отчасти Марк Липовецкий) видел в его полистилистике наглядное проявление абсолютно новой культурной парадигмы, что либо отменит, либо подвергнет деструкции все те художественные богатства, которые выработало и будто бы уже в архив отправило человечество», – вспоминает критик и литературовед Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя», открывший читателю Виктора Пелевина. Критики-посмодернисты искренне возмущались, когда премию «Русский Букер» (за лучший роман года, а позже – и десятилетия) вручили Георгию Владимову, писателю-реалисту, наследнику традиций Льва Толстого. В 2001-м студент МГУ Сергей Шаргунов написал в своем манифесте «Отрицание траура» про «агонию постмодернизма». Ему мало кто поверил, но исторически Шаргунов оказался прав.3
«Теперь самому смешно, – замечает Чупринин. – Поскольку постмодернизм – у нас по крайней мере – оставив в истории несколько впечатляющих литературных памятников, пошел “путем зерна” и тихо истлел, дав реализму подкормку, в которой реализм, безусловно, нуждался. Технический репертуар прозы действительно расширился, действительно вобрал в себя – да и то наименее отчаянные, наименее “безбашенные” – средства воздействия на читательскую психику. Вот, собственно, и все».4
Реализм вернулся в русскую литературу и снова занял в ней первое место. И в том немалая заслуга Романа Сенчина. Мы читаем о прошлом по двум причинам. С одной стороны, нам любопытно, как жили люди в прошлом, как одевались, что носили, что ели-пили. С другой, нам более всего интересно, что люди и сто, и десять лет назад в чем-то похожи на нас. Они зарабатывают себе на хлеб, они ищут свое счастье, они влюбляются и разочаровываются в любимых. Мы ищем и узнаем самих себя даже в героях Чехова, Толстого, Шолохова, хотя общих черт с ними у нас все меньше. Тем более мы находим общее у современного русского писателя.
Сенчин умеет рассказать с необыкновенной точностью, дотошностью о жизни людей. По его книгам в самом деле можно изучать историю. Не политическую, не историю президентов и депутатов. А историю простого человека, историю повседневной жизни. Самую главную и самую важную для нас историю. И политика интересна Сенчину лишь тогда, когда она становится частью повседневной жизни человека. Как в рассказе «Тоже история». Впрочем, в нулевые это встречается редко. Люди заняты другим. Трудятся, отдыхают, растят детей, ведут жизнь, иногда тяжелую, иногда комфортную.
Фирменная черта Сенчина – знание жизни и внимание к деталям. Мы редко хорошо помним даже прошлогоднюю погоду, забываем, какие фильмы смотрели несколько лет назад. Далеко не каждый вспомнит, сколько он зарабатывал лет десять назад. Историки еще не успели заняться столь недавним прошлым, да и не уверен, что им хватит времени и сил, чтобы так подробно, детально, скрупулезно реконструировать жизнь людей, как это делает Сенчин. Из его повести мы узнаем, что доцент-филолог в солидном нестоличном вузе зарабатывал в начале нулевых около 2000 рублей. А его жена, торговавшая сигаретами в киоске, получала 2500. Узнаем, что пачка «Пэлл Мэлл» стоила 16 рублей, а «Голуаз» в красной пачке – 21 рубль, «Твикс» и «Милки Вэй» по 8 рублей. Пятнадцать минут попрыгать в детском замке-батуте – 15 рублей. Сенчин обычно указывает, какую именно колбасу, какой именно сыр покупают его герои. Мы знаем и ассортимент табачного ларька, и содержание лекций по древнерусской литературе, и заголовки статей в бульварной газете, и еще множество подробностей жизни. Только сначала они кажутся странными, излишними. Очень скоро понимаешь, что эти подробности бесценны. Кто сейчас помнит, какой фильм смотрели на видеокассетах (а позже – на дисках) много лет назад? Какой кофе пили? «Кофе он пьет в последнее время “Пеле”, а кружка с надписью “Нескафе”». «Нескафе» и сейчас продают, но, если б не Сенчин, я бы и не вспомнил о кофе «Пеле», который активно рекламировали в начале нулевых.
Впрочем, Сенчин не дает нам забыть, что и в «тучные» нулевые очень многие люди жили бедно. Едва ли не добрая половина героев этой книги трудится на собственных огородах, чтобы не тратить свою «зарплатку на базарные огурцы и перемороженную свинину». Даже выловленных на рыбалке карасей не поджарить – на масло денег не хватает: «Так его ж покупать надо! Бутылка-то тридцать пять, что ли, рубликов…»
Доцент Губин и его семья не голодают, но лишних денег нет. Возможность подработать довольно необычным (читатель этой книги узнает, каким именно) путем – очень выручает его.
Может, сгущает краски Роман Валерьевич? Бедность в тучные нулевые? Да, и в нулевые бедности было сколько угодно. Вот вам подлинные мемуары преподавателя, кандидата наук, серьезного ученого, который работал в нескольких коммерческих вузах Екатеринбурга: «В 2007-м у меня родился первый ребенок, и вот тогда начались проблемы всерьез. Начался натуральный голод. Не такой, конечно, как в блокадном Ленинграде, но все же пугающий своим отчаянием, которое меня начало охватывать. Голод – это когда начинаешь критически экономить на еде, а денег все равно ни на что не хватает. Когда не знаешь, что еще можно продать или у кого еще можно занять, чтобы купить детское питание своему малышу. И так продолжается неделя за неделей, месяц за месяцем. <…> На рубеже нулевых и десятых годов мне довелось от УрГУ поехать в Челябинск для проведения в местном госуниверситете тура региональной олимпиады абитуриентов по истории. Ко мне тогда для сопровождения приставили одного молодого местного преподавателя, кандидата наук, который всего на несколько лет был старше меня. Официальные мероприятия завершились быстро, большая часть дня прошла в разговорах с ним. Он был женат, жена работала в том же вузе. Университет “любезно” предоставил им комнату в общежитии с двумя койками. На пару они зарабатывали чуть более 20 тыс. рублей в месяц. И они твердо знали, что у них никогда не будет ни детей, ни своего жилья, ни полноценной семьи с собственным бытом и хозяйством. А будут только ежегодная борьба за физическое выживание, предполагающая крайнюю экономию на всем, бесконечная и все более возрастающая учебная нагрузка и бесконечные унижения».5 Это тоже нулевые.
В рассказе 2001 года герои «За встречу» пьют разбавленный спирт, закусывая солеными огурцами и пирожками с картошкой. В середине нулевых Николай Дмит-риевич из рассказа «Тоже история» может оценить, хорош ли двойной эспрессо в столичной кофейне. Меняется стол, меняется жизнь, меняются привычки героев, их профессии, занятия. Остается неизменно лишь ощущение бессмысленности, неправильности жизни. Благополучие Никиты из повести «Конец сезона» эфемерно: ему уже тридцать два, многое в жизни он упустил. После тридцати пяти на работу не берут, осталось три года…
Герои Сенчина часто говорят о счастье, но счастья этого не находят. Оно еще более призрачно, чем благополучие: «Их счастливая пора, как оказалось, уместилась в несколько коротких осенних недель, когда они встречались урывками – то он поджидал ее после лекций возле университета, то она пробиралась в его театральную мастерскую» («Ничего страшного»). А потом муж уходит из семьи, и жена не знает, брошена она или нет, есть ли у нее муж? А у продавщицы из рассказа «Пусть этот вечер не останется…» и мужа-то нет. Вроде бы она любима, но будет ли у нее дом, семья, дети? Ей кажется, что, если будут, придет счастье. Увы, так бывает в добрых наивных фильмах, а не в жизни героев Сенчина. Среди его героев много семейных, но все они еще дальше от счастья, чем холостые и незамужние. Даже дети в этом мире обречены: «Жизнь сложилась как сложилась, Татьяне Сергеевне почти пятьдесят, внуку вот-вот четыре. Одна надежда, что у него все хорошо сложится. Слабая надежда, если откровенно признаться…»
Многие герои Сенчина заняты нетворческим физическим трудом. Ухаживают за огородами, сажают картошку, работают продавцами (одна из самых распространенных у него профессий, еще один знак времени), шоферами, милиционерами. Их работа нужная, необходимая, но как будто бесперспективная. Сколько ни старайся – все одно и то же. Вроде бы и стараются люди, надрываются даже, а ничего не меняется в жизни. В прошлом году пропалывали грядки, окучивали картошку, собирали урожай. И в этом году то же самое, и в следующем будет, если только какого-нибудь несчастья не случится. Труд его героев-интеллигентов, если вдуматься, гораздо хуже.
Что толку, если доцент преподает «в пединституте, рассказывая из года в год все одно и то же, а потом на экзаменах слушает сбивчивые пересказы собственных лекций…» Кому эти лекции нужны? Сенчин одним из первых ставит вопрос о бессмысленности высшего образования в современном обществе. В нулевые годы, как и еще прежде, в девяностые, высшее образование стало почти всеобщим. Только что кошки с собаками еще не обзавелись дипломами. Только вот вопрос – зачем? «На улицах Юрий Андреевич то и дело встречает знакомые лица тридцати-, двадцатипятилетних парней и девушек; и каждый раз как поленом по голове, когда узнает он в троллейбусной кондукторше бывшую бойкую девчушку, отлично прочитавшую доклад на тему “Областнические тенденции в литературе Древней Руси”». Жизненно, что уж там говорить.
Бессмысленность существования – одна из главных тем философии прошлого, двадцатого века, не потерявшая актуальности и сейчас. Вот этой бессмысленностью более всего мучаются герои Сенчина. Не только его, конечно. В точности описаний, в узнаваемости социальных типажей Сенчин подобен Эмилю Золя. Но русский Золя не останавливается на этом, превращаясь… в русского Сартра.
Жизнь продавщицы чайной колбасы или сигарет «Ява Золотая» может быть куда более трагична, чем, скажем, жизнь Антуана Рокантена из романа Сартра «Тошнота». Антуан куда более свободен. Он не должен тратить время и силы на опостылевший труд, только чтобы выжить, заработать на жилье и еду. Он может выбирать, что ему делать. Остаться в Бувиле или вернуться в Париж. Писать ли дальше о надоевшем ему маркизе де Рольбоне или начать роман. Трагедия Лены или Ирины глубже, их жизнь воистину беспросветна. Им романа не написать. Большинство героев Сенчина (включая и преподавателей, писателей, художников) не могут обрести счастье в творчестве. Им остается просто жить ради жизни, потому что так уж заведено. Потому что даже бессмысленная жизнь лучше, чем небытие. А в жизнь вечную герои Сенчина не то чтобы не верят, но как-то о ней не задумываются. Доказав бессмысленность жизни, писатель не приходит к жизнеотрицанию. Герой Сенчина скорее будет отрезать от собственного тела куски плоти и есть их, чем покончит самоубийством. Самоубийство – трусливый и противоестественный шаг.
Нулевые окончились не под бой кремлевских курантов 1 января 2011 года. Настоящий конец нулевых – это прекрасная и зловещая Олимпиада в Сочи в 2014-м. В Москве, во время эстафеты олимпийского огня, факел погас четыре раза. Олимпийский Мишка чем-то отдаленно напоминал украинского президента Януковича, которому оставалось жить в Киеве последние дни. А в день закрытия Игр странно было видеть постаревшего Путина, полного какой-то мрачной решимости.
Конец эпохи гламура, конец вовсе не беззаботной, но все же какой-то легкой, приятной жизни, что стала привычной именно в нулевые. Время дешевого доллара и дорогого рубля, заграничного туризма и холодильника, полного импортных деликатесов (свои только учились делать заново), шикарных машин и доступных кредитов. Вернулось время бунтарей и поэтов, добровольцев и наемников. Оказалось, что в России остались пассионарные люди, которые живут не ради выплаты ипотечного кредита, не ради квартальной премии или нового урожая картошки. Может быть – к сожалению, остались, без них жизнь была бы понятнее, проще и легче, но поучать историю нелепо. Мы можем лишь изучать ее законы, а не навязывать их. Так или иначе, колесо истории сдвинулось, наступила другая эпоха, о которой пока рано говорить. Нулевые – тучные, сытные, гламурные – отодвинулись в сумерки исторического прошлого. Между тем герои Сенчина перешли из нулевых в десятые, а теперь уже и в двадцатые. Их жизнь – погоня за ускользающим счастьем, поиск смысла в бессмысленности жизни – темы вечные, актуальные и во времена Чехова, и в недавно прошедшие нулевые, и в наши дни.
Сергей Беляков
НУЛЕВЫЕ
Проза начала века