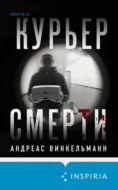Kitabı oxu: «Письма из тишины»

Человек выбирает зло не потому, что хочет зла; он ошибочно принимает его за добро, которое ищет.
Мэри Шелли
Himmelerdenblau by Romy Hausmann © 2025 by Penguin Verlag, a division of Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München, Germany
© Зубарева А., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство Эксмо», 2026
* * *
Однажды, давным-давно, жила-была рыбка, которая по ошибке заплыла в глубокую темную пещеру в Мексиканском заливе. Эта ошибка должна была стоить рыбке жизни, но бедняжка выжила. Она приспособилась – к холоду, к темноте. Она все меньше полагалась на зрение и все больше – на другие чувства. Неудивительно, что со временем рыбка изменилась.
Сначала исчезла окраска. Потом атрофировалась сетчатка. Глаза перестали развиваться, а потом и вовсе исчезли. Теперь рыбка слепа. Уродлива.
Но она выжила. Несмотря ни на что. Она стала такой, какой ее вынудила стать природа.
Интересно, что было бы, если б рыбке удалось вырваться из глубокой черной пещеры и выплыть на поверхность? Почувствовала бы она свет? Тепло? Смогла бы со временем к ним привыкнуть? Вернулись бы к ней глаза – и зрение? Или она бы…
Я замираю. Чужая рука уверенно ложится мне на плечо – и возвращает в реальность. Глубоко вдыхаю, пытаясь унять дрожь в пальцах.
– Позволь ему обрести покой, – звучит как приказ.
Я понимаю, что сейчас лучше подчиниться. Но все равно… хочу попробовать прощупать почву. Должна попробовать.
– Слушай… может, посмотришь в выходные, что там со светильником? – спрашиваю тихо, глядя на потолок, из которого торчат два оголенных провода, похожих на засохшие мертвые побеги.
– Посмотрим, – слышу в ответ.
Рука у меня на плече сжимается чуть крепче – как напоминание о том, что поставлено на карту. Я опускаю пальцы на клавиши и начинаю печатать.
«Ты должен перестать меня искать».
И мысленно добавляю: «Все равно ты меня не найдешь – здесь, в моей глубокой темной пещере».
1
Сценарий
Десять дней назад
ТЕО
Щелк – и что-то переключается у меня в голове. Щелк – как старый тумблер. Загорается свет, и я понимаю, что сижу на стуле. Но я на него не садился. Вокруг – белые стены. Передо мной этот, как его там… Стол, вроде бы из вишни, а может, из красного дерева. Слева окно. Солнце. В воздухе танцует пыль. Не думай о деталях, Тео. Детали только отвлекают. От него. От мужчины. Худой, кожа серая, нос как у петуха. На нем белый халат. Я ощупываю свою грудь, смотрю вниз. На мне рубашка и вязаный кардиган. Где же халат? Да, на нем – мой халат.
– Тео…
Он знает мое имя. Откуда? Что, черт возьми, происходит? Я резко встаю – стул накреняется. Я точно помню, что не садился. Мужчина подскакивает и успевает подхватить стул прежде, чем тот упадет.
– Всё в порядке, – говорит он. Его голос спокойный и монотонный, словно анестезия в звуковой форме.
Я хватаюсь за голову – она гудит. Препарат из десяти букв: суфентанил. C22H30N2O2S. Синтетический опиоид. Самый сильный из разрешенных в медицине. Регистрационный номер: 641–081–8. Теперь понятно. Он меня накачал. Накачал и усадил на этот чертов стул. Надо бежать. Немедленно.
Бросаюсь к выходу, но он, прихрамывая, догоняет меня у самой двери.
– Видишь? – говорит. Как будто что-то доказывает. Только я не понимаю, что именно. Я его не знаю. Он чужой. Нет… не совсем. Он – смазанное ощущение. Он – боль.
– Пожалуйста… – Тянусь к дверной ручке. – У меня есть жена. Вера. Она ждет меня к ужину.
Он осторожно касается моего плеча, медленно качает головой и все тем же ровным голосом говорит:
– Вера не ждет тебя, Тео. Она умерла. Четыре года назад.
– Умерла… – повторяю хрипло. Пытаюсь вспомнить какое-нибудь оскорбление, но по щекам уже текут слезы. Ублюдок. Вспомнил. Я злюсь на себя за то, что не вспомнил раньше.
Худой мужчина с носом как у петуха – это Клаус, Клаус Деллард. Мнит себя корифеем в области неврологии и психиатрии. А на деле – обычный ублюдок. Самодовольный болван.
Вместо того чтобы оставить меня в покое, он позвонил Софии. Она приехала за мной, будто мать, забирающая нерадивого сына из кабинета директора. «Прости, Клаус. Видимо, сегодня у него один из плохих дней. Хорошо, Клаус. Я о нем позабочусь, Клаус».
Клаус… тьфу.
– Может, ты все-таки сам сел на тот стул? – говорит она сейчас. – Ты ведь был на приеме. На приемах обычно садятся. Это нормально.
Я фыркаю. Лучше б она вообще не приезжала. Мне семьдесят четыре года, я могу поехать на автобусе. Любой дурак может. Как бы еще я добрался до клиники?
– Пап?
– Что этот кретин про меня наплел?
– Клаус? Ничего. Никто ничего про тебя не говорил.
– Не ври, София.
Наверняка и о Вере говорил. Можно подумать, я и сам не знаю, что она умерла. Можно подумать, меня там не было и я не держал ее за руку. А слова о том, будто она ждет меня к ужину, – просто оговорка. Сейчас день, 12:43 – смотрю на часы в машине Софии. Я хотел сказать «к обеду». К обеду, не ужину.
– Мне позвонили из регистратуры и спросили, не могу ли я тебя забрать. Вот и всё, пап. Правда, – говорит София.
Косой взгляд и эта ее дежурная улыбочка, которая должна меня подбодрить. Ненавижу, когда она так улыбается.
– Наверняка он опять что-нибудь тебе…
– Пап, ну хватит. Ты все время был рядом. Когда бы он успел мне что-то сказать?
Смотрю на нее. Она похожа на Веру в молодости, только… более жесткая. Черты лица резче, между бровей глубокая складка. Цвет волос другой. Ужасный, к слову.
Я считаю. Сейчас Софии должно быть тридцать четыре года – столько было Вере, когда она родилась. 2876 граммов, 47 сантиметров. Крохотная, как червячок. Ха! А еще утверждают, что у меня с памятью плохо…
Нужно выяснить, говорит ли София правду. Уверен: если Деллард и правда вбил ей в голову, что я забыл о смерти ее матери, она не сумеет это скрыть. Это будет тест. Да. Я устрою ей проверку.
– Твоя мать… – говорю и замолкаю. Жду ее реакции.
– Что с ней?
– С кем?
– С мамой. Ты хотел что-то сказать о маме.
Моя Вера… Я улыбаюсь.
– Она была такой красивой… – Я смотрю в окно, на небо. – Ты ведь помнишь, какой она была, София? Помнишь?
– Конечно, пап. Она была очень красивой.
– И не только снаружи, правда ведь? Внутри она тоже была красивой. Верила, что истинная суть человека заключена в его сердце.
– Да. Мама была особенной.
– А я изо дня в день резал грудные клетки, чтобы снова и снова убедиться: сердце – это просто кусок мяса. Но твоя мать… она была безнадежным романтиком. Всю жизнь полагалась на этот кусок.
Я вздыхаю. И вдруг вспоминаю, почему вообще заговорил о Вере. Наверное, хорошо, что она не видит происходящего, ведь истинная суть человека находится совсем не в сердце. Она – в голове. В лобной доле. Lobus frontalis.
– Да, мама была особенной. И будь она здесь, то посоветовала бы тебе дать Клаусу шанс. Он ведь и правда компетентный врач. И чуткий к тому же.
Я смотрю на Софию. Длинные, окрашенные в черный волосы оставили на футболке влажный след. Должно быть, она была в душе, когда ей позвонили из клиники.
– И с чего ты взяла, что он «компетентный»? Только потому, что на нем белый халат?
– Халат, папа.
Я уже открываю рот, чтобы возразить, и София добавляет:
– Прости. Я думала, тебе будет спокойнее с человеком, которого ты знаешь, чем с каким-нибудь чужаком, для которого ты – просто медкарта. Тем более что вы с Клаусом долго работали вместе. Он твой друг.
Звучит как вопрос. Не вижу смысла отвечать. Клаус Деллард никогда не был моим другом. Он – надутый индюк. Я и раньше терпеть его не мог. А теперь и подавно.
Мы молчим, молчим довольно долго. Потом София говорит:
– Я звонила Рихарду насчет твоей машины. Он заедет за ней после работы.
– Ага… – Значит, я все-таки приехал в клинику не на автобусе.
Точно. Не на автобусе. Да. Темно-зеленый «Сааб» 2011 года выпуска, стоит там, на этой, как ее… морковке у клиники.
– Рихард – это…
– Твой муж. Я не идиот, София.
– Я вовсе не хотела…
– Помолчи.
София послушно замолкает. И правильно – тишина лучше. Впрочем, спустя два светофора мне уже стыдно. София была такой крошечной, когда родилась… Совсем червячок. Снова смотрю налево.
– Ты у меня тоже красивая.
– Спасибо, папа.
– Только вот волосы мне не нравятся.
– Я знаю, папа.
Снова смотрю в окно, вверх, в небо, в синеву. Ты где-то там, Вера? Видишь меня? Если да – лучше не смотри.
Деллард говорит, я изменюсь. София говорит, уже изменился. Тру глаза, а заодно и лоб – пусть думает, что я просто потею. Ну а что, жара, лето – нормально ведь… Кто не потеет – тот труп. Или страдает ангидрозом – отсутствием потоотделения, чаще всего генетического. Выраженный ангидроз может нарушить терморегуляцию, в худшем случае привести к тепловому удару. А тот, в свою очередь, – к смерти. Я же говорю: кто не потеет – тот труп.
Снова вытираю лицо. Не потому, что плачу. Нет-нет! Я вообще никогда не плачу! Ну, почти никогда. Но сейчас точно не плачу. Сейчас я просто здоровый, бодрый, живой человек, который потеет. Вот и всё. Ха!
Весело оглядываюсь на Софию, но она на меня не смотрит. Сосредоточена на дороге. И правильно – водит она так же ужасно, как красит волосы.
– Если хочешь, я поднимусь с тобой, – говорит она, когда мы останавливаемся у шестиэтажного жилого дома в Шпандау. – Выпьем кофе.
Я качаю головой и открываю пассажирскую дверцу.
– Второй этаж, парковочное место шестьдесят восемь. Между серебристым «Ауди А6» и красным «Мини Купером». Если они, конечно, еще будут там вечером.
София смотрит на меня озадаченно.
– Рихард, – напоминаю я. – Он должен после работы забрать мою машину.
Я шарю по карманам брюк и кардигана, пока наконец не нахожу ключ. Только собираюсь положить его в подстаканник, как София говорит:
– Может, пусть пока машина постоит у нас в Вайсензее?
Я замираю с ключом на весу.
– Тебе больше не стоит водить, папа. – Взгляд Софии мечется – видно, как тяжело ей смотреть мне в глаза.
– По закону на ранних стадиях еще можно…
– Папа, пожалуйста.
Роняю ключ в подстаканник, выхожу из машины и направляюсь к подъезду. Слышу, как София глушит двигатель, потом – как хлопает дверца.
– Папа!
Я оборачиваюсь. София выглядит грустной. Влажные волосы прилипли к щекам, плечи опущены, уголки губ тоже. Через мгновение она подбегает и обнимает меня так крепко, что кажется, будто ее сердце бьется у меня в груди. Я терплю, пытаюсь не злиться, не злиться на Софию, которая думает, будто все можно уладить объятиями. Пытаюсь не злиться на Клауса Делларда, этого глупого надутого индюка. Пытаюсь не злиться на весь чертов мир, который будто ополчился против меня. Пытаюсь не злиться на Бога – в которого я вроде как не верю, но который, возможно, все-таки есть и хочет доказать мне свое существование, отнимая последнее, что у меня есть. До сегодняшнего дня я был уверен, что есть две вещи, которые останутся со мной до конца, что бы ни говорил о моем состоянии тот пустоголовый кретин. Останутся не в сером веществе за лбом и, возможно, даже не в куске мяса, где бы их искала Вера. Они глубже, вгрызлись в кости, в самую суть меня. Я дышу ими – каждый день, каждый час, каждую секунду.
Первое – это смерть Веры.
Я мысленно возвращаюсь в кабинет Делларда и вынужден признать: он все-таки застал меня врасплох. Пусть и всего на долю секунды. Но если это смогло случиться, что тогда со вторым? Что с тобой, Джули? Что, если однажды утром я проснусь – и забуду, что ты когда-либо существовала? Наверное, в тот день я покончу с собой. Как под гипнозом. Не имея ни малейшего понятия почему.
Я отталкиваю Софию от себя и говорю:
– Уходи.
ЛИВ
Лив: Джули Айлин Новак родилась шестого июня тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года в Берлине, в семье Веры и Тео Новака. Тео Новак – всемирно известный хирург, директор торакальной и сердечно-сосудистой хирургии в берлинской клинике «Шарите», чем обеспечивает своей семье более чем приличный доход. Иначе говоря, Новаки живут в роскоши, в огромном доме в районе Груневальд.
Вера работает учительницей, но вскоре после замужества увольняется, чтобы полностью посвятить себя семье. Сейчас это может показаться старомодным, но мы говорим о конце восьмидесятых, а в те годы подобная модель распределения ролей воспринималась вполне естественно: папа зарабатывает деньги, мама готовит вкусняшки и занимается детьми.
Правда, со временем Вера хочет большего, хочет реализоваться не только как жена и мать. Она начинает заниматься волонтерством – помогает детям и подросткам с психическими заболеваниями. Это, кстати, уже довольно прогрессивный шаг – напоминаю: мы все еще в конце восьмидесятых, когда общественное отношение, например, к депрессии или биполярному расстройству было совсем иным, чем сегодня.
Рождение маленькой Джули становится для Новаков настоящим счастьем, которое только удваивается, когда два года спустя у нее появляется сестра София. В семье также живут кошка и девушка-няня, которая присматривает за детьми, когда Вера занята волонтерством. И вот тут начинается путаница: одну из них – либо кошку, либо няню – зовут Фелин… Ха-ха, Фил, видел бы ты свое лицо! Жаль, я не сняла. Но серьезно: из источников ничего не понятно. В одних говорится, что Фелин – кошка, в других – что девушка.
Фил: М-да, только представь – вот работаешь ты няней, зовут тебя… ну не знаю… Николь или Жаклин, а в газетах потом называют именем кошки.
Лив: С другой стороны, может, даже хорошо, что никто не знает твоего настоящего имени – все-таки речь идет о преступлении, и не каждому хочется оказаться в центре внимания. В любом случае Новаки – как это часто бывает у нас в подкасте – самая настоящая…
Фил: Идеальная семья. Конечно, классика жанра.
Лив: Именно. Я принесла фото, чтобы продемонстрировать, о чем говорю. Судя по всему, оно сделано где-то в девяносто седьмом. Джули тогда было десять лет, а ее сестре Софии – восемь.
Фил: Ого! И где ты его откопала?
Лив: Ах, мон шер! У меня свои источники.
Фил: Оно и видно… Да, сразу понятно, о чем ты. Больше похоже на рекламу стирального порошка, чем на семейное фото. У нас тут мама, папа и две маленькие рыженькие девочки. Сидят вместе на деревянном причале, смотрят в камеру. И все это выглядит каким-то… ну, как бы сказать… фальшиво-идеальным, аж зубы сводит. Девочки с косичками и маленькими бантиками, в одинаковых розовых платьях. Отец – типичный доктор. Харизматичный, но тоже больно идеальный, какой-то… скользкий. На нем голубая рубашка с закатанными рукавами, воротник-стойка, бежевые шорты и темно-синие топсайдеры. А мама… я бы сказал – просто сногсшибательная. Она могла бы быть актрисой. Длинные рыжие волосы, светло-желтое платье…
Лив: Что-нибудь еще?
Фил: Хм, думаю, фото сделано возле дома Новаков – они ведь жили прямо у озера, у них даже был собственный причал. На пледе лежат контейнеры с едой: сэндвичи, фрукты, нарезанные овощи. Все члены семьи улыбаются. Ну… почти все.
Лив: Именно на это я и хочу обратить твое внимание. Джули вовсе не выглядит счастливой, правда?
Фил: Верно. Снимок старый, не очень четкий, но все равно видно, что Джули выглядит грустной. Словно недавно плакала.
Лив: А теперь посмотри внимательнее – может, заметишь еще кое-что…
Фил: Вау! Ничего себе… У нее на платье красные пятна. Это что… кровь?
ТЕО
Мне не по душе, что София поднимается за мной. Упрямая, ну точь-в-точь как мать. Не отвяжешься просто так. Я уже все перепробовал, даже до оскорблений опустился – заявил, что Рихард наверняка разобьет машину, пока будет выезжать с подземной морковки. А Софии сказал, что волосы у нее – кошмар, а фигура – как у вешалки. Неудивительно, что даже летом она ходит в длинных штанах. Такая худющая – вечно мерзнет, дрожит, как мокрая дворняга. Но она все равно плетется за мной по пятам, пока мы поднимаемся по лестнице на третий этаж. Вспоминается унизительная записка на двери туалета, но не вспоминается, мыл ли я сегодня утром эту, как ее там… посуду. Может, вчера мыл. Может, вообще не мыл. Стыдно. Стыдно за то, что не могу вспомнить, мыл ли чертову посуду, и за запах гуляша в подъезде, хотя к нему я вообще никакого отношения не имею. Стыдно за лужицу на ступеньке – может, это вода, а может, пиво или собачья моча. Но больше всего мне стыдно за квартиру, в которой мне сейчас придется наливать дочери кофе. Квартира тесная, страшная – и рядом не стояла с тем домом, в котором София выросла. Не квартира, а памятник моему падению.
Внезапно я разворачиваюсь и взмахиваю руками, как огромная испуганная птица. София едва успевает увернуться.
– Ш-ш, папа, – опомнившись, говорит она. – Тебя зовут Тео Новак. Ты дома, в подъезде своей квартиры в Берлине-Шпандау. Я – София, твоя дочь. Я тебя люблю. Ничего не бойся.
С каждым словом стоящая ступенькой ниже София осторожно тянется к моей щеке, пока не касается ее.
– Прошу тебя, уходи. – Это звучит почти как мольба.
София качает головой.
– Уходи, – повторяю я со злостью.
Она колеблется.
– Давай хотя бы белье заберу… – Глазах у нее блестят, и я не сразу понимаю почему. Знаю лишь одно: ни один ребенок не должен смотреть так на своего отца.
– Не нужно. – И, отвернувшись, тяжело поднимаюсь по оставшимся ступенькам на третий этаж.
Мой мир – это беспорядок, злость и маленькие желтые стикеры, исписанные почерком Софии. На одном написано «Кухня» – он, соответственно, висит на двери, ведущей из узкого коридора на кухню. На холодильнике другой стикер: «Холодильник – только для еды!» Он появился после того, как кто-то по ошибке засунул туда газету. Не знаю, сколько раз я срывал эти дурацкие желтые бумажки, комкал и выбрасывал в мусор. Не знаю не потому, что забыл, – просто даже самый здоровый человек потеряет терпение, если они будут постоянно маячить перед глазами. Я срываю эти стикеры каждый раз, когда начинаю подозревать, что София вот-вот нагрянет с «инспекцией» – назвать это визитом язык не поворачивается. Я не хочу, чтобы она думала, будто ее дурацкие бумажки мне действительно помогают. Не хочу, чтобы она верила, что я больше не ориентируюсь в собственной квартире. Я ведь не дурак, разве что немного рассеян, но это не новость – Вера всегда надо мной подтрунивала, когда я в очередной раз забывал дома портфель.
Ах, Вера, моя Вера… Она готовила лучший в мире беф… как его там. Фамилия знаменитого русского дворянского рода, девять букв: Строганов. Точно.
Мимоходом срываю стикер с кухонной двери и протискиваюсь мимо стола к окну. Если немного постараться, то можно исказить реальность, и дом напротив превращается в сверкающую гладь озера, по которому ветерок качает солнечные блики. Больше нет разрисованных граффити стен, только сочные зеленые деревья, тянущиеся к кобальтово-синему небу. Нет и Софии, которая сейчас садится в машину и замирает, бросая последний взгляд на окно моей кухни. Нет – теперь я вижу Джули. Она садится на велосипед и тоже замирает, завидев меня в окне кабинета. Потом улыбается, подносит палец к губам в заговорщическом жесте и подмигивает. Я качаю головой с притворным укором и тоже улыбаюсь. «Береги себя, ангел мой», – беззвучно шепчут мои губы. Джули понимает меня – сквозь расстояние, сквозь стены, как и всегда. И отвечает так же – без слов, но пронизывающе ясно: «Я люблю тебя, папа».
Потом она, одетая в одну из старых маминых блузок времен семидесятых и в свои любимые джинсы-клеш с дырками на коленках, садится на велосипед и уезжает. Я снова качаю головой и отворачиваюсь от окна. Вера устроила бы Джули взбучку, если б узнала, что, вместо того чтобы сидеть в своей комнате и готовиться к завтрашнему экзамену по биологии, наша дочь встречается с подружками. Или… с каким-нибудь мальчиком? Нет, думаю я. Джули мне рассказала бы.
Улыбаясь, сажусь за стол, беру ручку и открываю медкарту одного из пациентов. Карповая рыба, четыре буквы: орфа. Река забвения в греческой мифологии, четыре буквы: Лета. Цветок духовного пробуждения, пять букв: лотос. Конец жизни, шесть…
Издаю звук, который даже мне самому кажется чужим. Я не в своем кабинете в Груневальде. Я на кухне двухкомнатной дыры в Шпандау. А «медкарта одного из пациентов» – это утренний выпуск «Берлинер рундшау», раскрытый на странице с кроссвордом.
Резким движением смахиваю газету со стола. А потом – в третий раз за день – начинаю рыдать. Рыдать, как младенец.
Прости меня, Джули.
Прости, девочка моя…
ДАНИЭЛЬ
– …У нее на платье красные пятна. Это что, кровь?
Не могу сдержаться и закатываю глаза. Можно подумать, это фото семьи Новак есть только у них. «Мон шер», тьфу ты… «У меня свои источники…» Да ничего у тебя нет, Лив Келлер. Ни источников, ни уважения, ни профессиональной этики, ни малейшего представления, о чем ты говоришь, – разве что «Гугл». Этот снимок можно найти в сотнях вариаций, потому что в свое время его напечатала каждая газета. Я почти уверен, что Тео Новак лично передал снимок журналистам – по крайней мере, именно его он однажды показывал в каком-то телешоу. К тому же на прошлой неделе этот снимок уже обсасывали в другом тру-крайм подкасте. Двое инфантильных ведущих тоже минут десять обсуждали «грустную Джули с красными пятнами на платье», только чтобы прийти к «откровению»: скорее всего, пятна остались от черешни, которая лежала в одном из контейнеров на пледе.
Готов поспорить, сейчас речь пойдет о «зловещем предзнаменовании».
– …все равно жутковато, правда? Будто заглядываешь в будущее…
Я жму на паузу и выдергиваю наушники из ушей. Вот и оно – «предзнаменование». С Джули просто должно было случиться что-то плохое. Один раз у ребенка испортилось настроение, добавить сюда пятно на парадном платье – и все, он уже подписал себе смертный приговор.
Вы хоть сами понимаете, насколько отвратительны? Да, вы, подкастная шваль! Отвратительны и до предела предсказуемы!
Только когда костяшки пальцев начинают ныть от боли, я замечаю, как крепко сжимаю телефон. Качаю головой и расслабляю руку. Людей нельзя переубедить. Они не позволят. Из своего мнения они ткут «истину», а из этой «истины» вяжут петлю.
Почти машинально хватаюсь за ворот и расстегиваю верхнюю пуговицу поло. Сегодня жарко, душно, вечером обещают грозу – значит, нужно закончить смену вовремя, чтобы вернуться домой до ливня. Смотрю в небо, потом снова на телефон в коленях. Чего бы я только не отдал, чтобы хоть раз услышать эту историю такой, какой она была на самом деле! Понятно, что от этой Лив и ее дружка ждать нечего – но надежда… эта гулящая девка снова и снова подкрадывается ко мне со своими вкрадчивыми обещаниями. Нет, решаю я. Больше не куплюсь. Однажды купился, но больше этого не повторится.
Поднимаю взгляд от колен и смотрю на сад. Одна из моих коллег, Анна, гуляет по дорожке с госпожой Лессинг из палаты 316. Они двигаются с черепашьей скоростью, госпожа Лессинг опирается на ходунки. Анна то и дело поглядывает на часы, в то время как ее восьмидесятидвухлетняя подопечная с интересом разглядывает все вокруг. Наблюдаю, как она улыбается и показывает на одно из деревьев – каштан с длинными белыми кистями цветов, – но Анна снова смотрит на часы.
Таков мир. Ни терпения, ни такта, ни сочувствия.
Заметив меня, госпожа Лессинг радостно машет рукой. Прячу телефон с наушниками в карман, приглаживаю волосы и встаю со скамейки, на которой собирался провести обеденный перерыв. Несколько шагов – и я уже на гравийной дорожке, чтобы предложить старушке компанию, которой, судя по всему, ей так не хватает.
– Я сменю тебя, Анна.
Дважды повторять не приходится – она сразу же уходит. Ни прощания, ни благодарности, только короткий кивок.
Качаю головой, потом подаю госпоже Лессинг согнутую в локте руку, словно приглашая на танец.
– Разрешите?
– Даже не знаю… – Она бросает неуверенный взгляд на свои ходунки.
– Они вам не нужны. Ведь теперь с вами я.
Но госпожа Лессинг все еще выглядит неуверенно. Она из людей того поколения, которые не хотят быть в тягость – и которых отучили «быть в тягость» за первые месяцы в доме престарелых, когда обещания семьи навещать как минимум дважды в неделю незаметно сошли на нет и пришла реальность: тебя оставили здесь умирать. Умирать под присмотром таких вот Анн, которые погрязли в собственных заботах.
Быть может, некогда ими и правда двигали благие намерения – делать что-то важное, значимое, – но со временем они поняли, насколько сильно расходятся ожидания и реальность. Зарплаты сиделки едва хватает на аренду. Работа изматывает – физически и морально. Изо дня в день приходится встречаться с болезнями, со смертью – а порой даже видеть в ней подарок.
– Неужто вы откажете, госпожа Лессинг? Вы же разобьете мне сердце.
– Ах, мой милый господин Даниэль, – улыбается старушка и все-таки берет меня под руку.
Мы трогаемся с места – медленно, осторожно, шаг за шагом.
– Если б не вы…
– Уверен, вы с легкостью нашли бы себе другого ухажера.
Госпожа Лессинг хихикает. Я замечаю, что, судя по всему, сегодня ее никто не причесал и не помог одеться. Она слишком тепло одета, на темно-сером свитере видны пятна от яичного желтка и чего-то светлого – возможно, сливок со вчерашнего кофепития. Пятна – и мои мысли снова возвращаются к подкасту. К Джули и следам от черешни у нее на платье.
– Все равно как-то неловко отрывать вас от обеденного перерыва…
– Ну что вы. – Я ласково похлопываю госпожу Лессинг по бледной руке, которая вцепилась мне под локоть в поисках опоры. – У меня все равно не было дел.
– Правда? Вы выглядели таким задумчивым, когда сидели на скамейке… Переживаете из-за работы?
– Нет-нет, вовсе нет. Вы же знаете, как я люблю свою работу.
– А дома у вас все хорошо? Вашей собачке уже лучше?
Я невольно улыбаюсь – есть что-то трогательное в том, как госпожа Лессинг называет мою Куин «собачкой». Если б она видела ее фото, то выбрала бы какое-нибудь другое слово.
– Гораздо лучше, спасибо.
– А ее приступы?
Моя улыбка тут же гаснет. Зря я рассказал о приступах госпоже Лессинг – с тех пор она спрашивает о них при каждом удобном случае. И каждый раз я снова вижу, как Куин захлебывается слюной и воет, будто в нее вселился сам дьявол. Жуткое зрелище. Даже вспоминать больно.
– Стали пореже.
– Слава богу. После того как дети разъехались, мы с мужем тоже завели собачку. Маленького болоньеза.
– Да, вы рассказывали. Его звали Джимми, верно?
– Да… милый маленький Джимми приносил нам много радости… пока однажды не заболел. – Она смотрит на меня. – Вы должны регулярно водить свою Куин к ветеринару, мой милый господин Даниэль.
– С Куин все хорошо, – говорю я. – Просто сегодня мне нельзя задерживаться. Синоптики обещали грозу, а она всегда пугается, когда остается одна в такую погоду.
– О, понимаю. Мне и самой не по себе, когда на улице гремит и сверкает. А мой муж, представьте себе, смеялся надо мной – и в грозу, бывало, шел гулять! – За коротким смешком следует ожидающий взгляд. – Что же вас взволновало?
Пожимаю плечами.
– Я просто слушал подкаст. Ничего такого, что я с удовольствием не променял бы на прогулку с вами.
– А, да. – Госпожа Лессинг понимающе кивает. – Это что-то вроде радиопередачи в интернете, да? Внучка у меня тоже все время подкасты слушает. Кстати, она собирается приехать в гости в выходные.
– Замечательная новость. Давненько она вас не навещала.
– Ну… ей уже тридцать, у нее своя семья. Дел невпроворот. – Губы изображают улыбку. – Что за подкаст вы слушали?
– Подкаст о тру-крайм, что переводится как «реальное преступление». Каждый выпуск ведущие обсуждают преступление, которое произошло на самом деле. Обычно один из них выступает в роли рассказчика, а второй – слушателя, который ничего не знает о деле и искренне удивляется новым фактам, задавая неожиданные вопросы и высказывая свои предположения. – Я качаю головой. Думаю, на самом деле нет там ничего искреннего и неожиданного. Все строго по сценарию.
– Вот и мой муж всегда так говорил, когда мы смотрели телевизор. «Элли, – говорил он, – не верь всему, что видишь. Даже у новостей есть сценарий».
Мы продолжаем идти. Сад – самое красивое место в доме престарелых Святой Элизабет; здесь природа подчиняет себе человека, а не наоборот. Деревья тянутся ввысь, распускаются, пускают побеги – невзирая ни на возраст, ни на погоду. Даже те, что прошлый год не подавали признаков жизни и уже помечены садовником краской под спил, снова оживают, будто назло, и садовнику ничего не остается, кроме как убирать пилу. Что ж, как говорится: «Скрипучее дерево два века стоит».
– О каком же преступлении рассказывали сегодня? – спрашивает госпожа Лессинг после недолгого молчания. – Знаете, мы с мужем частенько смотрели передачу с Эдуардом Циммерманом по второму каналу. Мой муж всегда говорит: «Элли, в мире полно психов».
– Не поспоришь.
– Так о чем же был выпуск?
Я сдерживаю вздох и веду госпожу Лессинг по дорожке в сторону главного корпуса. Обеденный перерыв почти подошел к концу, а моей спутнице не помешает немного отдохнуть – чтобы потом с новыми силами отправиться на гимнастику для пожилых.
– О продаже девушки по имени Джули.
Госпожа Лессинг останавливается и пронизывает меня взглядом. Я на мгновение задумываюсь: не заметила ли она чего-то? Я запнулся? Может, невольно вздохнул? Или прозвучал как-то странно, когда произнес имя Джули? Я откашливаюсь, собираюсь сменить тему. Мне сорок два – возраст, когда начинаешь терять волосы и обрастать лишними килограммами. Возраст, в котором юность с ее возможностями становится дрожащим силуэтом на горизонте. Порой от этой мысли грустно, порой нет, потому что сорок два – это еще и тот возраст, когда понимаешь людей и то, как они устроены.
Возьмем, например, госпожу Лессинг. У таких людей история одна: они чувствуют себя покинутыми. Задают вопросы не потому, что хотят услышать ответ, а потому что надеются, что их тоже о чем-нибудь спросят, ждут случая заговорить о себе. Они знают, что времени у них осталось немного, и хотят рассказать свои истории миру – пока еще могут, – чтобы оставить после себя хотя бы их. Хотя бы одно маленькое воспоминание, крошечную историю, которая, возможно, заставит кого-то улыбнуться – уже тогда, когда комната рассказчика или рассказчицы давно будет отдана новому жильцу.
– Интересно, какой вы были в молодости, – говорю я, решая дать госпоже Лессинг возможность рассказать ее историю. – Готов поспорить, ухажеры за вами толпами бегали.
Она прищуривает живые, внимательные глаза – и, кажется, видит меня насквозь. Потом произносит:
– Вы уходите от темы, мой милый господин Даниэль. Мне интересно, что случилось с этой Джули.
ЛИВ
Лив: Перенесемся немного вперед – в лето две тысячи третьего года. Джули уже шестнадцать, осенью она пойдет в одиннадцатый класс гимназии имени Вальтера Ратенау. До сих пор она была образцовой ученицей. Отличницей. Вся в отца. Ее конек – естественные науки. Джули мечтает после школы изучать геофизику и океанографию, желательно где-нибудь за границей. С этими планами отлично сочетаются увлечения Джули: она обожает все, что связано с водой. Первый сертификат по дайвингу она получила в десять лет, а в четырнадцать – права на управление моторной лодкой. Сейчас дайвинг – одно из ее любимейших хобби, наряду с катанием на лодке, парусным спортом и, конечно, плаванием. Кроме того, они с Софией ходят на занятия по боевым искусствам и танцам. И вот честно – как, черт побери, она все успевает? Не человек, а робот! Ведь, помимо всех этих увлечений, у Джули куча друзей – и парней, и девчонок, – с которыми она постоянно где-то пропадает. Они ходят по магазинам, в кино или собираются у Джули дома – точнее, в старом лодочном сарае на участке Новаков. Там они слушают музыку… и наверняка тайком пьют пиво.