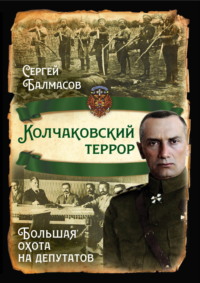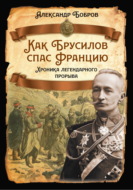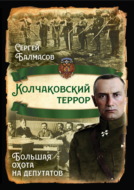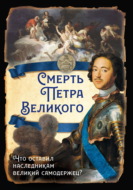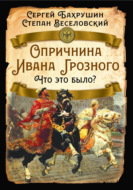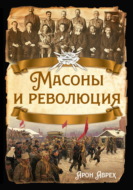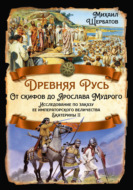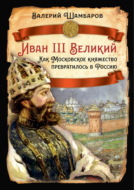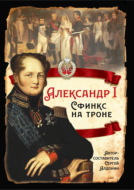Kitabı oxu: «Колчаковский террор. Большая охота на депутатов»

Русская история

© Балмасов С.С., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
Предисловие
За последние 30 лет по теме гражданской войны было выпущено много трудов. Преимущественно они прославляют противников большевиков, игнорируя связанный с ними негатив и демонизируя все имеющее отношение к Советской власти.
Параллельно наблюдается повторение одних авторов другими, видимо, за оскудением нетронутых тем, что демонстрирует конечную тупиковость подобных исследований. Ведь на выражении восторга невозможно бесконечно создавать что-то новое.
Исключений немного. Их в том числе демонстрируют А. Ганин и Р. Гагкуев, объективно исследующие малоизвестные факты.
Тема же белого террора оставалась слабоизученной. И за всю советскую и постсоветскую эпоху «завесу тайны» здесь приоткрыл в основном И. С. Ратьковский. В общем же серьезных трудов по данной теме очень мало, в результате для многих он предстает каким-то мифом.
Поэтому сегодня популярны следующие точки зрения:
1. «Белого террора не было, его выдумали большевики для очернения героев Белого движения»;
2. «Белый террор был лишь ответом на террор красный»;
3. «Белый террор по масштабам гораздо меньше красного и не был организованным как у красных».
Данная де книга и продолжающая ее серия скорректируют подобные утверждения.
Причем тема «белогвардейской охоты на Учредительное Собрание» особенно выделяется. Ведь ранее репрессии против членов всероссийского парламента со стороны противников большевиков полноценно не изучались. Были лишь отдельные и в основном «статейные» попытки описания трагедий некоторых из них.
Подчеркнем – речь идет о репрессиях против деятелей, которые должны были повести Россию по мирному пути после краха самодержавия…
До сих пор популярно утверждение, что за репрессиями против членов Учредительного Собрания стояли именно большевики, тогда как белогвардейцы представали его защитниками. Данная книга и ее продолжения скорректируют подобное мнение. А эти работы станут началом многочисленной серии по белому террору.
Автор же их не стремится «раз и навсегда закрыть» данную тему и будет благодарен желающим дополнить его изложение, укажет на возможные неточности и т. д. по электронной почте sbalmasov@gmail.com.
Для понимания ситуации, причин развития дальнейших событий в России и степени важности «учредительного» фактора кратко расскажем о ситуации, предшествующей белогвардейской охоте на всенародно избранных депутатов.
Уже на открытии Учредительного Собрания 5 января 1918 г. оно показало свою неработоспособность. Его депутаты смогли лишь национализировать землю, но были неспособны решить будущее страны, включая тему войны. И разгон Всероссийского парламента большевиками… лишь спас его от признания за ним политической импотентности.
Однако это событие сигнализировало о быстром скатывании страны в гражданскую войну. Ведь представители полярных по своим интересам сил тем самым показали неспособность решить ее проблемы мирными средствами. В этой борьбе депутатам Учредительного Собрания предстояло сыграть заметную роль.
Часть I
«Учредиловцы» и белые: от кооперации к соперничеству
Особого внимания заслуживает охота белогвардейцев за народными избранниками на востоке страны. На который во время гражданской войны приходится большая часть смертей «учредиловцев». Связано это было с установлением там наиболее жестких белогвардейских диктатур и с особенностями схватки за власть в стране. Так, центр противостояния большевикам сметился с Волги в 1918 г. в Омск, ставший роковым городом для членов Учредительного Собрания. Здесь менее чем за полгода погибли минимум пять его депутатов.
Подпольная работа «учредиловцев»
Защита Учредительного Собрания стала объединяющей темой против большевиков их противников – левых и правых. Так, по данным министра колчаковского правительства Г.К. Гинса, «На окраинах России возник… «Дальневосточный Комитет активной защиты Родины и Учредительного Собрания»1. Они рассчитывали сделать его оплотом антисоветского сопротивления.
Комитет создали «на добровольных началах из всех противников Советской власти» в феврале 1918 г. в Харбине участники и организаторы сопротивления установлению Советской власти в декабре 1917 г. в Иркутске бывшие комиссары Временного правительства по Иркутской губернии И.А. Лавров и по Дальневосточному региону А.Н. Русанов, полковники Никитин и Скипетров2. Они создавали при комитете белогвардейские формирования, финансировали отряд есаула Г. М. Семёнова.
По данным полковника Л.Д. Василенко, агенты и влияние «Дальневосточного комитета» на Омск, Петропавловск и сибирское казачество шли в мае 1918 г. через китайский город Чугучак в Синьцзяне и Семипалатинск3.
Однако борьба против большевиков на теме «защиты Всероссийского парламента» сразу не задалась. Представители полярных политических сил – либерально-демократические элементы и ярые монархисты – прежде всего схватились из-за дележа миража власти и денег друг с другом. И с самого начала вместо работы получился крыловский «квартет».
Так, пошли трения между подчинёнными Никитина, главой военного отдела комитета Семёновым и начальником харбинского добровольческого отряда полковником Н.В. Орловым по вопросу создания подразделений и их «нерационального» использования.
Ссора усилилась после фронтовых неудач. Чему способствовал конфликт Орлова и Семенова с генералом Самойловым, начальником охранной стражи КВЖД, ярым монархистом, противником идеи Учредительного Собрания.
Замена Самойлова генералом М.М. Плешковым не устранила трений в организации. Что проявилось при попытке объединения семеновцев, орловцев и калмыковцев (бойцы И.Д. Калмыкова, избранного 31 января 1918 г. уссурийским атаманом).
Политики также не нашли общего языка относительно создания антисоветской коалиции. На что влияли и представители финансовых кругов. Часть их обратила свои взоры к членам альтернативного Временного правительства автономной Сибири (ВПАС) и членам Сибирской областной думы (СОД), бежавших в Харбин из Томска. Некоторые из них были «учредиловцами», эсерами (социалисты-революционеры), но при этом противостояли Комитету, выступавшему от их имени.
Наблюдавшие эту трагикомедию борьбы за незавоеванную власть иностранцы командировали к «защитникам Учредительного Собрания» для наведения порядка Колчака, «находившегося на службе у британской короны»4.
Но его атаманы признавать не хотели. Тогда при посредничестве консулов западных стран эсеры из ВПАС и СОД предложили план создания правыми и левыми единого правительства. Однако эти намерения провалились из-за взаимных опасений амбиций на власть. Защитники Всероссийского парламента, не имевшие в своем Комитете ни одного его члена, опасались «учредиловцев» из СОД.
В свою очередь, после удаления из «Комитета» левых генерал-лейтенантом Д.Л. Хорватом и адвокатом кадетом В.И. Александровым эсеры, включая «учредиловцев», увидели в этом попытку «правых» захватить власть5.
Однако наличие подобных организаций демонстрировало популярность в стране «идеи народоправства». Причем на выборах в Учредительное Собрание в конце 1917 – начале 1918 гг. эсеры получили 1-е место, а в некоторых сибирских губерниях за них голосовали более 85 процентов избирателей.
Самые авторитетные и активные местные «учредиловцы» – М. Линдберг, Б. Марков, П. Михайлов, Н. Фомин – сыграли огромную роль в объединении противников Советской власти и подготовке её свержения в западной Сибири. В феврале 1918 г. они, освобождённые большевиками после попытки защитить Всероссийский парламент, отправились в Томск. Финансовую поддержку и прикрытие заговорщиков обеспечила кооперация, объединявшая производителей продукции и торговцев6.
Член Западно-Сибирского комиссариата ВПАС Павел Михайлов под видом работника кооператива «Закупсбыт» разъезжал по Сибири, координируя деятельность подпольщиков. Михаил Линдберг и Борис Марков готовили восстание в городах Томской губернии, в Енисейской – Нил Фомин7.
Особую опасность для большевиков представлял заключенный благодаря гибкости сторон союз эсеров и офицеров. Видный белогвардеец Б. Филимонов писал: «Полковник Гришин-Алмазов (один из руководителей антисоветского подполья – ред.) с членом Учредительного Собрания П. Михайловым изъездил при большевиках города Сибири, внес систему и единство в кустарно создавшиеся офицерские организации. Оба, не покладая рук, работали, найдя примиряющую линию, привлекая эсеров и правых»8.
Таким образом, П. Михайлов стал одним из творцов объединения противников большевиков и свержения большевиков на востоке России.
Однако сделать это было непросто. Так, когда Гришин приехал в Омск в военную организацию П.П. Иванова (Ринова), подчинившуюся единому подпольному «Центральному штабу» и ориентировавшуюся на упомянутый выше Дальневосточный «проучредительный комитет, он обнаружил «нешуточные страсти» среди заговорщиков. Офицеры с возмущением рассказывали ему, как на их вопрос: «Кто станет у власти после переворота?» – им отвечали: «спросите эсеров»9.
Тем временем по данным Б. Филимонова «большевики охотились за Гришиным и Михайловым. Требовалось немало смелости, а еще больше – такта (в работе – ред.) ввиду разнородности политических целей организаций»10.
Одновременно весной 1918 г. центральный штаб Западно-Сибирского Комиссариата в Ново-Николаевске готовил антисоветское восстание «с участием Фомина, Б. Маркова, П. Михайлова и Гришина-Алмазова»11.
В свою очередь, «учредиловец» Краковецкий12, военный министр ВПАС, фактически возглавил подполье в Восточно-Сибирском комиссариате, координируя подготовку к восстанию и выезжал для этого в марте – апреле 1918 г. в Советскую Россию13, где через капитана Коншина наладил связи с антибольшевистскими организациями и иностранными кураторами, готовившими мятежи против Советской власти – дипломатами-спецслужбистами – французскими штаб-офицерами генералом Лавернье и полковником Корбейлем, генконсулом Великобритании в России Брюсом Локкартом14.
Одновременно Краковецкий выявил неспособность подполья захватить власть, поскольку работа находилась в зачаточном состоянии: боевые дружины эсеров годились для совершения терактов, но не для ведения боевых действий с Красной армией.
Также заговорщикам помешали китайские власти. Опасаясь ухудшения отношений с большевиками, они запретили создавать на своей территории русские боевые отряды15.
Тогда Краковецкий оперативно создал у заговорщиков центральные военные штабы. Во главе такой организации в Томске он поставил своего знакомого прапорщика-эсера В.А. Смарен-Завинского, активно работавшего там с «учредиловцами» Марковым и П. Михайловым. В Иркутске аналогичную должность занял его приятель эсер-террорист Николай Калашников, заместитель Краковецкого, назначенного летом 1917 г. Керенским командовать Восточно-Сибирским военным округом16.
При этом Краковецкий наладил подготовку мятежа с офицерами. Например, Л.Д. Василенко, помощник Гришина-Алмазова по центральному штабу, получал от Краковецкого и распространял директивы от связных, приезжавших из Харбина под видом торговцев, артистов17.
В свою очередь, Г.М. Семёнов по просьбе Краковецкого делился иностранной финансовой «помощью» с эсеровским подпольем.
«Учредиловцы» свергают Советскую власть в Сибири
Начало выступления ускорил мятеж Чехословацкого корпуса (Легиона) 26 мая 1918 г. Его военнослужащие, бывшие солдаты и офицеры австро-венгерской армии, плененные русскими войсками в Первую мировую войну, в 1918 г. готовились отправиться на Западный фронт воевать против стран Германского блока.
Их на это во многом сподвигли белогвардейцы и спецслужбы стран Антанты, используя сделанные «красными» ошибки. В ход пошли слухи, что «по заданию вековых угнетателей чехов немцев и австрийцев» большевики хотят их разоружить и расстрелять чехословацких офицеров. Чему способствовали произошедшие инциденты легионеров и красногвардейцами – немцами и венграми.
Причем, видя усилившуюся в результате враждебность чехов, большевики рассматривали возможность разоружения легионеров, опасаясь их восстания. Такие опасения подкреплялись усилением подрывной работой британских и французских спецслужб, готовивших против Советской власти заговоры в Закавказье, Закаспии, на севере страны и даже в столице (заговор «Трех послов»).
Причем британцы наладили связи с местным антисоветским подпольем и с Чехкорпусом. Командование которого, в свою очередь, также тесно контактировало с заговорщиками.
Причем именно Чехкорпус стал локомотивом мятежа. 25 мая русские заговорщики и легионеры выступили на территории от Пензы до Владивостока. Причем переворот «В Ново-Николаевске в ночь с 25 на 26 мая окончился в 40 минут»18. Согласно эсеровской газете «Сибирская мысль» от 31 мая 1918 г., его взял «наш отряд совместно с чехословаками. Большинство комиссаров арестовано при помощи населения. В Ново-Николаевске идут торжественные многолюдные манифестации».
Схожая ситуация наблюдалась и в других сибирских городах. Причем по данным «красных», в свержении Советской власти в Томской губернии отличились «учредиловцы». Так, «25 мая, по приказу генерала Гайды и эсера Фомина чехословаки заняли Мариинск, Ново-Николаевск,. а затем один город за другим…19»
Член Учредительного Собрания Е.Е. Колосов писал, что Фомин, «можно сказать, организовал переворот, принимая в нем непосредственное очень крупное участие20».
И где «учредиловские» лидеры эсеров были особенно сильны, большевиков оперативно громили как в Ново-Николаевске.
Причем Фомин признал: «Перевороту исключительно сочувствовала сибирская кооперация. Первые дни после свержения большевиков в Ново-Николаевске в местных торгово-промышленных кругах популярной была острота: «Власть в Сибири пришла к Закупсбыту» (одна из ведущих сибирских кооперативных организаций)21.
Однако в Томске, одном из ключевых городов, вечером в 9 часов 27 мая арестовали Маркова и Михайлова в доме № 3 по Ярлыковской улице среди девяти лидеров губернского и Всесибирского Краевого Комитета эсеров» и подлежали как мятежники расстрелу. Им грозил самосуд. Однако утром 31 мая началось восстание вшееся антисоветское выступление и после бегства красных из Томска их освободили22.
В тот же день Марков и Михайлов обратились «К населению Томска о свержении большевистской власти», подписавшись «комиссарами Временного Сибирского правительства (ВСП).
Командующий белогвардейскими войсками Томского района полковник Василенко указал: «Власть в городе до восстановления выборных демократических учреждений переходит назначенному ВСП Комиссариату (преимущественно «учредиловцы») Западной Сибири (ЗСК). Комиссариатом предоставлены широкие полномочия по установлению порядка и охране войсковым начальникам…»23.
Сами эсеры сообщили в газете «Сибирская мысль» 31 мая 1918 г.: «Власть перешла Сибирскому правительству, созданному разогнанной большевиками Сибирской Областной Думой. Всех стоящих на защите Учредительного Собрания и местных самоуправлений, получивших и не получивших оружия – просим обязательно зарегистрироваться в клубе партии эсеров, Почтамптская, 28. (Их) Боевым дружинам явиться туда же до… 10 часов утра 1 июня».
Здесь же размещена передовица «Переворот 31 мая», заканчивающаяся символично: «Да здравствует Учредительное Собрание! Да здравствует Автономная Сибирь!»
В свою очередь, начальник гарнизона Томска Петров и комиссар ВСП при нем Перелешин 1 июня 1918 г. свое воззвание «Товарищи братья фронтовики и солдаты!» завершили призывом: «Все как один на защиту родной страны и Сибирского Учредительного Собрания и В. С. П.»24.
О степени влияния на ситуацию «учредиловцев» после переворота свидетельствует объявление ВСП: «З. С. К. и его уполномоченные («учредиловцы» П. Михайлов, Марков, Линдберг и видный эсер В. Сидоров), «организует местные губернские, уездные и городские комиссариаты. Их обязанность – восстановление органов местного самоуправления в законно избранном их составе и производство выборов на основании существующего избирательного закона в местностях, где их не было. По возобновлении работ демократических органов самоуправления комиссариаты немедленно передадут им полноту местной власти.
ЗСК до распоряжения областного правительства объединяет деятельность органов народного самоуправления и госучреждений и направляет их работу: Управления путей сообщения, почт и телеграфов и пр. Западной Сибири. Задача его – создание правильно организованной военной силы, достаточной для утверждения народовластия, охраны жизни и достояний граждан от покушений врагов демократического строя извне и изнутри. Законодательные мероприятия входят в компетенцию лишь Сибирской областной думы», 1 июня 1918 г.25
Далее благодаря П. Михайлову были созданы следственные комиссии. Им поручили вести расследования, обыски, выемки и аресты26.
Тем временем мятежники 8 июня 1918 г. захватили Омск. Вскоре Западная Сибирь благодаря взаимодействию военных и подпольщиков-«учредиловцев» оказалась в руках повстанцев. Против этой «спайки» большевики были бессильны.
Впрочем, потерпев поражение, они не были разгромлены. Поэтому такая спайка требовала сохранения.
Одновременно благодаря участию в восстании отношения членов Учредительного Собрания с чехами стали доверительными. В то время как одни их представители – Б. Марков, П. Михайлов, Н. Фомин и другие свергали Советскую власть в Сибири, сыграв выдающуюся роль в изгнании «красных», другие, сплотившись вокруг КОМУЧ, активно боролись против большевиков на Волге. И везде это происходило бок о бок с чехами.
Это отразится на последующем развитии событий.
Создание органов антисоветской власти
Далее в условиях затягивающейся войны повстанцам было необходимо противопоставить красным эффективное государственное строительство. Без чего победить было невозможно. Ведь поединок шел не только на поле боя, но и на управленческом поприще.
И в этом важную роль сыграли по словам полковника Б. Филимонова «эмиссары ВСП, «учредиловцы», занявшие видные посты во власти освобожденных районов». Особенно отличился в создании антисоветских органов власти в Омске в июне 1918 г. «Павел Михайлов, бледный человек с горящими глазами. Он работал день и ночь. Немедленно созвал совещание (по ЗСК – ред.) из общественных деятелей, приступил к формированию отделов управления… (будущих министерств)27».
Причем эту работу по созданию органов власти «учредиловцы» начали еще до разгрома большевиков в Западной Сибири. За основу взяли 11 отделов подпольного эсеровского штаба ЗСК28, созданного в Ново-Николаевске Фоминым.
Последний по степени активности и результативности работы был «конкурентом» Михайлова, хотя соперничества у них не было. Так, 30 мая с участием Фомина здесь состоялось заседание «Совета при уполномоченных ВСП»29.
1 июня ЗСК заработал официально, руководимый членами Учредительного Собрания Фоминым, Линдбергом, Марковым, Михайловым30 и Омельковым31, фактически управлявших тогда антисоветским государственным строительством в Сибири.
Основной тон задавал П. Михайлов, остро критикуемый за его работу в ВСП Г.К. Гинсом и другими «правыми» министрами, приведенными «за ручку» во власть Гришиным-Алмазовым «на всё готовое».
Несмотря на указания белогвардейских историков, видимо, списанные у самого Гинса относительно его участия в антисоветском подполье, доказательств этого не обнаружено в отличие от Фомина, Маркова и П. Михайлова. Чьи заслуги в антисоветской борьбе и строительстве органов управления оценили сражавшиеся на фронте белые командиры вроде Б. Филимонова.
Сибирская областная дума, ВСП и «учредительная» идея
С самого начала захватившие власть заявили о намерении предоставить ее Учредительному Собранию: «В. С. П. в своем первом программном документе – «Декларации о государственной самостоятельности Сибири» от 4 июля (1918 г. – ред.) связало свое существование с Сибирской Областной Думой32 (СОД, региональный парламент – ред.)… Далее оно своим священным долгом объявило скорейший созыв Всесибирского Учредительного Собрания»33.
И это не случайно – тогда идея его возрождения буквально витала в воздухе. И не только в Сибири, но и на Урале. Так, после ухода красных в Челябинске начались «митинги с участием местных земцев, кооператоров. Все говорят об Учредительном собрании»34.
Это ясно показывает роль и вес «учредиловцев» в тогдашнем антисоветском управлении.
Однако включенные в ВСП Гришиным-Алмазовым «правые» стали мешать «учредиловцам», тормозя созыв Сибирской Думы, видя в ней конкурента на управление. Они хотели получить всю власть, и исполнительную, и законодательную.
При этом ВСП не отказалось от идеи «скорейшего созыва Учредительного Собрания»35, хотя и не делало в этом направлении реальных шагов. Это отталкивало от него сибиряков.
В первые недели после свержения большевиков представители разных антисоветских сил ладили между собой. Однако отдаление общей угрозы вызвало обострение их борьбы за власть. Об этом свидетельствует «Резолюция № 40», направленная уполномоченными ВСП Марковым, Сидоровым и Линдбергом: «Рассмотрев 26 июня телеграмму начштаба в связи с приговором Семипалатинской и ближайших станиц, Западно-Сибирский Комиссариат и министр юстиции считают изоляцию большевиков достаточной мерой для их обезвреживания. И, выражая уверенность, что казачество располагает достаточной силой для полного их разгрома, не находит возможным разрешить военно-полевые суды, отмененные в марте 1917 г., и подтверждает обязанность немедленно ввести в жизнь переданное по телеграфу положение о следственных комиссиях36.
Премьер ВСП П.В. Вологодский, в свою очередь, писал, что в июле 1918 г. товарищ (заместитель) главы МВД «П.Я. Михайлов говорил мне об авантюристских (реально бонапартистских – ред.) наклонностях Гришина-Алмазова»37.
Столь резкое изменение их отношений вызвал дележ власти. Боевая дружба и «спайка» левых и правых антибольшевиков, благодаря которой рухнула Советская власть, исчезла.
Основные тернии начались по организации военного управления в июне 1918 г. По данным Б. Филимонова, «Относительно военного отдела (будущего военного министерства – ред.) согласились не сразу. В начале на должность заведующего этим отделом выдвинули члена Учредительного Собрания Фомина. Стали обсуждать, может ли штатский стоять во главе столь важного отдела (несмотря на отсутствие военного образования, продемонстрированные им навыки в свержении большевиков в Томской губернии говорили в пользу подобного назначения – ред.), и следует ли отделять военный отдел от штаба командующего армией»38.
Гинс настаивал на необходимости разделения этих должностей (в мирное время это было правильно, но в период войны, когда требовалась оперативность работы и концентрация ресурсов в одних руках, по данному вопросу могли быть иные мнения – ред.). Фомин и П. Михайлов высказались за совмещение, но их доводы для Гинса были не убедительны.
Гришин-Алмазов предъявлял П. Михайлову ультимативное требование. Должности управляющего военным отделом и командующего армией совместили»39.
Учитывая демократизм «учредиловцев» и неприятие ими диктатуры, к которой вело подобное объединение должностей, предположим, что эсеры подчинились вынужденно, желая сохранить единство управления и под давлением грубой силы.
В результате военные возвысились и «было положено начало зависимости гражданской власти от военной»40, что во многом и привело Белое движение к печальным итогам.
Гришин-Алмазов метил в сибирские бонопарты и вчерашние союзники-«учредиловцы» стали для него конкурентами на власть. Однако они всячески пытались сохранить с ним союз, тогда как их оппонент открыто заявил о невозможности осуществления в условиях гражданской войны идей «народоправства».
Отношения между «левыми» и «правыми» накалилась уже в начале июля 1918 г. Противники эсеров в попытке захвата власти не дождались даже полного разгрома красных в Западной Сибири.
Так, приехав 2 июля 1918 г. в Омск, «учредиловец» Е.Е. Колосов встретил там Фомина, «приехавшего с фронта из-под Нижнеудинска и после доклада совету министров о текущих делах (как уполномоченный премьер-министра) должен был вернуться туда, к Иркутску. Нил Валерьянович доложил и о начавших там обнаруживаться настроениях.
На заседании из министров отсутствовал Гришин-Алмазов, на встречу с которым он особенно рассчитывал. Вместо него пришел начальник его штаба полковник Белов, «Виттенкопф»… Уже чувствовалось, что власть надо искать здесь, в кругах, представляемых «Беловым».
На докладе Фомин, глядя на Белова с характерным для него наклоном головы, сказал: «обращаю внимание, что в армии Пепеляева есть люди, говорящие: перевешаем сначала большевиков, а потом членов Временного правительства».
Белов старательно что-то записывал себе в книжку, видимо, для доклада Гришину-Алмазову. Остальные слушали молча, некоторые делая вид, что не слышат, что говорит Фомин, на лицах скользило выражение легкой досады на человека, допустившего нетактичность. После доклада Белов произнес несколько незначительных слов, а потом долго и нудно колесил вокруг да около поднятого вопроса, Гинс, мастер на такие операции. Ясно было, что он на стороне Белова. Он, вероятно, знал, что его-то вешать не будут. Спокойным за себя был и Михайлов (И.А., один из противников эсеров – ред.)
Не знаю, были ли приняты постановления по докладу Фомина… На следующее заседание, где он вторично выступал, меня уже не пустили. Протестовал против моего присутствия Михайлов И. А.… Переворот в Сибири… обнаружил, что реакция лучше подготовлена к захвату власти, чем демократия»41.
Заметим, что при дележе портфелей «учредиловцы», несмотря на свои заслуги в борьбе с большевизмом, не получили ни одного министерского поста.
Это объяснялось тем, что, едва организовав власть в Омске после ухода красных, они отправились на фронт как «контролеры» правительства. «Для борьбы с беззаконием у военных новая сибирская власть, по революционной традиции, пыталась назначать комиссаров, уполномоченных при чехословацких командующих фронтами (Фомин при Гайде, Михайлов при Гусарике, командующем Барнаульским фронтом)…42»
Причем белогвардейский историк Мельгунов укоряет их, что своим присутствием на таких должностях они словно «санкционировали» массовые расстрелы чехами пленных красных. И обвиняет того же Фомина в неприянтии мер. Он писал: на станции Посольская под Иркутском в плен попали помощник Гайды полковник Ушаков и его адъютант-чех, убитые красными. «В этот момент прибыла партия пленных. Гайда сказал: «Под пулемет». Пленных, где было много мадьяр, немедленно расстреляли»43.
Мельгунов подчеркивает: «Уполномоченным Правительства при I Средне-Сибирском корпусе (а не при Гайде – ред.) был эсер Фомин. Падает ли на него ответственность за этот эксцесс?44»
Поскольку Фомин ничего ответить не может, сделаем это за него: не падает, поскольку, по признанию Г.К. Гинса, 24 июля 1918 г. должности уполномоченных правительство ликвидировало. Ушаков же погиб 17 августа45.
Впрочем, и сам Мельгунов признает несерьезность подобных обвинений: «что могли сделать комиссары правительства с самовластным начальником Гайдой, легко и массово расстреливавшего пленных мадьяр»46?
А пока в Омске нарастала борьба за власть, в сибирской провинции нашлись желающие поспекулировать «учредительной» идеей. Так, капитан Сатунин 14 июля 1918 г. объявил в селе Уллях Алтайской губернии от имени Сибирского правительства республику и ввел военное положение до Учредительного Собрания»47. Тем самым он прикрывал свое стремление бесконтрольно править в занимаемых им местностях и одновременно пытаясь оградить себя от недовольства местного населения.
Однако вскоре его освободили, и он продолжил подобными мерами бороться против несогласных с белогвардейцами, уже не прикрываясь Учредительным Собранием. И опять ничем серьезным для него это не кончилось. Счеты с ним свели в момент краха колчаковщины по одним данным красные, по другим – мятежники его же отряда.
Свои самочинные действия прикрывали Учредительным Собранием и атаманы. Так, в апреле 1918 г. на объявил о создании Временного Забайкальского правительства Г.М. Семёнов. Оно и сам Семёнов провозгласили скорейший созыв Сибирского Учредительного собрания, заявив: «не за горами Сибирское Учредительное собрание. Свободно избранное, оно выявит волю и ожидания сибиряков»48.
Атаман Гамов же обещал сдать власть Всероссийскому Учредительному собранию. А в своих обращениях к населению атаман Калмыков заявлял, что борется с красными с целью доведения России до Учредительного собрания49.