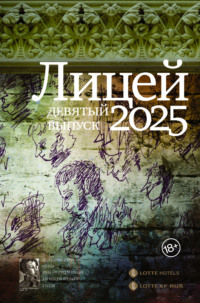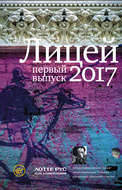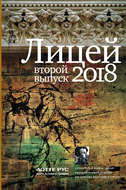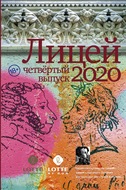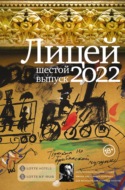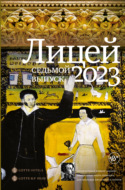Kitabı oxu: «Лицей 2025. Девятый выпуск»
© Павлова С., Баснер А., Бабина А., Калашников С., Крылова Ю., Затонская М., тексты
© Андерсен М.Б., предисловие
© Григорьев В., предисловие
© Аствацатуров А., Маркина А., предисловие
© Бондаренко А., художественное оформление
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Упомянутый в книге Олег Тиньков в соответствии с российским законодательством признан иностранным агентом или лицом, выполняющим функции иностранного агента.
В логотипе премии “Лицей” используется гравюра В.А. Фаворского “Пушкин-лицеист”, 1935 г.
В оформлении переплёта использованы рисунки Арсения и Леонида Тишковых

Обращение Генерального директора АО «ЛОТТЕ РУС» Мортена Бундгорда Андерсена
Дорогие друзья,
талантливые авторы,
вдохновлённые творцы!
Девятый выпуск литературной премии «Лицей» имени Александра Сергеевича Пушкина – это не просто сборник текстов, это живой диалог поколений, смелый эксперимент, искренний разговор с миром.
Каждая строчка, присланная на конкурс, – это частица души, отважный шаг навстречу читателю, попытка сказать то, о чём нельзя промолчать. Вы – молодые прозаики и поэты – не просто пишете, вы создаёте новые миры, находите неожиданные слова для вечных тем, дарите нам, читателям, возможность увидеть привычное иначе. И в этом – ваша сила, ваша магия.
Ваши тексты – это не чернила на бумаге. Это – нервные импульсы, зашифрованные послания, крики и шёпоты, которые кто-то, листая страницы, примет как свои. Вы не сочиняете. Вы разгадываете мир и оставляете нам, читателям, подсказки.
Спасибо вам за смелость, за честность, за доверие к слову. Литература начинается там, где есть мужество быть собой, и вы доказали, что обладаете этим качеством в полной мере. Пусть ваши тексты находят отклик, пусть каждая новая страница приносит радость открытия, пусть ваши имена звучат всё громче.
Пускай премия «Лицей» станет для вас новой ступенью, а ваши творческие пути будут долгими и счастливыми. Вперёд, к новым историям, к новым стихам, к новым победам!
Генеральный директор АО «ЛОТТЕ РУС»
Мортен Бундгорд Андерсен
Похищенные у стихии и приведённые в гармонию звуки
Мы умираем, а искусство остаётся.
Его конечные цели нам неизвестны
и не могут быть известны.
А.А. Блок «О назначении поэта»
Шестого июня, в день рождения Александра Пушкина, чьё имя носит премия, на Красной площади традиционно были названы имена лучших молодых поэтов и прозаиков – лауреатов девятого сезона премии «Лицей». За эти годы «Лицей» из единственной российской премии для молодых авторов превратился в одну из самых престижных наград страны. В 2025 году в секретариат премии поступило 2028 заявок из 298 городов России и 28 стран мира. 338 претендентов на одно призовое место!
Популярность и качество премии подтверждают и издательства, которые забирают в свои портфели произведения «лицеистов» уже на этапе длинного списка. Многие финалисты и лауреаты премии «Лицей» хорошо известны не только профессиональному сообществу. Книги Аси Володиной, Екатерины Манойло, Ислама Ханипаева, Варвары Заборцевой, Алексея Колесникова, Анны Чухлебовой и многих других выходят в лучших издательствах России, они – желанные гости книжных фестивалей и многочисленных литературных событий по всей стране. Рад, что для молодых талантливых авторов «Лицей» действительно стал трамплином в большой мир, мир читательской любви и признания коллег по «цеху».
Думаю, членам жюри девятого сезона премии «Лицей» – писателю, профессору Санкт-Петербургского государственного университета, директору Музея Владимира Набокова Андрею Аствацатурову (председатель жюри); прозаику, финалисту премии «Большая книга» Дарье Бобылёвой; писателю, поэту, главному редактору «Литературной газеты» Максиму Замшеву; поэту, прозаику, лауреату восьмого сезона премии «Лицей» Анне Маркиной; редактору, эксперту образовательных программ арт-кластера «Таврида» Алексею Портнову и литературному обозревателю Елене Чернышёвой – было очень непросто сделать свой выбор. Но уверен, им было интересно: произведения «лицеистов» – это всегда погружение в мир современной молодой литературы. В этом году жюри отметило специальными дипломами двух финалистов: поэта Артёма Ушканова «за смелость проследовать путём Данте» в его «Больничной поэме» и Варвару Заборцеву со сборником малой прозы «Марфа строила дом» – «за умение слышать и понимать других».
Первое место в номинации «Поэзия» занял Сергей Калашников из города Павлово Нижегородской области со сборником стихотворений «А вот они». В стихах Калашникова можно найти и чеканный ритм пастернаковских поэм, и отсылки к произведениям футуристов начала ХХ века. При этом его поэзия живая, выстраданная и отражает сегодняшнее время. На втором месте – сборник стихотворений «Светочувствительность» Юлии Крыловой из Москвы. Это зрелые и местами неожиданные стихи, с метафизикой и множеством деталей, лаконичные и цельные, очень личные и отстранённые одновременно. Третий приз получила Мария Затонская из Сарова. Её сборник «Свидетель» наполнен символизмом и недосказанностью, остротой мировосприятия, чуткостью по отношению к языку, к слову и к жизни.
Первое место в номинации «Проза» заняла Светлана Павлова (Москва) с романом «Сценаристка». Крепкий, динамично развивающийся сюжет, отличные диалоги, яркие и живые персонажи – уверен, читатели полюбят этот роман. Второе место – у Анны Баснер (Москва) за повесть «Последний лист». Писательница мастерски выстраивает сюжет, ювелирно работает со словом и стилем. Семейная история, полная тайн, поступки и компромиссы, целью которых было благо, а результатом оказались боль и разочарование. Третье место жюри отдало Анне Бабиной из Санкт-Петербурга за роман «Знаки безразличия». Можно ли выйти победителем из схватки со злом, когда на его стороне всеобщее безразличие? Когда серия убийств потрясает маленький город, главная героиня пытается защитить безвинных. Детектив, леденящий кровь, но одновременно – глубокая, человечная история о неравнодушии.
Pulsuz fraqment bitdi.