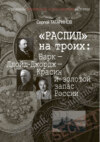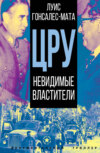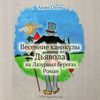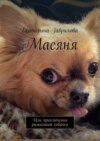Kitabı oxu: ««Распил» на троих: Барк – Ллойд-Джордж – Красин и золотой запас России», səhifə 3
Глава 2
Большая, но не дружная семья европейских народов. Но ведь действительно семья…
Может быть, в вечер того памятного дня 5 августа 1914 г., когда в войну вступил кузен Георг V, Николай II вспоминал золотые деньки 1909 г., когда еще один член большой европейской семьи Вильгельм II115в парадной форме русского адмирала поднимался в Киле на борт царской яхты «Штандарт» с огромным букетом белых роз, или их совместные, с богатыми трофеями охоты? «Как только подали сходни, – писал очевидец тех событий, – император, зажав в сухой руке цветы116, вошел на палубу и сердечно обнялся с государем. По-видимому, оба императора были душевно рады встрече. Как всегда, императрица обнималась с кайзером, и высокие родственники удалились в царскую рубку»117.
Конечно, морские офицеры не знали, о чем беседовали их монархи. Но смею предположить, что уж точно не о подготовке к войне друг с другом. Тогда Николай II еще вполне доверял брату Вильгельму. Полагаю, взаимным заверениям в вечной любви и привязанности не было конца: «Ворота шлюза широко распахнулись, с юта показали “чисто за кормой”, и яхта рванула и тихо вышла из шлюза, под звуки “Боже, царя храни”, “Wacht am Rhein”118 и многочисленные “хохи” свеженьких фрейлин, добрых фрау и почтенных бюргеров, стеной стоявших на откосах [Кильского] канала119. Великолепные разъезды бессмертных гусар полевым галопом начали конвоировать яхту по берегам канала. Через известные промежутки времени разъезды эти сменялись кирасирами, уланами, и ехавшие за ними в автомобиле фельдъегеря нашего двора сейчас же передавали офицерам и солдатам ордена и медали от нашего Государя. С их величествами шла вся семья принца Генриха120. Дети были очень дружны и все время бегали по яхте, со страхом ожидая прохода под мостами»121.

Император Всероссийский Николай II и принц Уэльский Георг
1909
[Из открытых источников]
Но такова монаршая дружба: от любви до войны один шаг, а может быть, и меньше. Пройдет всего несколько лет, и тысячи их верноподданных, бывшие свидетелями этой братской встречи двух императоров и с таким энтузиазмом кричавшие «ура» и «хох», с не меньшим энтузиазмом станут убивать и калечить друг друга. И тут выяснится, что «бессмертные гусары» вполне обычные люди из плоти и крови…
Безусловно, вопреки всем немецким заверениям в любви и преданности вечной дружбе, Николай II с каждым годом все меньше и меньше доверял Вильгельму II. Уж больно много было признаков того, что заматеревшая Германия будет не слишком покладистым соседом в будущем, несмотря на все родственные связи двух монархий. А потому креп англо-франко-русский союз. Демонстрировалась готовность сотрудничать в военном плане.
А может, императору вспомнились и незабываемые дни, проведенные в гостях у дядюшки Берти или Эдуарда VII (кому как больше нравится). И здесь, у берегов «туманного Альбиона», его встречали с огромной помпой. И вновь не случайные люди, а члены семьи.
Смею предположить, зрелище единства и величия суверенов двух монархий получилось незабываемое: «На громадном портсмутском рейде императорскую яхту встретил весь английский флот, построенный в каре. На нем было более тридцати английских адмиралов. Здесь же яхту государя встречал король Георг V на своей яхте “Виктория и Альберт” и, пропустив “Штандарт” вперед, пошел сзади нас» 122.
Конечно, такое не забывается. Или забывается?
Но как можно забыть то единение душ, глубокую взаимную привязанность, которые всегда неизменно демонстрировали эти два отпрыска величайших монархий мира. Ведь задолго до того памятного визита, еще в сентябре 1896 г., недавно взошедший на престол Николай II с супругой посетили Великобританию. Королева Виктория принимала российского императора Николая II с императрицей в королевской резиденции Балморал в Шотландии. Именно тогда одна из придворных дам королевы Виктории написала о Николае II: «Совсем как тощий герцог Йоркский – полная его копия». Понятно, что речь шла о Георге V, который тогда носил титул герцога Йоркского. «Однако что-то более, чем внешнее сходство, объединяло будущего короля Георга V и его русского кузена», – отмечает британский историк. И это душевная близость, а не только родство по крови: «Их привязанность друг к другу была неподдельной, искренней»123. Поверим.
Безусловно, поразительное внешнее сходство Николая II и Георга V просто бросалось в глаза124, хотя уже тогда более наблюдательные современники отмечали и различия. «Принц Уэльский в те дни был действительно поразительно похож на нашего государя, – пишет А. А. Мордвинов. – Одетые в одно и то же платье, они казались бы совершенно близнецами, и их нетрудно было бы смешать, несмотря на более темную окраску волос у принца. Но в интонации голоса, манерах, выражении глаз и улыбке чувствовалась уже большая разница; вероятно, различны были их характеры и привычки. Принц Уэльский, по рассказам придворных, очень любил, как и наш государь, море и моряков; говорили также, что он был очень замкнут и неразговорчив. Последнего я лично не заметил. Во время наших совсем кратких неофициальных встреч он всегда был очень общителен, оживлен и весел»125.
Не отказал себе в удовольствии уколоть царя, пусть уже и покойного, советский дипломат И. М. Майский, полагаю, скорее, следуя большевистскому ритуалу порицания всего, что связано с «кровавым режимом Николашки». «Пожалуй, в осанке и в выражении лица английского короля было больше уверенности, чем в осанке русского царя», – отметил он в своих воспоминаниях, повествуя о церемонии вручения верительных грамот Георгу V126.
Здесь же в Балморале в 1913 г. гостила Мария Федоровна – вдова Александра III и мать Николая II. Место ей очень понравилось. «Зубчатые стены замка возвышались над зеленью вековых дубов, казалось, тайны прошлого растворены в здешнем воздухе, а тени знаменитых людей бродят вместе с нами по дорожкам парка. Этот замок невозможно забыть»127, – писала в своих воспоминаниях сопровождавшая императрицу фрейлина высочайшего двора Зинаида Менгден128.
Следует отметить, что отношения между Россией и Великобританией накануне войны летом 1914 г. оставались по-прежнему весьма непростыми. Конфликты интересов двух империй в Персии, Афганистане, Индии, Средней Азии никуда не исчезли, хотя их несколько смягчило заключение в 1907 г. Англо-русского соглашения, разграничившего сферы влияния России и Британской империи в Средней Азии. В результате Персию поделили, а Афганистан признали зоной исключительных интересов Англии. Несмотря на то, что подписавшие документ российский министр иностранных дел А. П. Извольский129 и британский посол в Санкт-Петербурге130, как водится, обменялись крепким рукопожатием и заверили друг друга в чистоте помыслов, подозрительность британцев насчет намерений России в Афганистане никуда не делась. Между Российской и Британской империями в предвоенный период установились отношения, которые современный американский историк Розмари Томпкинс образно характеризует как годы «нелегкой дружбы»131. Что ж, Великобритания была готова «дружить» с Россией и даже сражаться на одной стороне, но только до того момента, пока эта дружба не вела к укреплению позиций некомфортного союзника на мировой арене.
Определенно, союзник в лице Лондона при царском дворе нравился далеко не всем. Как напишет в своих мемуарах все тот же А. П. Извольский, «совершенно верно, что императрица Александра недружественно относилась к сближению с Англией и высказывала это мнение совершенно откровенно во время моих переговоров по этому поводу с лондонским кабинетом, но в то время она не играла решающей роли в направлении политики, которую она приняла на себя позже, и я никогда не имел основания жаловаться на ее вмешательство в эти переговоры»132.
Примечательно, что еще 2 августа 1914 г., т. е. до фактического вступления России в войну, Ллойд-Джордж, обедая в узком кругу наиболее доверенных лиц, «жестко настаивал на опасности укрепления России и тех проблемах, которые это обстоятельство создаст, если Россия добьется успеха». И хотя он прямо не сказал «успеха в войне», но из контекста совершенно очевидно, что именно это он имел в виду. «Как вы будете себя чувствовать, если вы станете свидетелем того, как Германия будет побеждена и уничтожена Россией?» – спросил он собеседника. И при этом добавил: «В 1916 г. Россия будет располагать большей по размеру армией, чем Германия, Франция и Австрия, вместе взятые. Франция предоставила русским миллионные кредиты на постройку железных дорог стратегического значения, необходимых для переброски их армий к германской границе. Их строительство будет завершено в 1916 г.».
И Ллойд-Джордж был не одинок в своем подозрительном отношении к России. Так, присутствовавший на том ужине генеральный прокурор, главный юридический консультант правительства и член кабинета сэр Джон Саймон133, вспомнив Крымскую войну – эту родовую травму всей британской аристократии, прямо заявил: «Трехсторонний союзный договор Антанты был ужасной ошибкой. Почему мы должны поддерживать такие страны, как Россия?»134
И это сказал не кто иной, как Джон Саймон, уже к тому времени опытнейший государственный деятель, которому еще предстояло сыграть важнейшую роль в формировании британской политики на трех министерских постах – внутренних, иностранных дел и финансов.
Глава 3
А кто решает?
По мере обострения международной обстановки резко активизировалась «финансово-банковская дипломатия». И это неспроста. Ведь недаром считалось, что длительные деловые отношения, густо замешенные на взаимном денежном интересе, создают куда как более доверительную обстановку между партнерами по бизнесу, в отличие от чинных, донельзя забюрократизированных дипломатических контактов. И когда официальные дипломаты расписались в собственном бессилии, признав невозможность договориться, в дело вступили пусть не послы, но уж точно атташе толстых кошельков. Фактически в бой был брошен последний, тайный резерв бюрократии – банкиры.
В конце июля 1914 г. в Петербург с особой миссией прибыл сам Роберт Мендельсон135, старший из братьев-разбойников, владеющих банком. В общем человек в русской столице более чем известный, к тому же, по верованиям царских аппаратчиков, надежный настолько, что через его компанию закупал золото на десятки миллионов рублей сам Государственный банк, не говоря уже о других операциях. Бизнес придворного российского банкира он унаследовал от своего не так давно ушедшего из жизни отца – самого маэстро, подлинного виртуоза банковского бизнеса Эрнста фон Мендельсона136. Еще бы, принадлежавший его семье банк уже с конца XVIII столетия вел операции в интересах российской казны. А век XIX воистину стал порой расцвета их бизнеса, когда через этот берлинский банк потекли миллионы фунтов стерлингов золотом, которые шли на финансирование русской армии в ее заграничных походах 1813–1815 гг. во время войны с Наполеоном I. О, это счастливое время! Клан Мендельсонов, активно взаимодействуя с Ротшильдами, плотно осевшими во всех ключевых европейских столицах, хорошо погрел руки на русских облигациях и сложных схемах финансирования победоносных русских армий, увы, испытывавших постоянный, непреходящий недостаток только в одном – звонкой монете. Да и русско-японская война обернулась для Мендельсона золотым дождем, когда он «снял» с займа, предоставленного России в апреле 1905 г., 7 % со всего тела кредита. Это был настолько бесстыдный грабеж, что французские банкиры едва не подавились слюной от зависти и долго не могли успокоиться, пребывая в чрезвычайном раздражении от успеха конкурента137. Естественно, в этом вопросе никак не обошлось без содействия министра финансов Коковцова138.
Итак, уже не очень молодой, но еще энергичный Мендельсон в первую очередь направился к старому знакомому Барку, согласие которого получил еще ранее, направив телеграмму от имени банка из Берлина. Поначалу оба предались ностальгическим воспоминаниям о тех временах, когда Роберт в знаменитой «зеленой комнате» – этом почти священном месте для всех сотрудников банка – посвящал Петра в тонкости европейского банковского бизнеса. Благо Барк, будучи выпускником престижной немецкой гимназии Анненшуле в Петербурге, владел немецким, как родным. Хотя какой язык был для него родным, судить трудно. То ли Петр Львович оказался не в настроении либо почему-то тяготился этими, казалось бы, приятными для обоих днями, то ли Мендельсон уж слишком настойчиво намекал, что его и Барка связывают особые отношения, но российский министр финансов постарался как можно скорее перейти к сути вопроса. Посетитель намек понял, стремительно свернул мемуарную часть и, явно для отвода глаз, незамедлительно поведал, что германские банкиры готовы распространять русский железнодорожный заем, благо денежное положение в стране этому благоприятствует. Но, как всегда, есть нюансы, ибо «политическое положение исключительно тревожно». И здесь он начал «частным образом и строго конфиденциально» излагать главное, поскольку «мы знаем друг друга с давних пор».

Владимир Николаевич Коковцов
[Из открытых источников]
Мендельсон прочно усвоил, что должен сказать русскому министру, ведь буквально накануне его тщательно проинструктировал лично светило германской дипломатии, статс-секретарь по иностранным делам Готлиб фон Ягов139. Четко придерживаясь полученных директив, Мендельсон сообщил Барку, что германские финансовые круги, как и публика в общем, «были всегда настроены за сохранение хороших отношений с Россией» и, как результат, «существенные интересы России и Германии нигде не сталкиваются». А посему дело за малым: для укрепления и сохранения этих «хороших отношений» от России требуется совсем немногое – отказаться от союза с Францией и поддержки Сербии в конфликте с Австро-Венгрией. Понятно, что до разрешения ситуации ни о каком размещении займа речь идти не может.
Конечно же, Петр Львович незамедлительно разоблачил (для себя, разумеется) Мендельсона: тот, хотя и уверял, что говорит «совсем частным образом», явно исполнял поручение германских властей. А посему сообразно своему должностному положению профессионального финансиста Петр Львович вежливо, но твердо и прямо указал визитеру на дверь, пояснив, что эти вопросы его «совершенно не касаются» и Мендельсону следует повидать министра иностранных дел Сазонова140. Подобный совет выглядел несколько издевательским, ибо последний был хорошо известен как ярый англофил. Конечно, всю эту историю о принципиальности нашего героя мы знаем только со слов самого Петра Львовича. Иные версии нам недоступны.
Надо отметить, что банк «Мендельсон и Ко» (Mendelssohn & Co.) до последнего работал с российскими партнерами. В начале июля 1914 г. благовещенское отделение Русско-Азиатского банка отправило в его адрес бандероль с золотом стоимостью 128 202 руб. в качестве обеспечения аванса этой кредитной организации141.
В целом следует учитывать, что Германия во второй половине ХIХ в. устойчиво выступала одним из основных торговых партнеров России, несмотря на возникающие время от времени (надо признать, с обеих сторон) протекционистские инциденты. Вполне естественно, что на этом фоне в 1910–1911 гг. наличность в германских банках почти в 4 раза превышала наличность в английских: 206 млн руб. против 54 млн руб. золотом. «Следовательно, – полагают советские исследователи, – в отношении Германии намеченный курс финансовой политики [на диверсификацию размещения резервов. – С. Т.] проводился недостаточно последовательно. Кроме того, Министерство финансов считало, что из имевшихся в Германии сумм 70 млн руб. были предназначены для платежей по военным заказам, а 30 млн руб. поступали в уплату за покупаемое банкирским домом Мендельсона золото, поэтому золотая наличность в Германии должна была уменьшиться на 100 млн руб.»142.

Петр Львович Барк
[Из открытых источников]
Но войны ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Санкт-Петербурге никто не ожидал. Россия хотя и готовилась к ней, но делала это недостаточно усердно. Тем более что незадолго до начала боевых действий в целях экономии по требованию министра финансов Коковцова, дабы освободить склады, были распроданы и раздарены миллионные запасы винтовок, а резерв боекомплекта на одно полевое орудие определен в размере расхода японской кампании – 720 снарядов. В итоге перед войной имели 850– 1 000 снарядов на одно 76-мм орудие. Полагали, на короткую и, разумеется, победоносную войну хватит 143.
Но все эти проблемы, похоже, особо никого не тяготили, даже военного министра. Впоследствии сам военный министр Сухомлинов144 признавался, что всего за неделю до начала войны, направляясь 25 июля 1914 г. по срочному вызову царя на совещание в Красное Село, «не испытывал никакого предчувствия относительно надвигающейся катастрофы»: «Я знал личное миролюбие царя и не получил никакого извещения о предмете предстоящего заседания»145. А ведь речь пошла фактически о непосредственной подготовке к войне, о начале мобилизации! А военный министр не захватил с собой не то что начальника Генерального штаба, но даже дежурного адъютанта. Однако все это не помешало Сухомлинову, завершая рассказ о том памятном совещании, написать: «В 1914 г. армия была настолько подготовлена, что, казалось, Россия имела право спокойно принять вызов. Никогда Россия не была так хорошо подготовлена к войне, как в 1914 г.»146. Хотя, безусловно, военный министр Сухомлинов не мог не знать, что тяжелой артиллерии и боезапаса к ней катастрофически не хватало: каждая германская дивизия имела 14 батарей, в то время как наша только семь. Но в подавляющем большинстве настроение царило такое: чего не хватит – купим. Золотой запас позволяет если не все, то многое.
В высших сферах российской власти, особенно среди дипломатов, летом 1914 г. все же преобладали шапкозакидательские настроения. Так, посол России во Франции «Извольский на всех перекрестках заявляет, что Россия готова к войне и что война неизбежна. Какая глупость, даже если это правда!»147 Это запись из дневника британского посла в Париже знаменитого Фрэнсиса Берти, более известного как лорд Берти148. И сделана она 31 июля 1914 г., т. е. в последний день мира в Европе.
Но совсем иначе реагировали простые люди, которые, в отличие от политиков, куда острее чувствовали угрозу надвигающейся опасности. Наученные горьким опытом последней войны с Германией, когда пруссаки вплотную подошли к Парижу, горожане кинулись спасать свои кровные. Уже к 4 часам утра 29 июля перед штаб-квартирой Банка Франции, известной как Тулузский отель (Hotel de Toulouse), собралась толпа в 30 тыс. чел., жаждущих обменять бумажные деньги на звонкую монету; очередь растянулась почти на два километра – мимо Пале-Рояля и далее по улице Риволи к саду Тюильри149. В Банке Франции не оробели и сообщили, что готовы «продолжать выплачивать золото столько, сколько понадобится». Увы, сдержать это смелое обещание не удалось…
Следует отметить, что Банк Франции подошел к началу войны с хорошим запасом прочности: к концу июля 1914 г. резервы золота в слитках в его хранилищах превышали 800 млн долларов. И произошло это именно благодаря его гувернеру: еще «в 1897 г.150 его новый управляющий Жорж Паллен151 собрал своих подчиненных и сказал, что банк должен быть готов к “любым непредвиденным обстоятельствам”, имея в виду войну против Германии. При Паллене Банк Франции начал неустанно наращивать запасы золота. Каждый раз, когда золотые резервы Рейхсбанка увеличивались, Банк Франции оказывался на шаг впереди него – своеобразная гонка вооружений, объектом которой было золото»152.
Не произвело особого впечатления начало войны и на русского императора. По-моему, Николай II отнесся к этому чрезвычайному событию не то что спокойно, а, скорее, равнодушно. 19 июля (ст. ст.) 1914 г. он записал в дневнике: «После завтрака вызвал Николашу153 и объявил ему о назначении верховным главнокомандующим впредь до моего приезда в армию… Погулял с детьми. В 6 1/2 поехали ко всенощной. По возвращении оттуда узнали, что Германия нам объявила войну. Обедали… Вечером приехал анг[лийский] посол Buchanan154 c телеграммой от Georgie. Долго составлял с ним вместе ответ. Потом видел еще Николашу и Фредерикса155. Пил чай в 12 1/4»156. И все! Я понимаю, отложились в памяти важные встречи: с послом Великобритании, новоназначенным верховным главнокомандующим. Но при чем здесь посещение министра двора, далеко не самого важного чиновника, в столь ответственный момент, или надо было уточнить срочный порядок пополнения запасов императорской винотеки, пока у поставщиков не все расхватали?
Как писал в своей статье «Почему Россия вступила в войну» в октябре 1914 г. известный британский военный корреспондент Эмиль Диллон157, «финансовая и военная политика России была ориентирована на стабильный мир. Три хороших урожая подряд, два из которых были необычно обильными, придали мощный стимул развитию торговли и промышленности. Финансовая ситуация была отличной. Денег было предостаточно во всех отраслях, и только относительно незначительная их часть [выделено мною. – С. Т.] тратилась на армию и флот»158.
Об этом же пишет в своих воспоминаниях и сам Сухомлинов: «С 1906 года со дня на день выяснялось враждебное отношения Коковцова к бюджету военного ведомства. Когда после японской войны было заявлено, что на восстановление армии требуется два миллиарда рублей, он ответил, что можно требовать и 20 миллиардов, но страна дать их не может: “Из Невы и невского воздуха денег сделать нельзя”159. Действенных же шагов для восстановления финансов он, однако, предпринять не смог»160. О, мягко выражаясь, натянутых отношениях Сухомлинова и Коковцова, говорившего о военном министре не иначе как о «злополучном для России человеке»161, хорошо знал весь чиновничий мир, да и сам император.
Мне трудно судить, кто из министров был более прав или не прав. При ограниченных внутренних финансовых ресурсах объемы внешней задолженности России уже тогда росли, как на дрожжах: если государственный долг на конец министерства Вышнеградского162 в 1892 г. составлял 4,905 млрд руб., то к моменту, когда С. Ю. Витте покинул пост министра финансов в 1903 г., – 6,679 млрд руб.163 Коковцов получил непростое наследство. Однако, к нашей удаче, оба министра оставили воспоминания, поэтому читатели могут сами составить представление по данному вопросу. К сожалению, из-за возникшей взаимной неприязни именно этот министр финансов, как, следует признать, и большинство его предшественников, был лично особо заинтересован в сокращении военных ассигнований со всеми вытекающими отсюда последствиями…
Знал ли об этих проблемах Николай II? Безусловно да. Но насколько глубоко вникал в суть проблемы – мне не известно. Почему же так происходило? Один из возможных вариантов ответа на этот вопрос находим в воспоминаниях человека, близко стоявшего к императору в течение многих лет, но буквально накануне войны впавшего в немилость. «Конечно, мои разногласия с Сухомлиновым, а тем более мои настойчивые заявления о том, что в военном ведомстве у нас далеко не благополучно, были ему [царю. – С. Т.] неприятны, а при сравнительно частом их повторении и просто докучали», – отмечал Коковцов. Но главное: «Они лишали государя иллюзии в том, что было наиболее близко его сердцу»164.
Так вот, полагаю, суть в том, что для Николая II самым болезненным было лишиться именно иллюзии могущества русской армии, иллюзии, что удалось преодолеть позорное состояние, в которое погрузилось российское общество после поражения в русско-японской войне. Этим Николай II во многом напоминает мне своего великого предка Николая I, пережившего тяжелейшее духовное потрясение после того, как стала очевидной полная неподготовленность России к Крымской войне 1853 г. Ведь императора десятилетиями убеждали в непобедимой военной мощи России, «блестящем состоянии дел» в армии, и он свято в это верил. А потом в одночасье его лишили этой иллюзии, которой он жил, ради которой дышал и упорно трудился, и могущественный монарх потерял интерес к жизни, он просто отказался дышать в новой, удручающей реальности, ведь еще так свежи оставались воспоминания о блистательной победе над Наполеоном I и мировой славе России. И вот теперь примерно в подобный капкан иллюзий могущества собственной империи попал и Николай II.
Но оставим гадания и вернемся к фактам. Реальность была безжалостна.
15 августа 1914 г. британские экспедиционные силы в составе 6 пехотных дивизий и 5 бригад кавалерии, организованные в два корпуса, пересекли Ла-Манш и начали высадку во Франции.
Но в Лондоне хорошо знали, что для войны нужны не только, по образному выражению Наполеона I, «большие батальоны», а в первую очередь золото. И еще до того, как первый британский солдат сошел с трапа корабля на французский берег, Банк Англии приступил к лихорадочной мобилизации золотых ресурсов, пылесося драгоценный металл во всех краях империи и за границей. В первую очередь взор лондонских банкиров обратился на Канаду. И пока в Санкт-Петербурге пребывали в расслабленном ожидании вестей о великих победах на фронте, англичане гребли все: американский золотой доллар, слитки, японскую золотую иену. Уже 12 августа 1914 г. на счет Банка Англии в Оттаве поступила первая партия золота от компании «Риддер, Пибоди и Ко»165, а затем и из Имперского банка Канады166. В дальнейшем активизировались поставки золотой монеты в интересах Банка Англии из Нью-Йорка: если в сентябре 1914 г. ее было закуплено на 8,16 млн долл., то в октябре уже на 43,476 млн долл. В один день компания «Дж. П. Морган и Ко» (Messrs. J. P. Morgan & Co.) продала золота на 10,8 млн долл. Из 288 поставок 166 пришлись на Нью-Йорк, 39 – на Бостон, 21 – на Филадельфию, 20 – на Чикаго, 16 – на Сан-Франциско. Незначительные партии приходили также из Австралии через Сингапур и с приисков Бразилии. Пока курс фунта стерлингов к доллару США держался и покупать золото было выгодно, поставщикам выплатили в пересчете на британскую валюту 21,4 млн ф. ст. Всего к концу 1914 г. удалось получить 5 073 944 унции в пересчете на чистое золото на сумму около 105 млн долл.167 Но это никак не могло удовлетворить аппетиты Лондона. Начался лихорадочный поиск новых источников желтого металла. И, как всегда в сложной ситуации, вспомнили о большой «молочной корове», как еще в XVIII в. британские купцы прозвали Россию.
А в США среди бизнесменов царило приподнятое настроение. Все хорошо понимали: большая война означает большие продажи. А купить можно будет только у Америки – у Европы нет иного выхода. Четко подметив эти настроения, 15 августа 1914 г. наиболее авторитетное деловое издание «Уолл-стрит джорнел», та газета, которую только и читают на бирже Нью-Йорка, цинично, но не без доли юмора, заметила: «По воскресеньям христиане слушают проповедников, молящихся за ниспослание мира, и на следующий же день высылают представителей в воюющие державы, чтобы посмотреть, нельзя ли продать им что-нибудь еще, чтобы продлить войну»168.
Тем временем русская армия, спасая союзников от полного разгрома во Франции, 17 августа 1914 г. начала наступление в Восточной Пруссии. Но еще 8 августа наштаверх генерал Янушкевич169 телеграфировал генералу Жилинскому170: «Нам необходимо готовиться к энергичному натиску при первой возможности, дабы облегчить положение французов»171. Хотя оба военачальника не скрывают своего пессимизма насчет перспектив этой операции, а «генерал Жилинский, главнокомандующий северо-западным фронтом, считает, что всякое наступление в Восточной Пруссии обречено на верную неудачу»172, русские войска под давлением союзников вынужденно переходят в решительную, кровавую атаку.
18 августа 1914 г. посол Франции Морис Палеолог173 телеграфировал из Санкт-Петербурга: «Фантастический энтузиазм толпы, – замечает наш посол, – свидетельствует о том, в какой мере эта война популярна в России»174. Это был единственный повод для радости у президента Франции. «Да послужит этот фанатизм, эта популярность так долго, как этого потребуют интересы союза», – отметил он в своем дневнике175.
Но взрыв патриотизма в российской столице аукнулся всеобщей паникой в Париже. Все началось с того, что в тот же день, 18 августа 1914 г., состоялось совещание премьер-министра Ж. Вивиани176 с министром финансов Жозефом Нулансом177, управляющим Банком Франции Ж. Палленом и директорами крупнейших банков, на котором обсуждали, как «улучшить условия кредита» во время войны178.
Но для банкиров прозвучал сигнал тревоги. Немедля ни минуты, уже вечером 18 августа 1914 г., «когда захватчики были еще в двух сотнях миль, в Брюсселе, Банк Франции воплотил в жизнь план, разработанный на случай чрезвычайной ситуации. Не зря Париж за предыдущие 100 лет трижды оказывался в руках неприятеля. Его золотые резервы – 38 800 золотых слитков и бесчисленные мешки с золотыми монетами на сумму 800 млн долларов и весом около 1 300 тонн – были в строжайшей тайне переправлены по железной дороге и на грузовиках в заранее подготовленные безопасные места в горах Центрального массива и на юге Франции. Операция по перевозке огромного количества золота шла без сучка и задоринки, пока один из поездов, перевозящих монеты, не сошел с рельсов в Клермон-Ферране. Чтобы ликвидировать последствия аварии, собрать деньги и не подпускать зевак, понадобилось 500 человек. К началу сентября подвалы Банка Франции в Париже были пусты»179.
Конечно, информация об эвакуации золотого запаса республики не могла не взбудоражить местные деловые круги: французский финансовый рынок затрещал, все переполошились. Благо народ хорошо помнил ту сумму, в которую обошлось поражение в войне 1871 г. с Пруссией: 5 млрд золотых франков контрибуции.
Но оказалось, что немцы куда проворнее, чем думали в Париже, и 20 августа 1914 г. они занимают Брюссель. В Париже все заговорили о скором поражении. Было очевидно, что у правящей верхушки нарастает чувство неуверенности в собственных силах, переходящее в откровенную панику. «Мы разбиты…» – записал президент Франции Р. Пуанкаре180 в своем личном дневнике 24 августа 1914 г.181 А 30 августа новое подтверждение скорого краха французской обороны: немецкие аэропланы появляются над Парижем. Казалось бы, выхода нет…
И среди этого хаоса только одна добрая весть вдохновляет французского президента. И приходит она из Санкт-Петербурга182. «В одном практическом вопросе русский министр финансов Барк выступает с очень конкретными проектами, – записывает Пуанкаре в своем дневнике в эти трагические дни августа 1914 г. – Он самым энергичным образом настаивает на том, чтобы мы облегчили французским держателям русских ценных бумаг получение наличными по их купонам. Россия, говорит Палеолог, более, чем когда-либо, заинтересована в том, чтобы доказать непоколебимость своего кредита. Он требует поэтому учреждения во Французском банке специального фонда. Корреспонденты русского казначейства должны вносить в этот фонд суммы, равные полученным ими процентам за каждый месяц прошлого года. Французский банк будет непосредственно обслуживать уплату процентов по займам. Ввиду моратория банк для пополнения необходимых средств должен прийти на помощь упомянутым корреспондентам путем учета под гарантией русского правительства. Другими словами, Россия требует от Французского банка факультативных авансов, которые, несомненно, станут фактом и, быть может, будут расти. Но как отказать? Как оставить неоплаченными во время начавшейся теперь войны купоны, которые во Франции являются доходом столь многих крестьян и мелких буржуа?»183 Конечно, ну как тут откажешь?
Мендельсон Пьер Франц, фон (Pierre Franz Walther von Mendelssohn; 1865–1935) – совладелец компании с 1892 г. и старший исполнительный менеджер компании с 1917 г. Приходился младшим братом Роберту Мендельсону. Был членом Совета директоров Рейхсбанка. Занимал высокие посты в различных экономических ведомствах и международных организациях. Покупал русское золото у большевиков (Мосякин А. Г. Золото Российской империи и большевики, 1917–1922: Документы с комментариями и анализом: в 3 т. М., 2021. Т. 2. С. 47).
Банкирский дом «Мендельсон и Кo» основан в 1795 г. Просуществовал до 1938 г., когда банк был ликвидирован и его дела переданы «Дойче банку». Активно работал на рынке российских гособлигаций и железнодорожных займов с середины ХlХ в. «Мендельсон и Кo» – придворный российский банк.