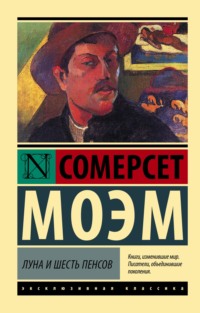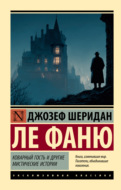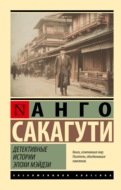Kitabı oxu: «Луна и шесть пенсов», səhifə 4
Глава двенадцатая
В это время дня улица Клиши была запружена народом, и человек с живым воображением мог разглядеть в прохожих персонажей из бульварной литературы. Кого здесь только не было! Здесь прогуливались клерки и продавщицы, старики, словно сошедшие со страниц романов Оноре де Бальзака, а также мужчины и женщины, профессионально извлекающие доход из человеческих слабостей. На улицах этого бедного квартала Парижа жизнь била ключом, заставляя сердце колотиться сильнее в ожидании внезапных приключений.
– Вы хорошо знаете Париж? – спросил я.
– Нет. Не был здесь с медового месяца.
– Как вам удалось набрести на эту гостиницу?
– Мне ее порекомендовали. Я хотел что-нибудь подешевле.
Принесли абсент, и мы с подобающей серьезностью стали смешивать его с тающим сахаром.
– Полагаю, лучше сразу открыть вам цель моего визита, – сказал я не без смущения.
Его глаза лукаво блеснули.
– Я не сомневался, что рано или поздно кто-то объявится. От Эми пришла груда писем.
– Тогда вы прекрасно знаете, что я собираюсь сказать.
– Письма я не читал.
Я закурил сигарету, чтобы потянуть время, не представляя, как перейти к делу. Заготовленные мною красноречивые фразы – проникновенные или негодующие – были здесь, на улице Клиши, неуместны. Стрикленд усмехнулся.
– Неприятная вам досталась работенка, так ведь?
– Не знаю, что и сказать, – ответил я.
– Вот что. Выкладывайте все поскорее, а потом проведем вместе приятный вечер.
Я колебался и медлил с ответом.
– Вам приходило в голову, что ваша жена страдает, что она в отчаянии?
– Эми справится.
Не решусь описать поразительную черствость, с какой это было сказано. Я смутился, но постарался скрыть свое смущение, приняв тон моего дядюшки Генри, священника, когда он уговаривал кого-нибудь из родственников принять участие в благотворительной акции.
– Не возражаете, если я буду говорить с вами откровенно?
Он улыбнулся и согласно кивнул головой.
– Разве она заслужила такое отношение?
– Нет.
– У вас есть к ней претензии?
– Никаких.
– Разве не бесчеловечно вот так бросить ее, безвинную, после семнадцати лет брака?
– Бесчеловечно.
Я посмотрел на Стрикленда с удивлением. Безоговорочное согласие с тем, что предъявлялось ему, выбивало почву из-под ног. Положение мое становилось затруднительным, если не сказать смехотворным. Я готовился к тому, что придется его убеждать, вызывать в нем сострадание, поучать, предостерегать и выдвигать требования, прибегая при необходимости к язвительности, негодованию, даже к сарказму, но что прикажете делать исповеднику, когда грешник признает свой грех, но не раскаивается в нем? Я о таком и не слыхивал, ибо моя привычная тактика сводилась к отрицанию предъявляемых мне обвинений.
– Ну, так что? – спросил Стрикленд.
Я постарался презрительно скривить губу.
– Раз вы все признаете, что тут скажешь?
– Видимо, ничего.
Я почувствовал, что довольно неумело выполнил возложенную на меня задачу, и разозлился.
– Но, в конце концов, нельзя же оставлять женщину без гроша.
– Почему нельзя?
– На что прикажете ей жить?
– Я семнадцать лет ее полностью обеспечивал. Может, теперь она для разнообразия сама о себе позаботится.
– Она не может.
– Пусть попробует.
Много чего нашлось бы на это возразить. Я мог бы поднять разговор об экономическом положении женщины, об обязательствах, которые – гласно и негласно – берет на себя мужчина, вступая в брак, и о многом другом, но я понимал, что тут важно лишь одно.
– Вы ее больше не любите?
– Нисколько.
Все поднимаемые мною вопросы почитались в человеческой жизни очень серьезными, но в манере, с какой Стрикленд на них отвечал, было столько задорной наглости, что я кусал себе губы, чтобы не прыснуть от хохота. Мне приходилось напоминать себе, что его поведение омерзительно, и через силу вызывать негодование.
– Черт побери, не забывайте, у вас есть дети. Что плохого они вам сделали? Сами они не просились в этот мир. Если вы и дальше будете действовать в том же духе, их выбросят на улицу.
– Они много лет провели в благополучии и комфорте. Большинству детей такое и не снилось. Кроме того, о них есть кому позаботиться. Когда придет время, МакЭндрю оплатит их обучение.
– Но разве вы их не любите? Они такие очаровательные. Не хотите же вы сказать, что судьба детей вас больше не интересует.
– Малышами я очень любил их, но теперь они выросли, и я больше не испытываю к ним никаких особенных чувств.
– Это противоестественно.
– Не спорю.
– Похоже, вам совсем не стыдно.
– Вы правы.
Я попробовал зайти с другого конца.
– Вас будут считать негодяем.
– Ну и пусть.
– Неужели вам все равно, что люди станут презирать и ненавидеть вас?
– Абсолютно.
Короткие презрительные ответы просто уничтожали мои естественные вопросы, и даже мне они стали казаться несусветной глупостью. Минуту-другую я размышлял.
– Не знаю, можно ли жить спокойно, понимая, что все вокруг осуждают тебя. Уверены ли вы, что способны это выдержать? Совесть есть у каждого, и рано или поздно она заговорит. Предположим, умрет ваша жена, разве не замучают вас угрызения совести?
Стрикленд молчал, и я некоторое время терпеливо ждал его ответа, но потом решился сам прервать молчание:
– Так что вы на это скажете?
– Только то, что вы дурак.
– В любом случае, вас могут заставить содержать жену и детей, – резко возразил я, почувствовав себя оскорбленным. – Закон возьмет их под свою защиту.
– Закону не под силу выжать воду из камня. У меня нет денег. В кармане не больше ста фунтов.
Я чуть не потерял дар речи. Гостиница, где он остановился, и правда говорила о весьма стесненных обстоятельствах.
– А что вы будете делать, когда и они закончатся?
– Заработаю как-нибудь.
Стрикленд сохранял полное спокойствие, в глазах его по-прежнему играла насмешливая улыбка, и от этого все, что я говорил, казалось сущим бредом. Я помолчал, соображая, что мне еще сказать. Но тут молчание прервал он.
– Почему бы Эми снова не выйти замуж? Она сравнительно молода и достаточно привлекательна. Могу подтвердить, что и жена она отличная. Если захочет развестись, я согласен взять вину на себя.
Настал мой черед улыбаться. Как он ни хитрил, но конечную цель выдал. У него есть основания скрывать свой побег с женщиной, и потому он делает все, чтобы утаить ее местопребывание. Я ответил решительно:
– Ничто не заставит вашу жену дать вам развод. Это ее твердое решение. Так что вам лучше на это не рассчитывать.
Стрикленд взглянул на меня с неподдельным изумлением. Улыбка сошла с его лица, и на этот раз он заговорил серьезно.
– Поверьте, мне наплевать, друг мой. Что так, что этак – для меня никакой разницы.
Я рассмеялся.
– Да бросьте. Не считайте всех идиотами. Известно, что вы бежали с женщиной.
Стрикленд слегка вздрогнул, а потом разразился громким хохотом. Хохот был такой оглушительный и заразительный, что на нас стали оглядываться сидящие поблизости люди, а некоторые и сами засмеялись.
– Не вижу ничего смешного.
– Бедняжка Эми, – осклабился он.
Затем лицо его презрительно скривилось в горькой усмешке.
– Как все-таки глупы женщины! Любовь. Всегда любовь. Если мужчина от них уходит, значит, нашел себе другую. Словно иных вариантов нет. Неужели вы считаете меня глупцом, затеявшим все это ради другой женщины?
– То есть вы хотите сказать, что ушли от жены не по этой причине?
– Нет, конечно.
– Честное слово?
Не знаю, зачем я потребовал «честного слова». Выглядело это наивно.
– Честное слово.
– Тогда какого черта вы ее бросили?
– Я хочу заниматься живописью.
Ничего не понимая, я уставился на него, не в силах произнести ни слова. Сумасшедший, промелькнуло в голове. Не забывайте, я был очень молод, а Стрикленда считал пожилым человеком. От изумления я позабыл обо всем.
– Но вам уже сорок лет.
– Это как раз и наталкивает меня на мысль, что пора начинать.
– А раньше вы рисовали?
– В детстве я мечтал стать художником, однако отец заставил меня идти в бизнес, все художники нищие, сказал он. Но весь прошлый год я вечерами посещал курсы.
– Вот где вы, значит, были. А миссис Стрикленд думала, вы проводите время в клубе за бриджем.
– Я занимался на курсах.
– А почему ей ничего не сказали.
– Предпочел держать это при себе.
– Вы хорошо рисуете?
– Еще нет. Но обязательно буду. Для этого я и приехал сюда. В Лондоне я не нашел того, что мне нужно. Надеюсь найти это здесь.
– По-вашему, человек может преуспеть в чем-то, начав в вашем возрасте? Большинство начинает рисовать лет в восемнадцать.
– Зато теперь я буду учиться быстрее, чем делал бы это в восемнадцать.
– А почему вы считаете, что у вас есть талант?
Некоторое время Стрикленд молчал. Его взгляд блуждал по движущейся толпе, но не думаю, что он что-то видел. Его ответ не был ответом по существу.
– Я должен рисовать.
– Считаете, риск оправдан?
На этот раз он посмотрел на меня внимательнее. В его глазах было какое-то непонятное выражение, от которого мне стало не по себе.
– Сколько вам лет? Двадцать три?
Этот вопрос показался мне неуместным. В моем возрасте сам бог велел рисковать, у него же юность осталась далеко позади, он был биржевым маклером с солидным положением, женат и имел двоих детей. То, что являлось нормальным для меня, для него было абсурдным. Я всего лишь хотел быть справедливым.
– Конечно, может произойти чудо, и вы окажетесь великим художником, но признайтесь, что шансы тут один к миллиону. Будет ужасно, если в конце концов вы удостоверитесь в бессмысленности своего поступка.
– Я должен рисовать, – повторил он.
– Предположим, вы останетесь третьесортным художником, стоит ли тогда все бросать ради сомнительного результата? Ведь в других областях не обязательно быть лучшим. Можно жить, и неплохо, оставаясь на протяжении всей жизни посредственностью. Но у художников все иначе.
– Да вы и правда дурак, – сказал он.
– Неужели надо быть непременно дураком, если говоришь очевидные вещи.
– Говорю же, я должен рисовать. Ничего не могу с этим поделать. Когда человек упал в водоем, неважно, хорошо он плавает или не очень, ему надо просто выбраться оттуда, иначе он утонет.
В его голосе звучала подлинная страсть, и, вопреки желанию, меня захватила эта сила. Я чувствовал, как она бурлит в нем – могучая, властная, управляющая им против его воли. Я ничего не понимал. Казалось, Стрикленд одержим дьяволом, который в любой момент может его растерзать, хотя со стороны он выглядел обычным человеком. Мой любопытный взгляд нисколько его не смущал. Интересно, думал я, за кого мог бы принять Стрикленда посторонний человек, увидев его здесь в старой куртке и нечищеном котелке, в помятых брюках, с немытыми руками и тяжелым, грубым лицом с рыжей щетиной на подбородке, маленькими глазками и крупным, резко очерченным носом. Рот у него был большой, губы – полные, чувственные. Лично я не смог бы определить, кто он.
– Так вы не вернетесь к жене? – сказал я наконец.
– Никогда.
– Она обещает все забыть и начать жизнь с новой страницы. И никаких упреков в будущем.
– Да пошла она к черту!
– И вам все равно, что люди будут считать вас подлецом? А жена и дети пойдут просить милостыню?
– Плевать хотел.
Я немного помолчал, чтобы набраться духу перед следующим заявлением. И произнес так уверенно, как только мог:
– Вы законченный хам.
– Теперь, когда вы облегчили душу, можно пойти пообедать.
Глава тринадцатая
Полагаю, было бы приличнее отказаться от этого предложения. Выразить свое возмущение, которое я действительно испытывал, и тем заслужить похвалу полковника МакЭндрю, рассказав ему при встрече, что я решительно отказался сесть за один стол с таким низким человеком. Но страх оказаться не на высоте и провалить свою роль всегда мешал мне быть моралистом, а в этом случае я понимал, что никакие мои увещевания не произведут на Стрикленда должного впечатления – все равно что палить из пушки по воробьям, и это особенно сдерживало меня. Только поэт или святой станут поливать водой асфальтовый тротуар в надежде, что на нем расцветут лилии.
Я заплатил за спиртное, и мы направились в дешевый ресторанчик, где было многолюдно и весело, и там с аппетитом (я – молодого, а он – бесчувственного человека) пообедали. Потом перебрались в таверну выпить кофе с ликером.
Я полностью выполнил приведшую меня в Париж миссию, и хотя чувствовал себя в некотором роде предателем по отношению к миссис Стрикленд, так как не добился нужного результата, но у меня уже не осталось сил бороться с равнодушием ее мужа. Только женщина может повторять одно и то же несколько раз с неослабевающим пылом. Я успокаивал себя тем, что будет полезно разобраться в душевном состоянии Стрикленда. Это меня особенно интересовало, хотя задача предстояла нелегкая: Стрикленд не отличался разговорчивостью. Он объяснялся с трудом, словно его мозг работал не со словами, а с чем-то другим, и то, что он хотел сказать, складывалось из банальных фраз, жаргона и неясных, отрывистых жестов. И хотя ничего значительного он не говорил, было в его личности нечто такое, что не позволяло назвать его недалеким или смешным. Возможно, из-за искренности. Казалось, его не очень интересовал Париж, хотя по-настоящему Стрикленд видел его впервые (краткая поездка во время медового месяца в счет не входит), и на местные достопримечательности он взирал равнодушно. В отличие от него, я был в Париже раз сто и каждый раз переживал бурю восторга. Когда я бродил по парижским улицам, мне всегда казалось, что за углом меня ждет приключение. Стрикленд же оставался ко всему безучастен. Оглядываясь назад, я думаю, что тогда он был слеп ко всему, кроме мятежных видений в его душе.
Один нелепый случай произошел в таверне, где было много проституток, кто-то из них уже обзавелся мужчиной, кто-то еще сидел в одиночестве, и тут я заметил, что одна из них смотрит в нашу сторону. Поймав взгляд Стрикленда, она улыбнулась. Не думаю, что он обратил на нее внимание. Через какое-то время она вышла, но через минуту вернулась и, проходя мимо нашего стола, очень вежливо попросила нас купить ей выпивку. Она присела за наш столик, я стал с ней болтать, но было очевидно, что ее интересует Стрикленд. Мой спутник знает по-французски всего несколько слов, сказал я. Женщина пробовала сама с ним объясниться – частично жестами, частично на ломаном французском, безосновательно считая, что так он лучше ее поймет, и десятком фраз на английском. Она заставляла меня переводить то, что могла выразить только на родном языке, и нетерпеливо ждала, что ответит Стрикленд. Тот находился в превосходном расположении духа, его это забавляло, но в остальном он оставался равнодушным.
– Похоже, вы одержали победу, – со смехом сказал я.
– Мне это не льстит.
На его месте я был бы больше смущен, но совсем не безучастен. У нее были смеющиеся глаза и восхитительные губы. Она была молода. Непонятно, что ее так влекло к Стрикленду. Девушка не скрывала своих желаний, и мне пришлось перевести:
– Она приглашает вас к себе домой.
– Такие женщины, как она, мне неинтересны, – ответил он.
Я перевел его ответ как можно любезнее. Сочтя, что отклонять такое приглашение невежливо, я объяснил его отказ отсутствием денег.
– Но он мне нравится, – сказала девушка. – Ему это ничего не будет стоить.
Я перевел ее слова, но Стрикленд нетерпеливо пожал плечами.
– Пошлите ее к черту! – был ответ.
Выражение его лица все говорило без перевода. Девушка гордо откинула голову и, возможно, покраснела под румянами. Она встала со словами:
– Monsieur n’est pas poli8.
И вышла из таверны. Меня это расстроило.
– Зачем вы ее оскорбили? – сказал я. – Она только хотела сделать вам приятное.
– От таких меня тошнит, – грубо отрезал он.
Я с любопытством взглянул на него. Лицо его выражало непритворное отвращение, но это было лицо грубого и чувственного мужчины. Думаю, эта брутальность и привлекла девушку.
– В Лондоне я мог бы иметь любую женщину, какую захотел. Не за этим я приехал в Париж.
Глава четырнадцатая
Возвращаясь в Англию, я много думал о Стрикленде, пытаясь привести в порядок то, что предстояло сказать его жене. Результат поездки был неудачный, порадовать ее было нечем. Я и сам был собой недоволен. Стрикленд озадачил меня. Я не понимал мотивов его поступков. Когда я задал ему вопрос, что натолкнуло его на занятия живописью, он не мог или не захотел ответить. И с этим ничего нельзя было поделать. Я пытался убедить себя, что в его медлительном разуме чувство сопротивления нарастало постепенно, однако почему он никогда не показывал недовольства монотонным течением своей жизни? Понятно и вполне банально, если он решил стать живописцем из-за невыносимой скуки бытия, желая порвать с опостылевшими узами, но уж в банальности Стрикленда никак не заподозришь. Будучи в душе романтиком, я придумал объяснение, притянутое в целом за уши, но только оно одно меня удовлетворяло. Я задавался вопросом: не находится ли в его душе глубоко заложенный творческий инстинкт, приглушенный жизненными обстоятельствами, но медленно разраставшийся, как злокачественная опухоль в живой ткани, пока не охватил ее полностью и не призвал к действию? Так кукушка кладет яйца в чужие гнезда, и когда кукушонок подрастает, он выпихивает сводных братьев из гнезда, а затем разрушает и само приютившее его гнездо.
Конечно, странно, что творческий инстинкт овладел скучным биржевым маклером и, возможно, разрушит его жизнь и жизни тех, кто зависит от него, однако еще более странно, когда Дух Божий нисходит на богатых и могущественных людей и упорно преследует их, пока они не склоняют смиренно головы, отказываясь от мирских радостей и женской любви ради суровой монашеской жизни. Преображение имеет много обличий и свершается разными путями. К некоторым оно приходит как взрыв – так бешеный поток может раздробить камень на мелкие кусочки, а к другим постепенно – как говорится, капля камень точит. Стрикленд обладал прямотой фанатика и яростью апостола.
Но моему практичному уму было важно, оправдают ли эту страсть его будущие работы. Когда я спросил, что думали о его живописи коллеги по вечерним классам в Лондоне, он ответил с усмешкой:
– Думали, что я забавляюсь.
– А здесь вы стали посещать курсы?
– Да. Сегодня приходил этот малый, ну, руководитель, посмотрел на мои работы, пожал плечами и пошел дальше.
Стрикленд издал короткий смешок. Разочарованным он не выглядел. Он не зависел от чужого мнения.
Именно это сбивало меня с толку в наших отношениях. Когда люди утверждают, что мнение других им безразлично, они, по большей части, себя обманывают. Обычно они поступают по собственному разумению в надежде, что никто не узнает об их капризах, но есть такие, что идут наперекор мнению большинства, ощущая поддержку друзей и близких. Нетрудно быть экспериментатором в глазах света, если тебя поддерживает группа единомышленников. Тогда ты преисполнен чувством горделивого самоуважения. Чувствуешь, что бросаешь вызов, но не испытываешь при этом даже намека на опасения. Однако жажда признания – возможно, наиболее укоренившийся инстинкт цивилизованного человека. Никто так не стремится обрести добродетельную репутацию, как падшая женщина, испытавшая на себе презрение и злобу так называемого порядочного общества. Я не верю людям, которые уверяют меня, что им плевать на общественное мнение. Это просто бравада. Они не страшатся только упреков в мелких грешках, на которые, по их мнению, никто не обратит внимания.
Но передо мной был человек, которого искренне не интересовали оценки других людей, традиции не имели над ним власти; он походил на борца, намазавшего тело жирным кремом, его не ухватить; это давало свободу, бывшую по сути вызовом. Помнится, я говорил ему:
– Если каждый будет вести себя как вы, мир рухнет.
– Ничего глупее не слышал. Не всякий захочет поступать как я. Большинству нравится жить как все.
Однажды я позволил себе съехидничать:
– Вы, очевидно, не верите в максиму: «Поступайте так, чтобы любой ваш поступок мог быть возведен во всеобщее правило».
– Никогда раньше такого не слышал, но это чушь собачья.
– А ведь это сказал Кант.
– Ну и что? Все равно чушь.
Бессмысленно взывать к совести такого человека. Все равно что пытаться увидеть отражение, не имея зеркала. Я считаю, что совесть – наш проводник в правилах, установленных обществом ради собственной безопасности. Это полицейский в наших сердцах, поставленный, чтобы мы не нарушали законы. Это шпион, окопавшийся в бастионе нашего «я». Желание человека получить одобрение собратьев так сильно, страх перед их осуждением так велик, что он сам открывает ворота врагу, и тот надзирает за ним, стоит на страже интересов хозяина, чтобы в корне подавить зарождающийся порыв того отбиться от стада. Все это заставляет человека ставить интересы общества выше личных. Связь между личностью и обществом очень сильна. Убежденный в первостепенности общественных интересов человек становится рабом этого убеждения, возводит его на престол, а сам выступает в роли слуги, преклоняющего колено, когда жезл владыки обрушивается на его плечи. Он гордится своей совестливостью. И тогда ему становится невыносим человек, не признающий этой власти, ведь, став законопослушным гражданином, он понимает, что бессилен против бунтаря. Увидев, что Стрикленду действительно безразлично, как реагируют на его поступки другие люди, мне оставалось лишь в ужасе отшатнуться от этого чудовища, утратившего человеческий облик.
Вот что сказал он мне на прощание:
– Передайте Эми, что ей нет смысла сюда приезжать. В любом случае я сменю гостиницу, и ей не удастся меня разыскать.
– Думаю, ей повезло, что она избавилась от вас.
– Надеюсь, дружище, вам удастся убедить ее в этом. Впрочем, женщины умом не отличаются.
Pulsuz fraqment bitdi.