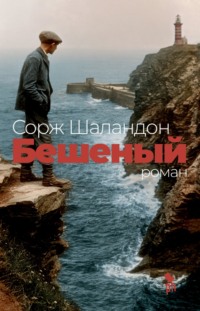Kitabı oxu: «Бешеный», səhifə 4
Рене вошел в мастерскую первым и заорал:
– Да здравствует анархия! – Вскинул свою канистру с бензином. – Выметайтесь отсюда все, сейчас бабахнет!
Хозяина не было, швеи выбежали на улицу.
– Анархисты! – вопили они, подняв руки.
Рене дождался, чтобы мастерская опустела, и выплеснул бензин на одеяла, приличные костюмы, подвенечное платье, шторы, занавеску в цветочек, на все остальные простыни, которых не крала его мать. Снаружи раздался полицейский свисток. Торговцы с криками затаскивали в лавки свои столы. Толпа разбегалась.
Пронзительный женский голос из окна:
– Свободу Сакко и Ванцетти!
Люсьен влез на забытый на тротуаре деревянный ящик.
– За Сюзанну Ролен! – прокричал он.
Поджег свою бутылку и метнул ее в витрину мастерской.
Взрыв как от попадания снаряда.
Повсюду осколки стекла, обломки стен, горящая пакля, пылающие лоскуты плясали в воздухе, падали на тротуары. Валил густой черный дым, бушевал огонь.
Прибежали жандармы и пожарные. Люсьен и Рене легли ничком на тротуар, прикрыли руками головы.
– Беги, дуралей! – прошептал мне старший из братьев.
Я не входил в мастерскую, ничего не говорил, и никто меня не видел. Я мог пробраться под прикрытием дыма среди развалин и вернуться домой.
И тогда я сложил руки на затылке и улегся рядом с моим другом Рене. Я дрожал. Все это происходило со мной на самом деле. Это случилось взаправду, и мне было тринадцать лет.
* * *
Манский суд приговорил Люсьена Ролена к пятнадцати годам тюрьмы. Его брата Рене посадили на шесть. Я не сделал ничего плохого, кроме того, что был с ними рядом. Я не оказал ни малейшего сопротивления жандармам. И судья назначил мне всего два года заключения.
Мне не было шестнадцати лет. Согласно закону, я «действовал несознательно», так что меня тут же помиловали, а потом отправили в камеру до тех пор, пока меня не заберут родные.
Но отца не нашли, а дед с бабкой не захотели меня брать. Они от меня избавились. Дед, воспользовавшись правом применять к детям исправительные меры, предложил суду отдать меня в благотворительное заведение3. Я отказался. Отверг я и приемную семью, и государственное призрение. Но, поскольку меня нельзя было выкинуть на улицу, где я стал бы бродягой, суд решил отправить меня до моего совершеннолетия в исправительное учреждение.
Они называли это колонией для несовершеннолетних правонарушителей.
Я провел час в кабинете судьи. Я из деревни? Тогда я поеду на Бель-Иль в Морбиане. Там сельскохозяйственная колония для детей. Буду работать на ферме, пахать землю и пасти скот, но при этом еще и учиться в школе. Жизнь на свежем воздухе, работы в поле и в хлеву уберегут меня от городской заразы.
– Ты в том возрасте, когда из тебя еще можно сделать хорошего мальчика, – сказал судья.
По его мнению, мое лицо еще не было отмечено клеймом порока, и врач заключил, что у меня нет наследственных изъянов. Меня пока не следовало причислять к преступной молодежи.
Со мной он не говорил, он вещал. Мне казалось, он произносит затверженные фразы.
Мне удалось спасти при обыске мамину ленточку. Я нервно ее теребил. Я спросил у судьи, есть ли на этом острове решетки, стены, тюремные робы. Он встал, улыбнулся, закурил сигарету. Глядя на мое унылое лицо, объяснил, что мне очень повезло. В прошлом веке маленьких дикарей поручали заботам конгрегации Святого Духа. Мало того, совершеннолетних и несовершеннолетних держали в тюрьмах вместе. Убийцу с мелким воришкой и насильника с его жертвой. Теперь настоящих преступников отделили от малолетней шпаны. Благодаря колониям осужденные дети получили второй шанс, и мне следовало за него ухватиться.
В углу сидел человек с блокнотом и что-то записывал. Я не знал, кто это – журналист, писатель? а может, он инспектировал работу судьи? – но понял, что красивые фразы предназначались ему. Судья не меня хотел успокоить, а ему угодить. Незнакомец часто кивал. Молча соглашался, предлагая судье приводить все новые доводы. Я выйду из колонии со свидетельством об окончании учебного заведения и профессией. Смогу с гордостью пойти в армию. Или в торговый флот, почему бы и нет?
– Во флот?
Он улыбнулся. В этой колонии есть второе отделение, для будущих моряков.
Я не задумывался. Я почти кричал:
– На моряка, я хочу выучиться на моряка! – Я распрямился. – Хватит с меня ходить за плугом.
Судья этого не ожидал. Только что я был подавлен, а тут так загорелся. Он повернулся к пишущему.
– Очко в вашу пользу, – пробормотал тот, обращаясь к судье.
Я был всего лишь объектом изучения.
* * *
Я прибыл в колонию для несовершеннолетних правонарушителей 16 мая 1927 года. С обритой головой, чтобы не завшивел. И еще для того, чтобы меня пометить. Меня взяли в отделение моряков. Там не хватало рук в канатной и в столярной мастерских. И я стал скручивать канатные пряди.
Впервые в карцер меня посадили 20 мая.
Я жил в спальне на восьмерых во втором блоке. Мое место было рядом с дверью. В первый же вечер мой матрас выбросили в коридор. Назавтра тоже. И на следующий день. Когда я пришел вечером в спальню в четвертый раз, мой матрас был свернут в углу, одеяло сброшено, а простыня была мокрая, обоссанная. Я молча вынес ее в коридор, потом яростно перевернул соседний матрас, стащил сухую простыню. Затем перевернул следующий, и еще один, и еще, и так все семь.
Я не фантазировал. Я на самом деле отомстил за себя.
Вот тогда я его и увидел. Я понял, кто тут главный. Тот, кто заставляет остальных издеваться над новичком. Его звали Жан Судар. Никто в комнате не сдвинулся с места, но он заорал и бросился на меня с кулаками. А я врезал ему стулом. Попал по носу и губам, и он молча рухнул, вытаращив глаза. Когда пришли охранники, оглушенный Судар с окровавленным ртом сидел на своей постели. Рыдая и тыча в меня пальцем, он на меня наябедничал.
Когда меня уводили, я плюнул ему на босые ноги.
– Хватит, Бонно, – сказал однорукий.
Этого охранника звали Пьер Ле Гофф. Он и остальные догадывались, что Судар, скорее всего, получил по заслугам, но я молчал. Я не рассказал, что они проделали с моим матрасом, не ответил ни на один вопрос. Когда вошел начальник, я сидел в караульном помещении, глядя в пол, со скованными за спиной руками.
– Посмотри на меня, Бонно. – Он приподнял мне подбородок своей плеткой. – Что тебе сделал Судар?
Я злобно уставился ему в глаза, насупившись и накрепко сжав челюсти.
– Это твой последний шанс смягчить наказание, так что отвечай!
Молчание.
Старший надзиратель Амбруаз Шотан оценивал Жюля Бонно, своего нового колониста.
Убрал плетку.
– Да ты, выходит, настоящий злыдень?
Нет ответа.
– А теперь опусти глаза, – приказал Шотан.
Меня на тридцать суток отправили в карцер, из них три дня на хлебе и воде. Ни учебы, ни мессы, ни прогулок, ни столовой. Кормежка в карцере и обязательная работа в канатной мастерской. Они меня наказывали, но работать заставляли.
Я шел по длинному тюремному коридору с двумя сложенными одеялами и полотенцем в руках. Меня конвоировали Ле Гофф и другой охранник, которого называли Наполеоном.
Грязные стены с серой известкой, вздувшийся пузырями потолок, сырость, запах немытых тел, плесени и гнили. Погреб. С каждой стороны по два десятка карцеров.
За дверью с глазком какой-то заключенный хохотал как помешанный. Мне показалось, что я узнал голос Блена, ученика портного, – он делал все, чтобы оказаться в больнице для психов. Ле Гофф, не останавливаясь, саданул кулаком по железной заглушке.
Блен на секунду замолчал. Потом снова засмеялся.
– Тебе надо было сдать Судара, – шепнул Наполеон, сунув правую руку за пазуху. – И подмигнул мне. – Думаешь, к другим эта сволочь относится лучше?
Ле Гофф вставил в замочную скважину большой ключ.
– Раздевайся.
Я разулся, снял штаны. И замялся.
– Остальное тоже снимать?
– Все, кроме рубашки.
Я хотел оставить себе ленточку, но Ле Гофф затолкал ее в карман моей рабочей куртки.
Собрал в кучу мое барахло.
Даже если наказанному удалось бы открыть наружную задвижку, пройти по коридору, пробежать через блоки и перелезть через ограду, с голым задом он не прошел бы по улице и трех шагов.
– Полотенце остается снаружи, на гвозде. Подъем в пять тридцать, и к тому времени, как принесут завтрак, одеяла должны лежать в ящике перед дверью. Ясно?
Я кивнул.
– А если у тебя есть вопросы, держи их при себе, – прибавил он.
И втолкнул меня в карцер. Чулан. Три метра на два. Бетонный пол, в глубине зарешеченное окошко. И матрас, занимающий почти все место.
– На будущее, Злыдень, мой тебе совет – не насмехайся над нами.
Вернувшись в общую спальню, я увидел, что мой матрас никто не трогал. И больше никто и никогда не разорял мою постель. Я дрался, я получил свое, я не донес. Меня зауважали. Я даже смог пристроить рядом со своей тумбочкой старое фото «ситроена 5 CV», его называли «лимончиком» за желтый цвет. Я с детства мечтал о такой машине. Одна такая, всегда одна и та же, одна-единственная, ездила по улицам Лаваля, впереди отец и мать, сзади – сын, гордо восседавший посередине. Они часто ехали с опущенным верхом. Важничали. Особенно задавался мальчишка, когда видел, как я тащусь по тротуару. Я шел, он ехал. Один раз он плюнул в мою сторону. Мать была хорошенькая, каждый раз в другой косынке. У отца были гоночные очки. А сынок не переставая жевал, рот у него был перемазан шоколадом. Когда они подъезжали к перекрестку, отец включал электрический клаксон. Трубный рев. Девчонки от этого вздрагивали, а сынок громко хохотал с набитым ртом.
Я привез с собой в колонию вырезанную из старой газеты фотографию «ситроена». Картинка была черно-белая, и я покрасил серый кузов в лимонно-желтый. Потом, когда вырасту, у меня такая будет. Этот зеленовато-желтый цвет был символом свободы. Повернуть рукоятку обеими руками, устроиться на сиденье, взяться руками в шоферских перчатках за кожаный руль. И помчаться, чтобы ветер бил в лицо. Оставить за спиной высокую ограду, тюремщиков, гадов, топтавших постели новичков. Укатить на природу, в леса, к берегам озер. Останавливаться где и когда захочу. Рядом со мной – красотка, у которой на каждый ветреный день другая косынка. А потом однажды кто-то появится сзади, на специально установленном сиденье. Дочка, сын – какая разница. Дитя любви, у которого никогда не будет серой шелковой ленточки на запястье. И он или она никогда не станет задаваться. Не станет дразнить других своим шоколадным печеньем с орехами. И не станет плеваться, чтобы унизить бедняка.
4. За день до того
26 августа 1934 года
В колонии уже несколько недель нарастало недовольство. Деревянные подошвы громче шаркали по коридорам, на занятиях все шло через пень-колоду, и тишины добиться было труднее обычного. Смех некоторых колонистов звучал вызывающе, они смотрели на надзирателей тяжелым, угрожающим взглядом. Каменщиков застукали дремлющими над строительным раствором, кузнецов – замечтавшимися у наковальни, сардинщики думали о чем угодно, только не о своих консервных банках. И даже столяры, которые сколачивали предназначенные их товарищам гробы, медлили соединять еловые доски. Все шло не так. Три попытки побега за несколько дней, на Наполеона возле столовой напал один из крутых. У колонистов-огородников в Брюте случился мятеж, в сардинном цехе – волнения, на кухне – попытка поджога. Дважды воспитанники отказывались выходить из спальни. Заключенные не брались за работу ни в швейной мастерской, ни в жестяном, ни в столярном цехах, ни в прачечной. Вышла из повиновения даже пекарня. Хлеб был испорчен. Ученик булочника высыпал соль в ржаную муку. Хуже того – два надзирателя, наблюдавших за порядком во время прогулки во внутреннем дворике, подрались в присутствии воспитанников.
Поговаривали, будто Франсуа-Донасьена де Кольмона заменят другим директором. Слух разошелся по колонии и расшатывал ее. Воспитанники, работавшие в городе – в магазинах, на фабриках или у частных лиц, – слышали, что газетчики Кольмона возненавидели. Он слишком увлекся политикой, не сносить ему головы. «Республиканский Запад», считавший себя «газетой земледельцев и моряков Морбиана», написал, что колония для Кольмона ничего не значит. Еще одна побрякушка на пути к депутатству. Если верить еженедельнику, этот кандидат вел непрекращающуюся избирательную кампанию и больше был озабочен наказаниями, чем нравственным воспитанием. Он не верил в исправление благодаря труду и превратил колонию в каторгу для детей. Другие – как, например, передовица «Морбианского факела» – критиковали его «разорительное» управление и самые основы колонии для несовершеннолетних правонарушителей. Вот потому-то в газете «Огненных Крестов»4 и бывалых солдат появился заголовок: Наши деньги исчезают в карманах шпаны, которая очищает наши карманы.
С каждым днем нас все больше лихорадило из-за предполагаемого ухода директора. Некоторые заключенные были убеждены, что надо заставить его пойти на уступки до появления нового начальника, потребовать отменить некоторые меры наказания, запретить Танцплощадку, снова давать сидр тем, кому больше шестнадцати, увеличить перерывы в работе, перенести отбой на полчаса позже. Об этих требованиях громко перешептывались. Они добавлялись к десяткам других, тайно составлявшихся в каждом блоке.
Тюремщики тоже были в напряжении. Они даже в нашем присутствии не стеснялись обсуждать зарплаты, отпуска, пенсию. Они внезапно стали жаловаться на все. И уже мечтали о том, какое место займут при новом начальстве.
По словам Марка Озене, новым директором должен был стать главный надзиратель парижской тюрьмы Птит-Рокетт. Марк называл ее «жестоким домом». Он утверждал, что до того, как отправиться на Бель-Иль, успел посидеть на скамьях тюремной часовни, где дети во время мессы были разделены деревянными перегородками.
– А камеры там какие были? – спросил я.
– Крольчатники, как здесь. Спишь в клетке, жрешь в клетке, срешь в клетке.
Птит-Рокетт, От-Булонь, Эйс – все эти исправительные дома выступали за «спасение наших туш», формулировка кюре, который ею гордился. Но все думали, что парижанин будет действовать жестче, чем местные, и что он привезет с собой своих Ле Гоффов и Наполеонов. Так что наши охранники готовились к столкновению с новичками, которые прибудут. Хотя официально никто пока не объявлял о смене начальства.
* * *
В воскресенье я удивил колонию. После построения, поднятия флага и мессы я во время прогулки рассказал всем, что ничего такого не будет, Козел никуда не денется. Кто-то два месяца нас дурил. Может быть, даже сам Кольмон, который разделял нас, чтобы вернее властвовать. Я объявил, что смены начальства не предвидится. Больше того – на следующей неделе Кольмон будет выступать в Ванне на митинге Республиканской федерации5 и представит От-Булонь доказательством своего успеха в деле включения отбывших наказание в общественную жизнь. Плевать ему было на критиков, и он рассчитывал еще долго руководить колонией. Я прочитал об этом в «Республиканском Западе». И вырезал газетную статью, чтобы всем ее показать. Вот уж удивил так удивил!
– Но где ты это взял? – спросил Муазан.
Я сложил вырезку и сунул ее в карман штанов.
К полудню эта история дошла до директора. Нас по сигналу горна спешно собрали во внутреннем дворе. Никакого ропота. Никаких шуток. Дело было серьезное. Шотан велел нам построиться и каждому положить правую руку на плечо соседу. Он похлопывал себя по ноге плеткой.
– Обнажить головы!
Воспитанники сняли береты, шапки, картузы. И мы стали ждать. Двести детей. Час мы стояли неподвижно, а Ле Гофф с Наполеоном ходили между нами и заставляли равняться.
Кольмон, как появился, сразу стал меня высматривать. Поднялся на кафедру.
– Бонно, выйти из строя!
Я протиснулся между своими товарищами. Ни один не осмелился на меня взглянуть.
– Сюда, Бонно! – Он указал своей бамбуковой палкой на белый крест, начерченный на земле, – место обвиняемого.
Опустив голову, я сделал несколько шагов.
– Выворачивай карманы!
Кто-то проболтался.
Я тянул время. Карманы куртки, верхние, нижние. Потом карманы штанов. Вырезка упала к моим ногам.
– Ле Гофф?
Однорукий подбежал, подобрал бумажку, отнес директору. Тот не пошевелился, заставив охранника подняться по лесенке из трех ступенек.
Кольмон развернул вырезку, узнал свою фотографию, статью, заголовок: Франсуа-Донасьен де Кольмон, непримиримый из От-Булони.
Он поднял голову:
– Бонно, откуда ты это украл?
– Из вашей мусорной корзины, мсье.
Директор поперхнулся. Спустился со своего насеста. Подошел ко мне.
– Повтори.
Не моргнув глазом:
– Из вашей мусорной корзины, мсье.
Директор повернулся к Шотану:
– Из моей мусорной корзины?
Тот опустил голову. Мог бы – убил бы меня на месте.
– Бонно, у тебя есть доступ к моему мусору?
– Нет, мсье.
– Значит, у тебя есть сообщник?
– Да, мсье.
Кольмон, похоже, удивился.
– Его имя?
Я посмотрел на него:
– Мне неловко, мсье.
Он скрестил руки:
– Боишься выдать товарища, Бонно?
Я покачал головой:
– Это не воспитанник.
Он нахмурился:
– Так кто же это, Бонно?
– Надзиратель, – сказал я.
Он был поражен.
– Я выменял статью на другую вещь.
Одни колонисты засмеялись, другие разинули рот. Шум нарастал.
– Молчать! – заорал Ле Гофф.
Наполеон кого-то тряхнул. Шотан дал кому-то затрещину.
– Вы хотите знать его имя, господин директор?
Кольмон смертельно побледнел. Дважды резко хлопнул в ладоши. Столовая отменяется. Во второй половине дня ни прогулки, ни отдыха. Все немедленно расходятся и возвращаются на рабочие места. Шарканье подошв, кашель, галдеж, гогот, пердеж губами, свист, пронзительные крики в подражание чайкам.
Кольмон схватил меня за руку.
– Шотан, обыскать его камеру!
Сторожа поволокли меня через двор к наружной лестнице, загнали наверх, довели до входа в мою клетку. Директор замыкал шествие. Мне было приказано встать на колени в коридоре лицом к стене, положив руки на голову. Я закрыл глаза. Столик, табуретка, мой шкаф – они переворошили все. Когда они приподняли матрас, я вжал голову в плечи. Я приделал внутри карман, между тканью, набивкой и пружинами.
– Ну надо же!
Это сказал Ле Гофф. Он одну за другой вытаскивал из тайника газеты.
Голос Козла:
– Встань, Бонно.
Он стоял, ошеломленный, прислонившись к стене моей камеры. Сторож бросал к его ногам свои находки. «Крест», «Фигаро», «Католический союз Морбиана». По экземпляру каждой. Или тщательно сложенные вырезки.
Ле Гофф стоял на коленях, засунув здоровую руку в самую глубину. «Церковная неделя Ваннской епархии», «Будущее Морбиана». Найдя в тайнике ультраправую «Аксьон франсез», он растерянно взглянул на начальника. Я добыл номер от 7 февраля 1934 года. Через всю первую полосу: Следом за ворами – убийцы.
– Искать дальше?
Кольмон не ответил. Он следил за мной.
Внезапно однорукий взмахнул тетрадкой в грязной обложке:
– Книга, мсье!
Этого я и боялся. «Дети Каина» были опубликованы журналистом Луи Рубо в 1925 году. Он писал о нас и о колонии, «настоящей школе зла». Рассказывал обо всем. Жестокость, тяжелая работа, наказания, грязь, голод, Танцплощадка, заболевшие или помешавшиеся воспитанники. Я тайком читал отрывки Озене и Труссело. Писатель выдумал историю с «дымящейся миской супа, в котором ложка стояла, как в банке клейстера». Нас это рассмешило. Он преувеличивал, но мы знали, что это делалось ради нашего блага.
Ни один сторож никогда не был моим сообщником. Книгу и газеты принес мне Луазо. Он проделывал это в течение двух лет. Наказав доносчика пинком, я стал его покровителем. За это я хотел не тех мерзостей, каких требовали крутые, а новостей из-за стены. Он, кроме того что работал швеей и прачкой в одной семье поблизости от Созона, еще и помогал выносить мусор Козла. Я велел ему действовать осторожно. Время от времени таскать газеты, но не делать этого систематически. И не одно и то же издание каждый раз. Однажды утром, когда он вываливал в кузов мусорную корзину Кольмона, Шотан тоже запустил туда руку. Он стянул «Республиканский Запад», отряхнул газету о штанину, сложил и сунул во внутренний карман куртки. Луазо глубоко вздохнул. Не он один этим занимался.
Из статьи Леона Доде в «Аксьон франсез» я узнал о событиях 6 февраля6. В «Западе» прочитал, что Филипп Петен произнес речь на похоронах маршала Лиоте. А еще – что маршал Гинденбург скончался и его заменил канцлер Гитлер.
«По словам твоих наставников, ты увлекаешься историей и географией. И даже немного политикой, как мне говорили?»
Слова директора год назад.
Он сложил руки за спиной. Так вот откуда я получал сведения.
Серьезное лицо, громкий голос:
– Рыться в моем мусоре запрещено. Но это! – Он взмахнул книгой.
Луазо стянул ее со стола в караульном помещении.
– Это кража, Бонно!
Ле Гофф собирал разбросанные по полу газеты.
– А кража – это карцер!
Я стоял, прислонившись к стене.
– Стой прямо!
Я встал навытяжку. Щелкнул пятками. Я насмехался над его властью.
– Имя твоего сообщника!
Я не стал снова разыгрывать карту охранника. Она сбила его с толку всего на несколько секунд. Да, тюремщики меняли табак, хлеб, сидр. Да, некоторые лезли к младшим в постель. И да, их можно было подкупить. Особенно если охранник был выпивши, а колонист – вдвое крупнее его. Все это знали, и все закрывали на это глаза. Тюремщики и каиды делили власть между собой. Все было налажено. Но я оставался в стороне. И часто слышал от других: «Ты, Злыдень, не такой, как все».
И правда. Я терпеть не мог как сильных, так и слабых. Особенно слабых. Журналист в своей книге про колонию хотел разжалобить людей историями про сирот, детей разведенных родителей, брошенных мачехами, безбилетников, бродяжек или мелких воришек. Здесь такие были, но я не из их числа. Мне ни к чему жалость или доброта. Я одиночка. И моя тень в одиночку лезла наверх по стене, пыталась добраться до торчащих осколков стекла и присоединиться к чайкам.
– Трибунал во вторник, – объявил Козел.
Я отделаюсь тридцатью сутками карцера. Или даже переводом.
Я сжал кулаки.
А пока меня ждет расплата.
Я все понял, когда они вошли в мою клетку. Трое надзирателей из третьего блока, кремни. С тех пор как охранников стали называть воспитателями, директор не позволял им нас избивать. Дать оплеуху или подзатыльник, заломить руку – и только. Когда кого-то надо было сурово наказать, Козел обращался не к ним, а к тем, кого не встретишь в коридоре и не поквитаешься.
Кольмон вышел из моей камеры, следом за ним – Ле Гофф, Наполеон и старший надзиратель.
Перед тем как закрыть дверь, оставив меня с этой троицей, он сказал:
– Господа, Злыдень в вашем распоряжении.
* * *
Я играл, я проиграл и должен был расплатиться. Три тюремщика действовали слаженно, им было не впервой избивать сообща. Пинали, лупили кулаками, первый врезал мне головой, чтобы сбить с ног. Они не калечили, они мордовали. Оставляли мне напоминания на потом. Следы, которые должны были увидеть другие. Наказывая одного из воспитанников, они предостерегали всю колонию. Я ждал, лежа на боку и подтянув колени к подбородку. Они напоминали мне усердных лесорубов. Ни криков, ни оскорблений, ни единого слова. Для них это была работа. Ляжки, спина, руки – они старались, и каждый удар отзывался у меня от затылка до живота. Озене объяснил мне, что они бьют до первой крови. Я, как только упал, сильно укусил себя за щеку. Потом за язык, нарочно. От боли я почти перестал чувствовать удары. Как только во рту появился металлический привкус крови, я смешал ее со слюной и, кашляя, выплюнул. Запачкал пол. Притворился, что мне плохо. Дал сигнал к окончанию.
Последний удар ногой по почкам, и они остановились. Глаза у меня были закрыты. Прикинувшись мертвым, пугаешь их и выигрываешь время. Один из них вылил мне на голову, на лицо, на избитое тело кувшин воды. Другой заметил, что я сжимаю в кулаке серую ленточку, и вырвал ее у меня. Засунул себе в карман. А потом они ушли.
– Можешь встать, Злыдень?
Голос Ле Гоффа. Чубчик ждал его в коридоре, поправляя блондинистый парик.
Встать? Да, я мог. Я сел. Он протянул мне руку. Я ее не принял. Оставшись без шелковой ленточки, я осиротел. Никакая рана на свете не могла сравниться с этой утратой. Я встал на колени, затем поднялся, поочередно распрямляя ноги. Лицо они мне не изуродовали, но левое ухо кровоточило, я ударился об пол, когда мне врезали головой. Я сел на кровать.
– Ну, идем, Бонно, – пробормотал Ле Гофф.
Ему явно было не по себе. Колонисты говорили мне, что однорукий плохо переносил избиения. Он ничего не имел против наказаний, карцера, сухого хлеба и даже Танцплощадки. Но ударить ребенка – такого за ним не водилось. Он знал, что во вторник я предстану перед трибуналом и буду сурово наказан. Ему этого было достаточно. Но директор был публично унижен и отомстил мне.
Местью был и длинный путь, которым меня вели к «Ле-Пале», выброшенному на мель фрегату в большом дворе. Шотан спутал мне щиколотки и связал руки. Мне трудно было идти, и выглядел я нелепо, но я шел. Сгорбленная, вихляющаяся обезьяна с опущенной головой, рискующая упасть на каждом шагу. Козел знал, что я пройду мимо выходящих из столовой воспитанников. И что никто меня не пожалеет. Меньше будешь умничать, Бонно-горлопан. С покрытым шрамами черепом, с окровавленным ртом и заплывшими глазами Злыдень – тот еще красавчик. Охранники непременно хотели совершить круг почета, выставить меня напоказ. Провести через сад администрации, мимо часовни, лазарета, через двор первого блока, чтобы встретить как можно больше колонистов.
Но что-то изменилось. Обычно, когда наказанного водят, как медведя на ярмарке, воспитанники отворачиваются или опускают голову. На этот раз многие, увидев мое распухшее ухо, махали мне рукой. Другие нарочито громко топали башмаками по земле. Толпа недовольных.
– Держись, Бонно!
Пронзительный голос Луазо, а следом – ободряющие крики.
– Злыдень, покажи им!
Чей-то бас, я его не узнал.
Я едва дышал. Меня знобило. Я был взволнован и побаивался дальнейшего.
– В задницу каторгу!
Ле Гофф замкнулся. Шотан крутил головой. Чубчик нервно приглаживал напомаженный парик. Строй рассыпался. Десятки воспитанников бродили в беспорядке. Уже не воскресная переменка после столовой, а полнейший бардак. Летали береты. В нескольких метрах от меня кто-то кинул камень. От мастерских доносились свистки. Потом – звуки горна. Воспитанники утихомирились, не дожидаясь, пока придет подкрепление. Некоторые снова построились. Другие уселись вдоль стен, держа руки на виду.
Мы молча вошли в большой двор. Старший боцман был на борту, орал команды ухватившимся за ванты колонистам. Накануне шел дождь. Лило так, что маневры отменили, перенесли на воскресенье. Кюре дал на это согласие и после мессы благословил корабль. Увидев меня, старший боцман соскочил на землю. Ле Гофф и Шотан оставили меня у кольев, обозначавших границу территории моряков. Подниматься на борт имели право только матросы и директор. Канатчики и сигнальщики выполняли маневры. Когда я поднялся на палубу, десятка два воспитанников балансировали на мачтах, наклоняясь вперед, животами навалясь на реи, ногами стоя на пертах, подтягивали паруса на гитовы.
В тот день я должен был заниматься вместе с ними, но вместо этого присоединился к наказанному. Он с утра был привязан к грот-мачте. Потасовка между заключенными в швейной мастерской. Он ударил надзирателя, который попытался вмешаться. В прошлом году его младшему брату надоело учиться вязать восьмерку, беседочный узел, кнехтовый узел. Он завязал самый простой скользящий узел и повесился на балке в столовой.
Меня привяжут на корме, к бизань-мачте, у свернутого паруса, чтобы все могли полюбоваться, хоть из глубины двора, хоть из окон цехов.
Привязывал меня Судар, по приказу. Он был в восторге. Заглядывал мне в глаза. Торжествующе улыбался.
– Запястья покрепче!
– Есть покрепче, начальник! – ответил он.
Щиколотки мне не развязали, и он заломил меня назад, как марионетку.
– Мачта до двадцати одного часа, на ночь в камеру, – бросил старшему боцману Шотан.
Потом они с Ле Гоффом покинули большой двор, этот бетонный океан, державший в плену корабль и двух переодетых моряками детей. Ушли на цыпочках, не оборачиваясь, не глядя на своего привязанного к мачте Злыдня. Никудышного мятежника, которого даже нельзя бросить в смертоносные волны. Мальчишку, не знавшего ничего, кроме решеток и карцеров. У меня болели руки и ноги. Левый глаз почти совсем заплыл. Ломило лоб, затылок, виски. Искусанный язык натыкался на зубы. У щек был привкус поражения. Я сжимал в руках конец стягивавшей их пеньковой веревки. И представлял себе этот фал, эту грубую, туго сплетенную веревку мягкой и нежной. Потертый шелк. Серая ленточка в маминых волосах.
Pulsuz fraqment bitdi.