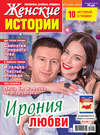Kitabı oxu: «Бла-бла-бла. Роман-каверза»
© Станислав Шуляк, 2024
ISBN 978-5-0064-6083-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Бла-бла-бла
Букмекер, который умирает
На х.., на х.. всяческую литературу!
Рассказы, повести и особливо – романы! От последних-то главнейшая пакость и происходит, от них-то основное неустройство и случается! И стилистику, и синтаксис, и морфологию – всё на х..! И деепричастия, и придаточные предложения, и обстоятельства образа действия, и фигуры речи, и сволочные русские падежи – в топку, в топку! И всех заступников, ораторов, ходатаев – без размышления туда же! В топку, как Лазо, в топку! Вот тогда, может, хоть видимость порядка образуется. Или, быть может, тень благоденствия падёт на плечи, стропила, стогны и универсамы. Хотя… какой там порядок! Какое благоденствие! Долго-долго у нас бардак и безнравственность насаждались – теперь столетья искоренять надобно, и то не искоренишь, а разбередишь разве что, с насиженных мест сковырнёшь и сдвинешь, смрад и гнус сопутствующие приумножишь! Да, вот так и никак иначе! А вы со мной даже не спорьте! Да вы, впрочем, и не спорите – лишь по делишкам своим никчёмным прётесь и глазёнки рыбьи бесполезно таращите.
Вот я иду… как я иду? Никак, просто иду! А что я, по-вашему, делаю, как ни иду? Думаете, иду я полон мысли? Полон чрезвычайных соображений? Дум и скороговорок? Ни шиша я не полон мысли! Да и соображений во мне никаких нет! Прусь вроде вас! Переставляю конечности. Полон безмыслия. Безмыслие – хорошо! Безмыслие устраивает и облагораживает. Безмыслие об истинном человечьем предназначении напоминает и неуклонно талдычит, а что за предназначенье такое – соображайте сами, это вы умные да образованные, или мните себя оными!
Или вы ждёте, что я стану трезвонить? И трепетать? Никогда не стану я трезвонить (и трепетать тем паче) на потеху вам, на гадкое ваше промышление, для украшения подлого вашего досуга…
Так, подспудно вольтерьянствуя, бормотал себе под нос Энгусов, идущий на журавлиных ногах своих по глухой улице мерзейшей Петроградской стороны града спесивого, суконного, бронзоволикого, непоименованного.
В атмосфере была пакость, в душе стлались хмарь и бесчувствие, но, в самом деле, куда шёл Энгусов? А куда может идти наш интеллигент во второй половине дня четверга? Разумеется, в кабак, куда же ещё! Он же не глиста вам, не шилишпёр, не камбала – у него соображение имеется, дух смятенный, логос подспудный, жизнь консервная, месседжи сугубые и сокровенные.
Впереди на тротуаре копошились толстые и тупые голуби мира (будто бы работы картинщика Пикассо), поминутно иная из сих воскрылённых шельм взгромождалась на свою природную подругу, и – давай топтаться по оной нетерпеливыми красными лапками. Посягая на суверенитет. Проклятый Пикассо – иначе здесь и не выразишься!
Кабаков по пути Энгусова было аж два! Один против другого! Они так и назывались: белый кабак и чёрный кабак. Ну, почему чёрный – понятно: от внутренней темени да закоренелого неосвещённого срама на стенах и потолке… а вот отчего белый… это уж никак не скумекаешь: ничего белого, бессрамного, в нём ни изнутри, ни снаружи не констатировалось. Должно быть, наименование оное прикрепилось из чистой дихотомии и закадычной усмешливости. Других причин никаких не имеется.
Куда зайти? – озадачился Энгусов.
И зашёл в чёрный.
А мог бы и в белый – это всё равно!
Ну, ладно, в следующий раз!
Тяжело кабакам стоять одному против другого, белому супротив чёрного, ну, и наоборот, кстати. Мучаются, маются кабаки, по ночам вздыхают грузно, увесисто, каменно, да ничего поделать не могут. И хозяева кабацкие тоже маются и от нетерпения сходятся по субботним вечерам во дворе близлежащем, но не в домино сыграть, не в лапту, а подраться.
– Что тебе надобно, Василий Абрамович? – спрашивает у недруга своего хозяин белого кабака.
– Как это что? – возмущается тот. – Чтобы ты, Калимулла Рафикович, вымелся отсель! Был мой чёрный кабак один на всей улице, и народ со дворов ко мне шёл, и негоция процветала, а тут ты со своим белым кабаком…
– Сам выметайся, Василий Абрамович! – не сдаётся Калимулла Рафикович. – Мне, думаешь, тут легко подниматься было, когда все людишки со дворов по привычному замесу к тебе шастают? А теперь… у меня кухня лучше и напитки, и сервис на высоте.
– Сервис? – гремит хозяин чёрного кабака, да противнику своему кулачиной с размаху в ярло.
Тот скрючивается, но не падает и, улучив момент, вдруг тресь кулачиной по колороду.
Но и Василий Абрамович не падает, а – подсечку врагу своему, подсечку! Потом сцепившись долго по грунту катаются, за волосья друг друга таскают (отчего оба ходят плешивы).
Редкая суббота выпадает, когда не дерутся кабацкие хозяева. Мутузятся они крепко, но не до могилы и не до «скорой помощи», хотя близка могила к человеку, а «скорая помощь» и того ближе. Оттого-то последнюю никогда и не дождёшься, когда надобна. Ближнее туманит и обморочивает, дальнее, недоступное укрепляет да устанавливает.
В чёрном кабаке нынче человечишки пребывали в изрядности. Пили разнородные напитки, грызли всяческую непронумерованную пищу. В кабацкой атмосфере неистребимо витал дух термически обработанных фрагментов свиных и куриных трупов и других человечьих деликатесов. Энгусов осмотрелся, сыскал себе некоторый промежек и водрузился тут. Были здесь и знакомцы. К примеру, волюнтарист Бобриков, этот в сих местах частенько присутствовал по приверженности к пьяному начинанию. Обретался и мужик Дунин, грузный и грубый, а какой ещё – сразу и не скажешь. Была и девица Морякова, Говоря по секрету: Энгусов однажды на ней чуть не женился. Но всё-таки не женился. И вспоминал теперь те давние обстоятельства с отвращением и тоской. Тьфу на те обстоятельства! Но об этом попозже!
Был ещё здесь букмекер. Просто букмекер, без фамилии, его здесь никто не знал.
Впрочем, не знали его как раз недолго. Едва только Энгусов уселся рядом, так прямо сразу все и узнали.
– Я букмекер, – нагло отрекомендовался оный двуногий Энгусову (так, чтобы все слышали), – а ты кто?
Борис Алексеевич взглянул на того этаким заледенелым Эйнштейном.
– А я писатель, – ничуть не покоробившись, отвечал он, – а ты, значит, можешь сказать, на какую лошадь надо поставить, чтоб мильон выиграть?
– Я могу сказать, куда тебе поставить нужно, чтобы проиграть мильон, а не выиграть, выиграть ты ничего не в состоянии в моей конторе, – возразил тому гражданин лукавственной принадлежности.
– Я и проиграть мильон не в состоянии, у меня его нет, – отмахнулся Энгусов.
– Не за раз, а за всю жисть, регулярно проигрывая.
– У меня и за жисть мильона не соберётся для свободного употребления.
– Дураки какие! – громко сказала девица Морякова волюнтаристу Бобрикову. – Мильоны выигрывают, мильоны проигрывают!.. Да их нужно на полку положить и любоваться, любоваться… Их даже трогать нельзя, а токма вдыхать оные ароматы.
– Мильоны не воняют, благоухают только мелкие деньги по причине их рукодельной потёртости и близости к человекам, – оспорил девицыны рассуждения Бобриков.
Морякову передёрнуло от такой увертюры, она захотела швырнуть в волюнтариста вилкой, но тут умер букмекер.
– Воня… ют… – выкрикнул он, потом вдруг захрипел и повалился со стула.
– Упал! Здесь мужчина упал! – вскричала Морякова.
– Не мужчина, а букмекер, – возразил Бобриков.
– Это всё равно!
Энгусов потрогал букмекера копытом, тот даже не пошелохнулся. Привлечённый человеческим шумом и подспудною яростью подошёл Василий Абрамович.
– Плохо, что ль, человеку? – полюбопытствовал он. – Слабы стали людишки! Потеряли соответствие жизни.
– Как же плохо, когда он, поди, помер? Значит, уже хорошо! – ответствовал Бобриков. Даже без излишнего волюнтаризма ответствовал. – Надо у него пульс определить.
– А ты, что, доктор? – окрысился кабацкий владелец.
– Нет, но пульс поискать могу в положенном месте, – ничуть не смутился волюнтарист. – Ведь я всё же массажист по первому образованию.
– Я тоже когда-нибудь помру, – томно сказала девица Морякова.
– Все там будем, – галантно пообещал Энгусов.
Чтобы бесплодно не спорить, волюнтарист опустился на оба колена, пощупал запястье букмекера, потом поводил дланью по его дряблой вые. Супротив горла.
– Пульс не определяется, – наконец, объявил он.
Девица Морякова взвизгнула. Энгусова аж передёрнуло – фальшиво взвизгнула эта разбитная самка, без души и без сострадания. С одним лишь артистическим фиглярством. С одной лишь преамбулой. Или – сомнамбулой. Или уж скорее – инкунабулой. В общем, как-то неправильно вскрикнула.
– Надо неотложку срочно! – высказался кто-то из завсегдатаев.
– Какая неотложка, если он уже крякнул? – возразили тому. – Тут уж полицаев надобно. Чтоб засвидетельствовали.
– Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца!
– Он массажист, вот пускай и делает! – сказал мужик Дунин.
– Ещё чего?! – крикнул Бобриков. – Сердце вообще-то по докторской части. Я могу локти, колени да голени! И трапециевидную мышцу!
– Что голени, что сердце – никакого различия! Жми себе и массируй!
– Это у тебя нет различия! – огрызнулся волюнтарист.
– Безобразие! Люди здесь отдыхать собрались, вино пьют, а они тут помирают! – высказали персональную претензию Бобрикову, будто бы он букмекеру был сторож.
– А сколько прошло? – спросил кто-то. – А то – пять минут – и всё: душа из тела окончательно выколупывается, и никакой реанимацией не восстановишь.
– Не прошло пять.
– Прошло. Время быстро идёт. Иной раз даже пукнуть не успеешь – а уж полчаса в небытие сверзилось!
– Ну да, быстро! Тянется – с тоски можно подохнуть!
– Ой, не надо бы про подохнуть! А то уж подох один.
– Это я так…
– Эх, – неприязненно сказал Энгусов, – не успел даже толком водочки выпить – как тут сейчас полицаи сбредутся, станут свидетелей нагло опрашивать, в человечьи паспорта пристально зыркать.
Он хотел встать и уйти. Для большей адекватности. И соблюдения достоинства. Ну, в общем, вы понимаете.
– А у меня нет с собой паспорта, – сказала девица Морякова.
– Значит, заберут до выяснения, – сказал Дунин.
– Чего меня выяснять! – крикнула Морякова.
– Не тебя, а обстоятельства, – поправил её Бобриков.
– А хоть бы и обстоятельства!
Василий Абрамович пребывал в явственной неопределённости. «Вот у Калимуллы Рафиковича щас праздник! – полагал он. – У него-то никто не помер! Везёт же засранцу».
– Ладно, – враз констатировал кабатчик, – у меня там возле уборной закуток имеется, я сейчас туда этого стащу, у стеночки посажу, а вы пока жидкости попейте да съестные вещества поешьте. А я потом этого на место возверну, ближе к закрытию, и полицаев вызову, потому что клиент всегда прав, но вы меня только не выдавайте, я это для вас делаю!
– Не выдадим, не выдадим! – зафарисействовали людишки. Во всю свою низость душ, можно молвить.
– Какое же всё-таки хамство – помереть невовремя и в постороннем присутствии! – наложила резолюцию девица Морякова.
Василий Абрамович взял за подмышки букмекера, поднял и потащил спиною вперёд, так что его безвольные конечности по полу елозили. Отчего с ноги его ботинок слетел. Волюнтарист Бобриков вприпрыжку ринулся возмещать потерю, но при тащимом букмекере выходило никак не сподручно, потому Бобриков плюнул и попёр обувь вслед за покойным владельцем, рассчитывая возложить поблизости для порядку. Для уважения мёртвости. И в этот-то момент букмекер вдруг захрипел, вздохнул тяжело, всё его продажное туловище содрогнулось в конвульсии (хотя прошли уже всяческие пять минут), и отворил зенки.
– Ожил, ожил! – пронеслось по испуганным завсегдатаям. – Не может быть!
Василий Абрамович, тоже испуганный, бросил букмекера.
– Куда я воскрес? – хрипло вопросил оживший.
– Куда-куда? – сурово ответствовал хозяин заведения. – Где помер, туда и воскрес. Кабак здесь! А ты думал – молельня?
– Что за кабак? – спросил ещё. А глаза у него при этом такие… все белые, зрачками вовнутрь смотрят.
– Кабак и кабак! Чёрный кабак!
– Ну, вы нас и напугали! – льстиво встряла девица Морякова. – Мы-то думали, вы померли.
– Он и помер! – сказал Бобриков. – Пульс отсутствовал.
– Подумаешь, пульс! – отмахнулась девица. – Может, он умеет обходиться без него. Или просто выключил.
– Где моё вино? – спохватился недавний покойник.
Вино и вправду прежде оставалось, но его неприметно выпил Бобриков, заключивший, что при его заслугах – щупанье пульса – сие не зазорно. Вино букмекера хотел допить и Энгусов, сидевший ближе, но волюнтарист его опередил по природному бесстыдству и жизненной ангажированности.
– Что вино? – сказал Бобриков. – Когда такое чудо!
– Вино, вино! – засучил ногами – одной босой, другой обутой – букмекер. – Было, я помню!
– А что ещё помнишь? – рассудительно разинул ротовую полость Энгусов.
– То, что писатель ты. А что пишешь хоть? Литературу, небось?
– Литература – говно, – истинно покоробился Энгусов, – литературу я больше не карябаю, уже третий день. А пишу всяческие резоны и намёки, и немыслимые словеса. Парадоксы, пасквили, пропажи и панихиды. Создаю буквенные прецеденты. Меня даже сам порядок слов уважает.
– Ещё маслины помню, – вспомнил букмекер.
– Маслины?
– Чёрные, со вкусом марганцовки, были, помню.
Что до маслин, то их съел Энгусов, неприметно, одну за другой, прямо с косточками. Чтоб не оставлять следов. Их всего-то и было… меньше десятка.
– Ладно, – вздохнул Василий Абрамович. – Пойду ему нового вина принесу. За счёт заведения.
– А как помер, помнишь? – не унимался писатель.
– Кое-что, но в подробностях, – подумавши, ответил букмекер.
– Расскажите, расскажите! – взвилась тут девица Морякова. – Каково это умирать?
– Умирать, можно сказать, даже хорошо, – твёрдо ответствовал букмекер. – Только немного страшно, но это ничего – можно перетерпеть!
– Ну, так как ты помер? – теребили букмекера. – Отчего?
– Помер я от удушения!
– Кто тебя удушил?
– Удушил меня… чёрный шилишпёр, – сказал, как оттяпал хвост у котофея, букмекер.
«Шилишпёр сегодня уже был», – мелькнуло в мозжечке у Энгусова.
– Шилишпёр – это рыба такая! – подтвердил и сведущий в ихтиологии мужик Дунин. – Чем она тебя удушила – плавниками, что ль?
– Никакими не плавниками – руками! – обозлился букмекер.
– Руки у рыбы? – усумнился неугомонный Дунин.
– Да, вот у рыбы-то и руки! И главное, что обидно? Я – солидный, состоятельный человек, на форде мустанге рассекаю, могу всяческие излишества и простодушия позволить, помимо икорки, бытовой техники и богемского хрусталя – и на тебе: удавил-то меня какой-то гадкий шилишпёришка, какая-то рыба!..
– Да-а, обидно, прямо срамота! – согласно загудели завсегдатаи.
– И вот сижу я в поезде под землёй, в тоннеле, мёртвый, удушенный, а в вагоне никого, один только чёрный шилишпёр к моей щеке своим склизким боком прикладывается, вроде как с ласкою, а машинист тогда откашлялся и говорит: «Станция „Лесная“. Осторожно, двери открываются! Следующая станция…»
– «Выборгская»? – подсказал волюнтарист Бобориков.
– Да, но только она почему-то «Невыборской» называлась. Машинист так и сказал: «Следующая станция – „Невыборская“, поезд дальше не смеет идти, освободите вагоны!» И шилишпёр меня тоже подталкивает: давай, мол, выходи! Ну, я и вышел!..
– А дальше?
– А дальше я иду по шпалам в сторону «Невыборской», и шилишпёришка рядом…
При сих словах даже не слишком осведомлённый в рыбознании Энгусов поневоле усумнился.
– Идёт?
– Ну, не летит же!
– А чем идёт? Ногами?
– Уж, конечно же, не хвостом!
– И что?
– Что-что! – рассердился букмекер. – Потом шилишпёришка и говорит: «Теперь один иди! Мне отседова ходу нет!»
– А ты?
– Ну, я один и пошёл! А машинист-то фары не погасил, потому я поначалу за тенью своей шёл. Потом тень, вроде, исчезла, а впереди другой свет забрезжил.
– Ну и дела! – удивился кто-то. – Вот оно, значит, как там приключается?!
– И тут впереди – женщина, девица! – продолжал разошедшийся букмекер. – Ну, вот навроде этой! – поискал он глазами Морякову.
– Морякова моя фамилия! – сухо сказала девица.
– Навстречу мне идёт, потом останавливается и вещает: «Меня Златоглазкой зовут! А ты куда прёшься, букмекер, когда тебе не время ещё?» «Как же – не время, – возражаю, – когда мне ваш шилишпёр велел сюда идтить?» «Шилишпёр? – удивилась девица. – Ну, он у нас шуткарь известный!» «А машинист? – спрашиваю. – Он мне тоже велел из поезда выходить!» «А машинист, – говорит Златоглазка, – вообще не соображает, что городит. Он и поезда водит по пьяному делу, его уж давно с работы выгонять собираются, да всё было никак…» И тут вдруг сзади свет, грохот, и поезд… поезд…
– Поезд? – переспросил Энгусов, неприметно для себя увлёкшийся рассказом.
– Поезд… по-езд… – хрипло пробормотал букмекер и тут же… снова помер.
На сей раз он помер как-то гладко: бормотал себе про свой поезд и вдруг – р-раз! – откинулся на спинку стула, треснулся затылком об пол – и всё, готово дело! Всем бы так легко помирать!
Но народу это не понравилось.
– Опять, что ли, помер? – досадливо пробормотал кто-то.
– Ф-фу, это уже не остроумно! – зевнула девица Морякова.
На всякий случай поискали пульс. Теперь уж искали всем скопом, то есть по очереди. Разумеется, ничего не нашли. Но всё равно это мало кого убедило.
– Скоро снова воскреснет, – твердил Энгусов. – Был бы он жив, я бы об заклад побился… я бы ему самому ставку сделал, что он воскреснет не позже чем через десять минут.
Но биться об заклад с ним охотников не находилось.
– Двести сорок три… двести сорок четыре… двести сорок пять… – считал Энгусов. – Ну, точно воскреснет, ещё даже до шестисот не дойду!
Потом он считать утомился, и потехи ради исчисление продолжил Дунин.
На шестистах букмекер не воскрес, Энгусова тут подвергли осмеянию. Обозвали Вольфом Мессингом недорезанным и ещё по-всякому. Не воскрес и на девятистах (когда сызнова взялся исчислять Энгусов). Зато воскрес на тысяче ста пятидесяти пяти, буднично так воскрес, даже простецки. Как одни букмекеры и воскресают! Прочие же людишки воскресают иначе. Глубокомысленней, что ли? Трагичнее! С осознанием судьбы и – да-да, – чёрт её побери! – почвы! Суглинка или аллювия.
Короче, букмекер очухался.
– Опять кабак! Опять букмекер! – мучительно простонал он.
– Ну, и как там? Чего ещё видел? – прицепились к воскресшему.
Один Василий Абрамович оппонировал общему настроению.
– Не получишь больше ничего от заведения! Надо вовремя своё вино пить и самому следить за напитками, а не подыхать некстати! – ожесточённо сказал он.
– Поезд сбил… сзади… – бормотал потусторонний рассказчик. – И снова кабак, снова букмекер, и президент тот же, и вся судьба неизменная, и носки – хочешь синие надеть – а есть одни чёрные! Вот и надеваешь чёрные! Одно слово – «Невыборская»!
– Это тебе Златоглазка поведала? – встрял Энгусов. Неожиданно его стала занимать гадкая сия нувелла.
– Нет, нет Златоглазки! – сызнова простонал букмекер. – Шилишпёры одни! «Был ты букмекером, – говорят, – букмекером навсегда и задержишься! Хотел ты жизни иной и существования разнообразного, а не будет тебе ни жизни иной, ни существования разнообразного! – шипят шилишпёры. – И будет тебе одна „Невыборская“ неизменная, вечная!» С тем и очухался, – присовокупил букмекер. – С тоскою очухался!
И тут же опять помер.
На сей раз у него и пульса щупать не стали – букмекер всем надоел. Опять воскреснет – ну так быть посему! – заключил кабацкий народишка. – А ежели на сей раз безвозвратно скопытился – значит планида его букмекерова такова! Нам шибко переживать по ентому поводу не приходится.
Да, букмекер и впрямь всем надоел. Кроме, пожалуй, Энгусова. Того неожиданно охватило ожесточение. Произошла некоторая, к слову сказать… сублимация. «Отчего именно сегодня, именно мне подвернулась под зенки эта промозглая личность? – соображал он. – И эта… облезлая притча… когда я как раз с литературою расплевался!..»
Но ответа не находил. Да, может, и не жаждал ответа.
Вообще же всем посмертным Энгусов любопытствовал. В собственных, можно сказать, целях и интересах. «Негоже на тот свет заявляться неосведомлённым», – полагал наш сказитель.
Посетители стали мало-помалу разбредаться. Ушёл корявый мужик Дунин, убрался волюнтарист Бобриков, вымелись ещё некоторые непоименованные двуногие. Остался Энгусов, осталась девица Морякова, Василий Абрамович молча протирал полотенцем только что умытую посуду.
– Странно это всё! – философически заметила девица. Вякнула, можно сказать, во весь свой непредсказуемый девический рот.
– Странно, – столь же философически ответствовал Энгусов.
– Финал отсутствует.
– Какой финал? – спросил писатель (или, пожалуй что, бывший писатель – ныне создатель словесных прецедентов и логических презумпций).
– Человек вот помер три раза, да воскрес дважды, а ничего сакраментального сказать не получается. Ничего назидательного не просматривается, – сказала Морякова.
– И не надо никаких финалов, врут они, гроша ломаного не стоят, это я как писатель говорю, – убеждённо сказал Энгусов. – Хотя я, наверное, больше не писатель, и не следует им быть, это я прямо сегодня решил.
– А финал был бы, Борис, – сказала девица, – если бы кто-то взял и вынес его… какой-то настоящий мужчина…
«Это я, что ли, настоящий мужчина?» – кисло спросил себя Энгусов.
Василий Абрамович, слыша весь разговор, вдруг встрепенулся.
– А правда, Энгусов, – начал он с упованием, – вы мой лучший клиент, и я к вам со всем уважением сердца… может, бы взяли его да вынесли, куда недалече? А я бы за то в следующий ваш визит накормил-напоил до отвала за счёт заведения.
Строго говоря, Энгусов не нанимался выносить никакие трупы из кабаков. Но труп букмекера казался таким невсамделишным (а вместе с тем совершенно реальным), девица же Морякова смотрела на него так назойливо, что Энгусов промямлил: «Да я его, поди, и не подниму!..»
– А я помогу! – пообещала сия настырная женская самка.
– Вот! – обрадовался кабатчик. – Она вам поможет!
– Только и меня тогда за счёт заведения! – сказала Морякова.
– За счёт, за счёт! – согласился Василий Абрамович.
После некоторых колебаний Энгусов взял букмекера за подмышки, девица подхватила того за ноги, кабатчик услужливо распахнул перед ними дверь, и вдвоём они понесли, понесли…
На улице стемнело, отовсюду доносились обыденные и заковыристые, русские звуки. Редкие прохожие – всяческие сетевые торчки, всяческая гуманная сволочь, либеральная мерзость, патриотическая шваль, разнообразные сословия и поколения и прочественные человеческие организмы – не слишком обращали внимание на нашу парочку прохиндеев и их ношу. Только бы не проехали полицаи, сокровенно сказал себе пьяненький Энгусов. Полицаев ему никак не жаждалось. У полицаев норов придирчивый. И должностная инструкция.
Поначалу они вдвоём несли, обременяясь, потом понёс один Энгусов с облегчением, а потом и вовсе сунул труп под мышку и пошёл себе, и пошёл…
Букмекер будто усох на глазах от своего мёртвого статуса
– Ну, вот, теперь и финал есть, – сказала как будто из какого-то иного пространства Морякова. – Букмекер жил себе, жил, потом помер, и вот его вынесли дохлого.
Но финала никакого, на самом деле, не было. Что это за финал такой? Девица Морякова куда-то затесалась (в смысле, запропастилась), вот так шла-шла рядом с Энгусовым, а потом – глядь! – и нет её. Да и где Энгусов оставил свою гадкую ношу – это, наверное, только один бох знает (не считая Энгусова).
«Но вообще-то никакие финалы и на х.. не нужны!» – сказал себе Энгусов.
Заявление при всей его пресловутости, мягко говоря, не бесспорное.
Впрочем, ведь и вступления, и завязки, и кульминации нужны ничуть не больше.
Не правда ли?
Попрощаемся же со всяческим словесным и буквенным обаянием, попрощаемся со всяческими красотой и своеобразием, постигая гнусные человечьи миры, посещая подлые людские логова, узилища, хоромы и сообщества! Которые, чем примечательнее, тем гаже – таково их неотъемлемое свойство! И довольно об этом.