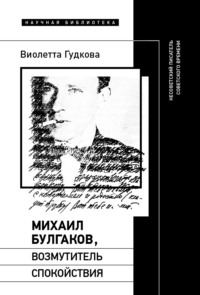Kitabı oxu: «Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени», səhifə 8
Так, Туркельтауб, заметив, что «сатирического таланта у Булгакова нет», а сам спектакль «Багровый остров» «сплошное издевательство над всем советским театральным строительством»323, сообщит о прекрасных хореографических номерах, ярком оформлении (художник В. Рындин) и удачных ролях (директор театра, Жюль Верн, он же – Дымогацкий, полководец краснокожих и дирижер Ликуй Исаич).
Б. А. Вакс, не забыв охарактеризовать пьесу как «незадачливую драматургическую стряпню»324, скажет и об остроумном музыкальном монтаже, и об удачном макете, и об интересных актерских работах. П. Марков в начале 1929 года позволит себе написать (правда, не в столичном органе печати, а на периферии советской империи) о «мастерстве и изобретательности», проявленной Таировым при постановке «психологической пародии»325 Булгакова. В хроникальной заметке о выставке театральных макетов в ГАХН будет упомянут «хорошо выполненный макет „Багрового острова“ в стиле Камерного театра»326, и даже Бачелис отметит «великолепную выдумку»327 Рындина.
А что же зритель? Несмотря на множество уничтожающих автора, режиссера и спектакль рецензий, публика «первые дни валила валом в театр»328, и за полгода, ко времени запрещения спектакля (июнь 1929 года), прошло больше шестидесяти представлений. То есть расстановка сил остается прежней: официоз утверждает, что пьеса (и спектакль) бездарны и скучны, а зрители, платя деньги за театральный вечер, сообщают о своем несогласии.
О сути пародийного сочинения первым всерьез задумывается П. И. Новицкий. Он сообщает, что пьеса «очень театральна и драматургически выразительна», хотя для провинциальной сцены «рискованна». Почему?
Пародирован революционный процесс, революционный лексикон, приемы советской тенденциозно-скороспелой драматургии. Шаблоны стопроцентных, «выдержанных идеологически» пьес высмеяны зло и остро. Но пародия и ирония автора, как всегда, двусторонни… Встает зловещая тень Великого инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего рабские, подхалимски нелепые драматургические штампы, стирающего личность актера и писателя.
Идеологические финалы надо высмеивать. <…> Приспособляющихся подхалимов надо гнать. <…> Но надо также различать беспощадную сатиру преданных революции драматургов, не выносящих фальши, лжи и тупости услужливых глупцов, спекулирующих на революционном сюжете, и грациозно-остроумные памфлеты врагов, с изящным злорадством и холодным сердцем высмеивающих простоту услужающих и политическое иго рабочего класса.
Режиссер, конечно, может перенести центр тяжести на пьесу Василия Артуровича. <…> И выйдет памфлет против бездарной фальши современных драматургов. Но дело не в илотах, а в зловещей мрачной силе, воспитывающей илотов, подхалимов и панегиристов. <…> Если такая мрачная сила существует, негодование и злое остроумие прославленного буржуазией драматурга оправданно. Если нет, то драматург снова оказывается в роли клевещущего врага, ловко маскирующего свои удары329.
Критиком сформулирована проблема, задан вопрос, существует ли в стране «зловещая мрачная сила», подминающая правду. Но отвечать на него возможно лишь одним-единственным образом: в стране нет и не может быть никакой «зловещей мрачной силы». Откуда бы ей взяться?
1 февраля 1929 года в ответном письме драматургу Билль-Белоцерковскому Сталин выскажется и по поводу пьесы, и по поводу Камерного театра:
Вспомните «Багровый остров», «Заговор равных» и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительно буржуазного Камерного театра330.
Хотя напечатан ответ Сталина Билль-Белоцерковскому был лишь спустя двадцать лет, в 1949 году, в собрании сочинений вождя (и вряд ли стал массовым чтением даже и тогда), можно предположить, что тем не менее ответ этот стал известен достаточно быстро благодаря изустному распространению в писательской среде.
Пьесы и их постановки были введены в контекст политической борьбы. Художественность, талант и прочие «буржуазные» вещи перестают быть сколь-нибудь важными. Новицкому приходится спешно уточнять и изменять формулировки. Теперь он использует совершенно иную лексику:
…враги достаточно солидно представлены в нашей драматургии, откровенные и прямые враги. Они великолепно пользуются нашей беспринципностью в вопросах искусства, барским либерализмом и художественным консерватизмом государственных органов, заведующих и начальствующих над искусством, и проводят на сцену государственных театров политические памфлеты, заостренные против пролетарской диктатуры. До сих пор не сходит с репертуара Камерного театра клеветническая пьеса М. Булгакова «Багровый остров», с холодным злорадством высмеивающая политическое иго рабочего класса и пародирующая ход Октябрьской революции331.
5 января 1929 года на страницах «Дойче альгемайне цайтунг» обозреватель напишет:
Это драматическое каприччио, неразрывно связанное с атмосферой советской жизни, где каждое свободное слово – одухотворенный поступок, каждая шутка против правящих – выражение храбрости. <…> На багровом острове Советского Союза, среди моря «капиталистических стран», самый одаренный писатель современной России в этой вещи боязливо и придушенно, посредством самовысмеивания, поднял голос за духовную свободу. Он нашел у публики восхищенный отклик332.
Вскоре автору сообщат о запрещении и снятии со сцен театров всех пьес, и «Дней Турбиных», и «Зойкиной», и «Багрового острова» (о том, что прекращены репетиции «Бега», стало известно раньше). В феврале в журнале «Книга и революция» появятся портреты Булгакова и Замятина в качестве иллюстраций к статье В. Фриче «Маски классового врага»333. А прекраснодушный президент ГАХН (которая с весны 1929 года тоже стала мишенью идеологических обвинений) П. С. Коган выступит с предложением «перевоспитать Булгакова в пролетарского писателя»334, предварительно, конечно, запретив его пьесы.
Жизнь страны, уступившей право на смех, становилась беззащитной. Комедиографы серьезнели либо вовсе уходили из профессии, комедии уступали место трагикомедиям. Десятилетие завершат «Самоубийца» Эрдмана, булгаковская «Кабала святош», свидетельствующие о потерянности отдельного человека и ханжестве убийц, и удивительным образом прошедший в сотнях театров страны афиногеновский «Страх». «Ложь» Афиногенова, запрещенная Сталиным лично, откроет 1930‑е годы.
Пьесы, сочинявшиеся в годы близящегося перелома, передают эволюцию общественных умонастроений и в перемене жанра (от комедии к трагикомедии и психологической драме), и в задумывающихся героях (от «Ржавчины» В. М. Киршона и А. В. Успенского, «Партбилета» А. И. Завалишина к «Самоубийце» Н. Р. Эрдмана, «Списку благодеяний» Ю. К. Олеши и поразительно современной афиногеновской «Лжи»).
«Багровый остров» стал третьей и последней премьерой пьесы Булгакова на московской сцене (если не считать инсценировки «Мертвых душ» и нескольких представлений «Мольера»), увиденной автором.
«Я не читал, но я хочу сказать…»
«Бег»
Обсуждения «Бега» открывают новую страницу в способе работы критиков конца 1920‑х годов. Теперь для высказывания собственного мнения не нужно ни читать пьесу, ни видеть поставленный по ней спектакль.
Если газетно-журнальные поношения прежних пьес Булгакова основывались на знакомстве со спектаклями, которые можно было самостоятельно оценить, то с «Бегом» развернулась принципиально иная история. Повторим еще раз: пьесу никто не читал (кроме нескольких облеченных властью людей вроде П. М. Керженцева либо А. И. Свидерского335. По-видимому, ее прочел вождь). Были еще актеры, репетировавшие пьесу в Художественном, – но они в печати не выступали. Спектакль же к зрителю не вышел. Это значит, что кампания травли, вспыхнувшая с новой силой в связи с новым сочинением драматурга, разворачивалась теми, кто принял на веру отзывы других. Схожая история повторится спустя тридцать лет в связи с романом Пастернака «Доктор Живаго», не изданном в СССР, о котором на собраниях и в печати массово высказывались не знакомые с произведением люди.
В «Беге» Булгаков рассказывает о переломных моментах истории России и их отражении в судьбах людей.
Талантливый военачальник Хлудов оказывается в ситуации проигрыша не сражения, а идеи, когда его военный талант ничего не может изменить. Будучи выброшен в эмиграцию, мучается из‑за собственного превращения из военачальника – в палача, запоздалого осознания несостоятельности белой армии, во имя победы которой он вешал в тылу штатских людей. Генерал Чарнота, храбрый, азартный и авантюристичный вояка с добрым сердцем, тоскует о «неописуемом воздухе, неописуемом свете» днепровских склонов, увидеть которые ему уже не придется. Сын профессора-идеалиста, университетский приват-доцент Голубков мечтательно вспоминает зеленую лампу в своем кабинете. Благополучная петербурженка, бездумно вышедшая замуж за крупного чиновника Корзухина, с легкостью оставившего жену в трудную минуту, бросает в лицо Хлудову слова, рискуя жизнью. «Дочь губернатора», авантюрная и по-своему отважная Люська спасает больную тифом Серафиму… Все булгаковские герои сложны и способны совершать поступки, им не свойственные. Что движет всеми этими героями в решающие, самые страшные мгновенья выбора? Что придает им силы и позволяет выжить, не потеряв себя?
Оказывается, неутраченное умение сострадать – и человеческое достоинство.
В профессиональном военном Хлудове побеждают чувства, не востребованные ранее в его жизни. Разжалованный и нищий, он отдает Голубкову медальон, единственную дорогую ему вещь, которая делает возможным игру в карты Чарноты с Корзухиным и феерический выигрыш. «Неприспособленный» Голубков обнаруживает не только мужество и стойкость, но и решимость, заставив Хлудова подчиниться его просьбам. Жена товарища министра, безгрешная Серафима отправляется на панель, узнав, что живет на деньги «распутной Люськи». Люська, превратившаяся в Париже в «Люси Фрежоль», спасает выигравшего состояние Чарноту от угроз Корзухина.
Герои не то что меняются, но проявляют дремлющие в прежней рутинной жизни качества. Все они понимают: та жизнь кончена. Но кончена и эта.
Булгаков приступает к работе над «Бегом» в 1926 году (в машинописном экземпляре пьесы проставлено: 1926–1928). В апреле 1927 года подписывает договор со МХАТом. Пьеса еще называется «Рыцарь Серафимы» («Изгои»)336. Оба названия свидетельствуют об ином, нежели законченный, варианте вещи: ключевыми героями должны стать двое интеллигентов, Серафима и ее «рыцарь» (Голубков). Рукопись автор обязуется предоставить не позднее 20 августа 1927 года. В Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) сохранен документ, в котором среди прочего указано:
Аванс в размере 500 рублей, который был получен М. А. Булгаковым по ныне аннулированному договору, который был заключен с дирекцией МХАТа 2 марта 1926 года о постановке пьесы «Собачье сердце», должен считаться выданным в счет его авторского гонорара по пьесе «Рыцарь Серафимы»337.
«Бег» закончен ранней осенью 1927 года. Но в театр два экземпляра рукописи поступают лишь 16 марта 1928 года.
В конце того же года Булгаков переходит из МОДПиКа в Союз драматургов (обе организации – и Московское общество драматических писателей и композиторов, и Союз драматургов, находящийся в Ленинграде, занимаются сбором поспектакльных отчислений, что необходимо любому автору театра). Переход бурно обсуждается сразу в двух отделах ОГПУ, Секретном и Информационном. Агентурная сводка подробно излагает разговор писателя с членом правления МОДПиКа:
– Почему вы ушли из МОДПиКа? Ведь вы фигура одиозная. Ваш уход в Драмсоюз будет всячески комментироваться, и имя ваше будет трепаться.
– Я это знаю. Я на это шел. Во-первых, я не могу состоять в том обществе, почетным председателем которого состоит Луначарский, не как Анатолий Васильевич, а как Наркомпрос, который всячески ставит препятствия к продвижению моих пьес <…> Во-вторых, в правлении МОДПиКа имеются коммунисты, а они – мои враги, не могу я с ними состоять в одном обществе. <…>
Вся современная литература пишется из-под кнута, и я так не могу работать338.
Осведомитель сообщает:
Уход Булгакова из общества рассматривается партийной частью правления как политический акт339.
Закончив «Бег», одна из сцен которого проходит в Париже, 21 февраля 1928 года Булгаков подает прошение о поездке в Европу, в Берлин и в Париж – в связи с работой над пьесой. Разрешения на поездку Булгаков не получает. Не выпущенный за границу автор в апреле читает пьесу в Ленинграде, в Александринском театре, откликнувшись на просьбу Ю. М. Юрьева340.
Пьесу хотят поставить и в Одесском русском драматическом театре (в августе ее включат в репертуар). И 21 апреля 1928 года Булгаков покидает Москву, разрешив себе передышку после трех лет сумасшедшей работы: в 1925–1927 годах он сочинил четыре пьесы, три из них идут, репетиции же четвертой вот-вот начнутся.
16 апреля 1928 года К. С. Станиславский говорит об «очень затруднительном положении» театра в связи с интересом публики к современным пьесам.
А таких пьес мало, при этом они еще слабы в драматургическом отношении, – сетует режиссер. <…> В настоящее время в театр представлена только одна современная пьеса – «Бег» М. А. Булгакова341.
Ситуация предельно ясна: «…фаланга попутчиков дружно и весьма успешно завоевывает театр»342, – мрачно сообщает А. Глебов вывод, сделанный в результате анализа театрального репертуара.
Но 9 мая 1928 года проходит заседание ГРК, на котором принимается резолюция о «Беге» как произведении «неприемлемом»343. Причины решения разъясняются:
Пьеса «Бег» может быть охарактеризована как талантливая попытка изобразить белогвардейское движение <…> в ореоле подвижничества русской эмиграции. Бег от большевиков для героев пьесы – это голгофа страстей и страданий белых в эмиграции, приводящая отдельных представителей ее к убеждению необходимости возврата на родину. Однако подобная установка не может быть оценена даже как сменовеховская, ибо автор сознательно отходит от какой бы то ни было характеристики своих героев, принявших Советы, в разрезе кризиса их мировоззрения и политического оправдания своего поступка. Серафима возвращается в СССР потому, что хочет попасть «опять на Караванную, видеть снег, все забыть…», Голубков – чтобы «жить дома…»
Все это – агония больших героев, легендарных генералов, и даже Врангель по характеристике автора «храбр и благороден». Напротив, эпизодическая фигура буденновца в 1 картине, дико орущая о расстрелах и физической расправе, еще более подчеркивает превосходство и внутреннее благородство героев белого движения344.
В начале лета 1928 года новым руководителем Главреперткома назначен Ф. Ф. Раскольников. Он-то и станет главным противником «Бега». Но в мае этого ни театр, ни автор еще не знают.
Марков посылает телеграмму Булгакову, путешествующему по местам, где он провел месяцы окончания Гражданской войны (Тифлис, Батуми), прося разрешения вступить в переговоры с Главреперткомом. И летом, судя по еще одному письму Маркова от 25 августа, в самом деле какие-то переговоры происходят.
Судаков рассказывал мне летом о твоем свидании с Реперткомом, которое укрепило мои надежды на постановку «Бега». Думаю, что если вы действительно нашли какие-то точки соприкосновения с Раскольниковым, то за эту работу приняться необходимо, и как можно скорее345.
Информации о прямом контакте, да еще дружественном, Булгакова с Раскольниковым нет. Возможно, имеется в виду визит Замятина и Булгакова в Союз писателей 7 июня, где Федерация объединений советских писателей (ФОСП) устраивала встречу с Горьким, появившимся в Москве в связи с празднованием своего 60-летия. Горький, пристально следящий за новыми талантливыми литераторами в России, после встречи говорил с Раскольниковым, председателем только что созданного Худполитсовета при Главреперткоме, о делах Замятина и, возможно, о булгаковской пьесе346.
11 августа 1928 года Булгаков пишет Горькому. Он просит его помочь в возвращении из ГПУ рукописей, изъятых во время майского обыска 1926 года:
Есть только один человек, который их может взять оттуда, – это Вы. И я буду считать это незабываемым одолжением.
Я знаю, что мне вряд ли придется еще разговаривать печатно с читателем. Дело это прекращается. И я не стремлюсь уже к этому.
Я не хочу.
Я не желаю.
Я желаю разговаривать наедине и сам с собой. Это занятие безвредно, и я никогда не помирюсь с мыслью, что право на него можно отнять347.
Эти строчки – яркое свидетельство того, что понимал Булгаков о себе и своем писательском будущем в месяцы борьбы за постановку «Бега». Но театр все еще был настроен оптимистически.
28 августа 1928 года Марков сообщает Станиславскому, что «Горький передал через Н. Д. Телешова о разрешении „Бега“ – известие, еще не подтвердившееся, но дающее большие надежды на включение „Бега“ в репертуар»348. Но еще и спустя месяц Немирович телеграфирует Станиславскому в Берлин: «Хотим приступить к репетициям <…> разрешаемый „Бег“»349. Это значит, что судьба пьесы, уже год живущей в театральных планах МХАТа, в сентябре все еще остается подвешенной. Похоже, что нетерпеливый И. Я. Судаков, скорее, выдавал желаемое за действительное.
Не оставляя хлопоты о пьесе, МХАТ предпринимает важный шаг: обращается к «тяжелой артиллерии» – Горькому, с интересом и симпатией относившемуся к Булгакову. Горький пьесу читал (21 сентября баронесса М. И. Будберг, Мура, близкий друг Алексея Максимовича, просила в письме привезти или прислать пьесу «Бег», то есть знала, что у Горького она есть350).
27 сентября Булгаков пишет Замятину о статье «Премьера» (которую Замятин намеревался включить в альманах Драмсоюза):
…все 30 убористых страниц, выправив предварительно на них ошибки, вчера спалил в <…> печке <…>. И хорошо, что вовремя опомнился. При живых людях, окружающих меня, о направлении в печать этого opusa речи быть не может351.
И мы никогда не узнаем, что и о ком писал автор, по-видимому, позволивший себе выплеснуть эмоции на бумагу. Отметим лишь, что мысль о публицистическом (по-видимому) очерке была отвергнута автором, не редактором. Что могло бы принести Булгакову прямое выступление в печати в эти месяцы, не так сложно представить.
30 сентября «Новый зритель» сообщает о шести постановках следующего сезона. «Бег» упомянут в их числе352. Подтверждает включение «Бега» в репертуар и «Правда»353.
4 октября, в четверг, дежурящий на спектаклях МХАТ милиционер Гаврилов записывает в дневнике: «Разрешена постановка „Бега“ Булгакова; с субботы уже начнутся репетиции»354, то есть с 6 октября.
Через несколько дней, 9 октября 1928 года, дипломатичный и опытный Немирович-Данченко устраивает специальное обсуждение пьесы на заседании худсовета с участием В. П. Полонского и А. И. Свидерского. Пьесу читает артистичный автор.
Полонский оценивает пьесу как очень талантливую, проницательно отметив неправдоподобность хлудовского возвращения в финале355. Свидерский еще раз подчеркивает верность избранного Булгаковым пути:
Хотят увидеть именно Караванную, именно снег – это правда, которая понятна всем. Если же объяснить их возвращение желанием принять участие в индустриализации страны – это было бы неоправданно и потому плохо.
Свидерский выскажет еще один принципиальной важности тезис: отвечая Полонскому на его замечание, что пьеса «не советская», он скажет: «Если пьеса художественна, то мы как марксисты должны считать ее советской. Термины „советская“ и „антисоветская“ нужно оставить»356.
Судаков обещает выполнить все требования ГРК (изменение первой картины с буденновцем, доработку образа Хлудова, внесение иного смысла в возвращение Голубкова и Серафимы – они будут возвращаться «для того, чтобы жить в СССР»).
Позицию полной и безоговорочной поддержки Булгакова занимает Горький: «Со стороны автора не вижу никакого раскрашивания белых генералов. Это – превосходнейшая комедия, я ее читал три раза…» Горький подкрепляет свое мнение о «Беге» еще и тем, что он читал пьесу «А. И. Рыкову и другим товарищам», которые тоже видят пьесу как драматургическую удачу автора. «„Бег“– великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас»357.
Волшебное, пьянящее слово «успех», обещанный Горьким, придает оптимизма театру. Театр незамедлительно начинает репетиции. Объявлен актерский состав, режиссеры (И. Я. Судаков и Н. Н. Литовцева), руководитель постановки – Вл. И. Немирович-Данченко358. Среди «художественников» идут радостные толки. 19 октября новая запись в дневнике Гаврилова: «Про новую пьесу Булгакова „Бег“ говорят, что она еще сильнее и лучше, чем „Дни Турбиных“»359. В тот же день из Берлина возвращается Станиславский.
Но 13 октября Горький покидает Москву. И уже через несколько дней председатель ГРК Раскольников разворачивает кампанию против пьесы.
20 октября 1928 года на заседании коллегии Главискусства обсуждается отчетный доклад о деятельности МХАТ. Раскольников обвиняет МХАТ в том, что театр выполняет и революционный, и контрреволюционный заказ (называя во втором случае булгаковские пьесы «Дни Турбиных» и «Бег»), Свидерский вновь заявляет, что «Бег» «художественно и идеологически приемлем»360.
В ОГПУ отправляется следующая информация:
Из кругов, близко соприкасающихся с работниками Гублита и Реперткома, приходилось слышать, что пьеса «Бег» несомненно идеализирует эмиграцию и является, по мнению некоторых ленинградских ответственных работников, глубоко вредной для советского зрителя. В ленинградских реперткомовских кругах на эту пьесу смотрят глубоко отрицательно, ее не хотят допустить к постановке в Ленинграде, если, по их выражению, не будет давления со стороны Москвы.
Вообще, газетная заметка о том, что пьеса «Бег» была зачитана в Художественном театре и произвела положительное впечатление и на Горького, и на Свидерского, вызвала в Ленинграде своего рода сенсацию.
В лит. и театр. кругах только и разговоров, что об этой пьесе. Резюмируя отдельные взгляды на разговоры, можно с несомненностью утверждать, что независимо от процента антисоветской дозы пьесы «Бег», ее постановку можно рассматривать как торжество и своеобразную победу антисоветски настроенных кругов361.
Московские осведомители тоже не оставляют появление нового сочинения Булгакова без внимания.
Замечается брожение в литературных кругах по поводу «травли» пьесы Булгакова «Бег», иронизируют, что пьесу топят драматурги-конкуренты, а дают о ней отзыв рабочие, которые ничего в театре не понимают и судить о художественных достоинствах пьесы не могут…362
Но это означает, что рабочим пьеса нравится?
22 октября проходит новое, расширенное заседание политико-художественного совета ГРК363. Вновь читается и обсуждается «Бег».
Отчет о заседании был опубликован М. Загорским.
Первую половину пьесы «Бег» читал режиссер МХАТ-1 тов. Судаков, будущий ее постановщик, вторую – председатель Главреперткома тов. Раскольников. Уже в самой манере их чтения <…> определилась разница в подходе к этому произведению. Для Судакова смысл пьесы, ее главное зерно – в «тараканьем беге» людей, несомых по белу свету… Наоборот, тов. Раскольников в очень иронической подаче текста остро вскрывает всю условную <…> фальшивую фразеологию белогвардейских мучеников364.
Напрасно Свидерский объяснял, что «нельзя судить о пьесе по урокам бывших учителей словесности, раскладывая героев по полочкам „положительных“ и „отрицательных“ типов». Напрасно и Судаков, выступавший последним, пытался по-своему интерпретировать булгаковский текст. В. М. Киршон, Л. Л. Авербах, А. Р. Орлинский и П. И. Новицкий высказываются против пьесы. Я. С. Ганецкий365, А. И. Свидерский, И. Я. Судаков защищают ее, но оказываются в меньшинстве. Судаков говорит горячо и резко: «…вы душите театр, не даете ему работать. <…> Если вы запретите эту пьесу, то это будет подлинным душительством»366.
В его (Судакова. – В. Г.) представлении сложилась какая-то иная, другая пьеса, не та, которую написал Булгаков, – сообщал Загорский. – Он стремится в разборе пьесы вскрыть «шелест раздавленных тараканов» <…> Полит.-худ. совет не может рассматривать то произведение, которое еще не написано и находится пока только в воображении режиссера.
Загорский продолжает:
Судаков обещал в процессе работы убрать «мнимый героизм отдельных персонажей». Соломоново решение худ-политсовета при Главреперткоме: не исключать «Бег» из списка запрещенных произведений, но позволить МХАТу попытаться ее переделать в процессе репетиций, «если это окажется возможным»367.
Совет Главреперткома, согласно отчету, единогласно одобрил запрещение пьесы в настоящем ее виде, о чем 24 октября сообщила «Правда».
Режиссер Судаков, прочтя свое выступление в пересказе Загорского, прислал Булгакову письмо.
Я выступал в конце заседания в атмосфере совершенно кровожадной и считаю, что искренне и честно заступился за театр и за автора, и только. Выводы репортера, что я рассказывал свою пьесу, а не Вашу – я за них не могу отвечать, как не могу и бороться с изворотливостью мышления ловких людей, которые черт знает что говорят и пишут, пока сверху не стукнут их по башке.
Я имел удовольствие читать и комментировать Вашу пьесу в совсем другой, очень высокой аудитории, где пьеса нашла другую оценку, я там говорил то же, что и в Главреперткоме, с той только разницей, что центральной моей мыслью было не «душительство», а выражение признательности от имени театра за внимание к пьесе, к автору и к театру368.
Упомянутая Судаковым апелляция к «очень высокой инстанции» давала надежду на успех в развернувшейся драке. Никто из противников не собирался сдаваться. Выскажу предположение, что «высокая аудитория» была та же, что и у Горького, а именно «Рыков и другие товарищи». Но для Рыкова уже наступали трудные времена369.
25 октября 1928 года в очередном донесении осведомитель ОГПУ сообщал:
У Булгакова репутация вполне определенная. Советские (конечно, не «внешне» советские, а внутренне советские) люди смотрят на него как на враждебную соввласти единицу, использующую максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией. Критически и враждебно относящиеся к соввласти буквально «молятся» на Булгакова, который будучи явно антисоветским литератором, умудряется тонко и ловко пропагандировать свои идеи370.
Не остается в стороне и пресса, продолжая предлагать автору звучащие как пародия лексические формулы персонажей будущего романа.
Булгаков назвал «Бег» пьесой в «восьми снах». Он хочет, чтобы ее восприняли как сон; он хочет убедить нас в том, что следы истории уже заметены снегом; он хочет примирить нас с белогвардейщиной. И усыпляя этими снами, он потихоньку протаскивает идею чистоты белогвардейского знамени, он пытается заставить нас признать благородство белой идеи <…> И хуже всего то, что нашлись такие советские люди, которые поклонились в ножки тараканьим «янычарам». Они пытались и пытаются протащить булгаковскую апологию белогвардейщины в советский театр, на советскую сцену, показать эту, написанную посредственным богомазом икону белогвардейских великомучеников советскому зрителю (выделено мною. – В. Г.)371.
Еще один вариант отчета о заседании ГРК публикует журнал «На литературном посту»: «Почему мы против „Бега“ М. Булгакова», передавая смысл выступлений Авербаха и Киршона372.
Но все равно Свидерский в докладе «Задачи Главискусства» (октябрь 1928) на пленуме ЦК Всерабис, отстаивая «Бег», говорит о пьесе как лучшей изо всех прочитанных, показывающей «в художественной форме <…> банкротство эмиграции»373. То есть окончательное решение не принято, но время работает против булгаковских пьес, рассказывающих о людях из «бывших».
27 октября празднуют 30-летний юбилей Художественного театра. МХАТ не прекращает репетиций, надеясь на успешность хлопот по разрешению «Бега».
В октябре же скандал случается в ФОСП, где тоже упоминается Булгаков – в связи с готовящимся юбилеем МХАТ, на котором представитель писательской организации должен был произнести двухминутное поздравление. Представитель РАПП в ФОСП С. Канатчиков374 допускает два идеологических промаха: голосует за пьесу «Бег» и не согласовывает кандидатуру выступавшего. Киршон на заседании комфракции РАПП возмущен: «Странно, рапповский работник голосует за помещение „Бега“ (в 12‑м номере „Красной нови“. – В. Г.) – явно контрреволюционной вещи…» А «несогласованный» поздравитель Полонский, выступивший на мхатовском юбилее, по мнению Киршона, «говорил совершенно антикоммунистические вещи». Результатом случившегося стало появление специального документа: «Об инциденте с т. Канатчиковым в связи с юбилеем МХАТа»375. РАПП обратилась к ЦК с просьбой освободить легкомысленного Канатчикова от представительства РАПП в ФОСП, что и было выполнено.
По инициативе редакций газет «Правда», «Комсомольская правда» и журнала «Революция и культура» проходит совещание коммунистов, работающих в области искусства, посвященное вопросам борьбы с правым уклоном и примиренчеством. А. Верхотурский, рассказывая о совещании, сообщает: «Теория уступок, так называемый нэп в области идеологии – опаснейшее явление нашей жизни»376. Примерами идеологических промахов служат вещи И. Бабеля, К. Вагинова, Л. Леонова, К. Федина и М. Булгакова. Это они виновны в проникновении «враждебной идеологии» в общество. Наказуемы и перегибы «со стороны соответствующих руководящих органов и некоторой части печати в вопросе так называемой охраны старых культурных ценностей и в либеральной поддержке „свободного“ развития творческих усилий писателей…»377 (Заметим, что если ранее кавычками отмечались эпитеты «контрреволюционный» и «антисоветский», то теперь в осуждающе-отмежевывающиеся кавычки заключается слово «свободный», а «охрана старых культурных ценностей» сопровождена специфическим предупреждением «так называемая».) Верхотурский продолжает: «Так было в вопросе о „Днях Турбиных“, так оно имеет место в настоящее время в вопросе о „Беге“ <…> Речи носили разоблачительный характер»378, – констатирует автор отчета.
Положение Булгакова усугубляется еще и тем, что в эти недели осени 1928 года газеты и журналы ругают все четыре его пьесы, так что статьи сливаются в единое целое: тотальный разгром драматурга. Ширится борьба с «правой опасностью», и имя Булгакова склоняется теперь в связи с этой, новой, кампанией.
Меняющаяся ситуация тревожит многих. А. И. Свидерский отправляет секретное письмо секретарю ЦК ВКП(б) А. П. Смирнову, где стремится объяснить суть происходящего в искусстве в результате энергичного вмешательства Главреперткома. Толчком к этому опять-таки становится булгаковское произведение, борьба вокруг которого приводит Свидерского к мыслям общего плана. Речь – о «Беге», но и не только о нем.
М. О. Чудакова писала о финале, что в нем «Голубков и Серафима „выбегают из комнаты“ с решением „ехать домой“ навстречу, надо полагать, именно надежде. Возможная альтернатива – показать, как они движутся навстречу неизвестности и, может быть, вечному покою, приходящему после еще неведомых им мучений, оказалась драматургом не использована» («Жизнеописание Михаила Булгакова». С. 368). Но реплики Голубкова и Серафимы о снеге, который «наши следы заметет», – это предвидение гибели.
Впервые фрагмент протокола обсуждения пьесы был опубликован М. Н. Строевой (Режиссерские искания К. С. Станиславского. Т. 2. 1917–1938. М.: Наука, 1977. С. 257), но с отточием на месте упоминания Рыкова. В конце 1980‑х – начале 1990‑х гг., напомню, борьба шла за каждую возвращаемую из небытия фамилию.
Pulsuz fraqment bitdi.