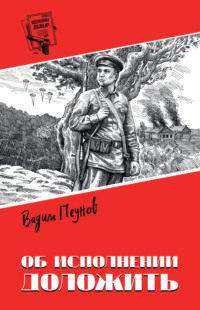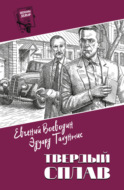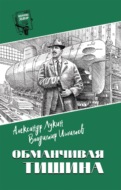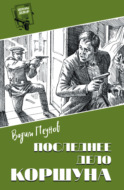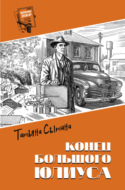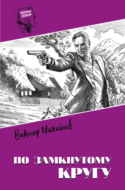Kitabı oxu: «Об исполнении доложить»
© Пеунов В.К., наследники, 2024
© Хлебников М.В., составление, предисловие, 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
* * *

«…Теперь предстоит затяжная война»
Наверное, самое ценное для нашей «шпионской серии» – возвращение из плена времени писательского имени, которое казалось прочно осталось в прошлом и может привлечь к себе внимание лишь редких знатоков и ценителей шпионского жанра. В прошлом году мы представили роман донбасского писателя Вадима Пеунова «Последнее дело Коршуна». Книги серии не обделены читательским вниманием, но даже на фоне самого благожелательного отношения реакция на роман оказалась неожиданно бурной. Причина тому, помимо литературного качества романа, кроется и в драматической судьбе самого писателя, и в явной исторической актуальности книги. Слова «бандеровцы» и «украинские националисты» сегодня наполняются особым смыслом и содержанием. Мы решили продолжить знакомство с наследием Вадима Константиновича, благо что любовь к шпионскому жанру писатель сохранил на всю жизнь.
Скажем несколько слов об авторском пути Пеунова после публикации в 1955 году «Последнего дела Коршуна». Молодой писатель очутился перед выбором. С одной стороны, знание жизни индустриального, шахтёрского Донбасса могло помочь в написании книг о рабочем классе, востребованных с позиции социального заказа. Но в то же время фронтовой опыт также требовал своего осмысления. Пеунов решил соединить две темы в следующей большой книге. В 1958 году в Сталинском областном издательстве выходит его объёмный роман «Друзья и враги». Переработанный вариант романа через три года увидел свет под названием «Любовь и ненависть». Такой приём – доработка, расширение текста характерен для писательской работы Пеунова. Сложное, многоплановое произведение соединяет в себе черты производственного романа и военной эпопеи. Два молодых лейтенанта – лётчик Антон Сысойко и артиллерист-политрук Владимир Гремячий – приезжают в родной донбасский город. Они полны сил, их ждут любимые девушки. На календаре лето 1941 года… Друзья уходят на фронт, оставшиеся в тылу родные и близкие люди продолжают работать, готовить шахтовое оборудованием к эвакуации. Не все персонажи выдерживают испытания огнём: слабость, проявленная сегодня, оборачивается предательством завтра…
Попробовав себя в качестве автора широкого, эпического полотна, писатель во второй половине 1960-х годов решил вернуться к тому, с чего начался его путь в литературу. Увы, в то время шпионский роман переживал острый кризис. Несколько раз я уже говорил о его причинах – борьбе с наследием сталинизма не только в культуре, но и в политике, установке на идею мирного сосуществования с Западом, которая, по сути, означала постепенную, шаг за шагом, сдачу позиций под видом «соревнования систем». Не будем забывать и о зависти со стороны профессионального писательского сообщества. Советский читатель 1950—1960-х годов любил и ценил книги о шпионах, тиражи поглощались мгновенно и без следа. В качества эрзаца читателю был предложен милицейский роман. Его «единственная» беда была в том, что содержательно он безоговорочно, сразу и зримо проигрывал тем же западным детективам. Если имена Агаты Кристи, Раймонда Чандлера, Рекса Стаута известны и сегодняшнему читателю, то советский милицейский роман в наши дни попросту забыт. Как бы странно это ни звучало, авторы советского детектива всячески открещивались от таких «родимых пятен» жанра, как увлекательность и остросюжетность. Занимательность отодвигалась на вторые, а лучше на пятые-шестые планы. Упор делался на «поднятие серьёзных нравственных проблем», создание «портрета нашего современника». Приведу показательные рассуждения двух соавторов на эту тему, которые поджидали отечественного читателя во № 2 альманаха «Поединок», выпущенном в 1976 году. Фамилия одного из них, думаю, прозвучит неожиданно для ценителей и знатоков жанра:
«Что питает детективный жанр в сюжетном смысле? Преступление. Но тогда по мере дальнейшего развития нашего общества, по мере его приближения к Коммунистическому Завтра преступление как социальное явление будет все больше и больше сходить на нет. Соответственно пропадет и сама нить реальности, питающей данный жанр. Некие признаки этого оптимистического процесса просматриваются уже сейчас. Поэтому, когда читаешь какую-нибудь ремесленно «сляпанную» книгу, становится неинтересно, глубоко безразлично, кто совершил это зло и каким образом будет он наконец изловлен. Что-то в самом читателе отвергает уже игрища лукавства и злодейств.
Речь идет, однако, отнюдь не об исчезновении жанра – пусть даже в самом отдаленном будущем. Речь идет о том, что на смену традиционному противоборствованию «сыщика» и «преступника» придут и уже приходят в литературу иные, пожалуй, значительно более сложные коллизии, в первую очередь этического порядка. Что же касается приключения как формы отношения человека к ситуациям своего бытия, к жизни, то будущее не только не сузит рамки этого, но, наоборот, раздвинет их невообразимым сегодня образом. Выход человека в космос, фантастические возможности науки завтрашнего дня, социальное преобразование общества – вот области, причастность к которым немыслима без подвига, без приключения».
Текст называется не менее основательно «Раздумья над жанром». Его авторы – Юлиан Семёнов и Александр Горбовский. Тут остаётся только развести руками.
Писатели, пытавшиеся работать в то время в шпионском жанре, должны были обставить своё обращение к теме некоторыми условностями. Одно из них – перенос действия книг в годы Гражданской войны и первых лет советской власти. Там можно обойтись без выхода в космос, использовав вволю «игрища лукавства и злодейств». Также неплохим приёмом считалось использование соавторов – свидетелей и участников тех далёких событий. Этим путём и пошёл Вадим Пеунов. Соавтор нашёлся достаточно быстро. Им стал подполковник государственной безопасности в отставке Иосиф Ионович Чернявский. Свою службу он закончил в должности заместителя начальника 2-го отдела УНКГБ по Сталинской области. Вместе с ним Пеунов пишет большую повесть «Чекист Аверьян Сурмач», которая вышла в 1969 году. В ней рассказывается о противостоянии чекистов с контрабандистами на западных границах Советской Украины в начале 1920-х годов. Молодой борец за советскую власть Аверьян получает назначение на должность уполномоченного экономгруппы Турчиновского окротдела ГПУ. Молодой чекист верит в силу маузера и шашки:
«Он вспомнил, как долдонили тринадцать шахтарчуков-сыновей горнорабочих: «аз», «буки», «веди»… Прописать «ижицу» – это не букву вывести тупым карандашом в тетрадке в клеточку, а высечь нерадивого привселюдно розгами, спустив холщовые штаны до колен. У батюшки с дьячком – лихим мастером по части «ивовых поучений», вымоченных специально в горячей соленой воде, – всего две книжки: «Часослов» и «Божий закон». Аверьяну больше нравилось читать по «Божьему закону»: буквы покрупнее, и картинки есть такие смешные, – летит херувим в длинной, до пят, рубахе и белыми крыльями, словно бабочка-капустница, машет. А над кудрявой головой колечко – нимб.
Не с той ли поры всех образованных Аверьян заранее относил в разряд «контры» и только для учителей и врачей делал скидку, да и то не для всех»
Проблема в том, что за банальными мелкими экономическими преступлениями постепенно вырисовывается картина нешуточной политической борьбы с участием польской разведки, петлюровского подполья, за которыми маячат размытые фигуры настоящих серьёзных врагов. Аверьяну приходится признать силу и необходимость «образования», без которого одержать победу над хитрым и изворотливым врагом будет крайне сложно. Книга – «возвращение к жанру» – получилась удачной, и Пеунов, почувствовав уверенность, берётся за сольный проект, работа над которым растянулась на несколько лет. Её итогом стал роман «Об исполнении доложить», изданный в 1974 году.
Книга без раскачки бросает читателя в гущу событий:
«Дивизионный комиссар Андрей Павлович Борзов положил передо мною копию немецкого документа и сказал:
– Что ж, одним ударом Германия с нами не справилась, теперь предстоит затяжная война. Начинают работать факторы длительного действия. Это очевидно для всех. И вот один из первых ходов нашего с вами противника – гитлеровской контрразведки».
А ход врага оказался серьёзным. Поздним летом 1941-го он нацелился на северные районы Донбасса, ставя перед собой сразу несколько целей. Во-первых, немцы пытались отсечь магистрали, связывающие Днепр с Доном, лишить нашу оборонную промышленность мощного индустриального потенциала этого развитого и обжитого региона:
«Бывало, летишь ночью, а под крылом море огней. Крупные города, не уступающие многим областным центрам, идут почти один за другим, порою граница между ними чисто условная. Раскидистые, привольные села и старые, оставшиеся от столыпинских времен, хутора».
Да, сегодня мы знаем, как непросто вернуть и защитить донбасские крупные города и привольные села. Вторая задача – провоцирование националистического движения с привлечением участников антисоветских восстаний 1920-х годов. Третья часть – таинственная миссия «Сыск». Координатор немецкого плана в советском тылу – неуловимый резидент гитлеровской разведки с кодовым «Переселенец».
Команду советских контрразведчиков возглавляет полковник Пётр Дубов – вариант повзрослевшего Аверьяна Сурмача. Пётр отправляется в район активности вражеской агентуры, который ему хорошо знаком ещё со времён Гражданской войны. И в этой части романа Пеунов отдаёт дань шпионской романтике 1920-х годов. Оказывается, что во вражеских планах значительная роль отводится остаткам банды батьки Чухлая, к разгрому которой причастен и Дубов. Чекист встречает Надежду Сугонюк – бывшую невесту бандитского атамана. Пётр подробно вспоминает о событиях двадцатилетней давности, когда сотрудники ОГПУ пытались добиться мирной сдачи «чухлаевцев». Сразу скажу, что подробное повествование о борьбе с бандитским подпольем несколько тормозит развитие сюжета. Кажется, что история начинает буксовать, писатель чрезмерно погружается в прошлое. Но подобная «заминка» связана с расстановкой персонажей, среди которых и муж Надежды – бывший чухлаевский подельник по кличке Шоха, и сам неутомимый атаман. Действие набирает обороты не сразу, требуется раскачка, но затем писателю удаётся поймать удачный темп повествования. Прошлое неумолимо прорастает в настоящем. Ситуация углубляется тем, что гитлеровские войска наступают и возникает необходимость перехода чекистов на нелегальное положение.
Вернусь к операции нацистской разведки «Сыск». Она связана с поиском советского разведчика «Сынок», работающего в Германии долгие годы. Дубов знает его по тем же лихим двадцатым годам:
«Иногда нам с Сергеем давали особые задания, и мы, переодевшись в форму белогвардейцев, отправлялись во вражеский тыл. Скрябин превосходно говорил по-французски и по-немецки. Это не раз нас выручало. Обычно он представлялся белогвардейцам: «Князь Скрябин». Вначале я думал, что он так именует себя для маскировки. Но однажды узнал, что Сергей действительно знатного рода – его мать настоящая княгиня. Впрочем, княжеского у Скрябина ничего, кроме титула, не осталось».
Теперь он не Сергей Скрябин, а высокопоставленный немецкий офицер Генрих Вильгельм фон Менинг. Читатель, конечно, догадывается о том, с именем какого другого советского разведчика связан этот сюжетный поворот. Юлиан Семёнов в нашем тексте поминался не просто так. Как и в шпионском романе, все персонажи должны раскрыться в неожиданных связях и отношениях между собой. Насколько Пеунову удалось соблюсти баланс между разными видами шпионского романа: классического, исторического, политического, – решать читателю. Если кто-то решил, что я в предисловии «открыл все карты», то спешу успокоить: самые коварные планы асов немецкой разведки скрыты до поры от ваших глаз. Полковнику Дубову и его товарищам предстоит непростая схватка с врагом на донецкой земле.
С чем книге Вадима Пеунова не повезло точно, так это с тем, что в один год с его книгой выходит роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого». Публикация в трёх последних номерах «Нового мира» за 1974 год перевернула представление о том, как нужно рассказывать о работе фронтовых контрразведчиков. Без скидок великий роман Богомолова, конечно, «заслонил» собой книгу донбасского писателя. Но прошедшие юбилейные полвека со времени публикации этих двух книг показывают, что в литературе места хватает всем. К сожалению, сегодня мы снова вынуждены говорить о злободневности романа Пеунова. Его герои доказывают, что сила и коварство врага разбиваются не только о мощь нашего оружия. Победа невозможна без спокойной уверенности в правоте своего дела. Этим чувством обладают как полковник Дубов с товарищами, так и те, кто сегодня встал на пути исторической тьмы, снова наползающей на нас с Запада.
М.В. Хлебников, канд. философских наук
Задание на контрразведку
Светлой памяти моей матери Зои Ивановны Пеуновой.
Автор
Дивизионный комиссар Андрей Павлович Борзов положил передо мною копию немецкого документа и сказал:
– Что ж, одним ударом Германия с нами не справилась, теперь предстоит затяжная война. Начинают работать факторы длительного действия. Это очевидно для всех. И вот один из первых ходов нашего с вами противника – гитлеровской контрразведки.
Я внимательно прочитал документ.
«Секретное распоряжение
Отдел иностранной контрразведки
№ 63/14
Контрразведка 11/ЛА
Секретное дело штаба Берлин
(Только через офицера)
Во исполнение полученных от оперативного отдела военно-полевого штаба указаний приказано:
1) создать оперативную группу «Есаул»;
2) руководителем ее назначить майора Хауфера, его заместителем – капитана фон Креслера;
3) в качестве отправного пункта оперативной группы «Есаул» избрать лесистые районы Северного Донбасса, где проходят важные железнодорожные магистрали и шоссейные дороги, связывающие Днепр с Доном.
Оперативной группе «Есаул» вменяются следующие обязанности:
I. а) сообразуясь с имеющимися оперативными и агентурными данными, провести акцию «Сыск», возложив при этом личную ответственность за результаты акции на майора Хауфера и капитана фон Креслера;
б) подготовка акции «Сыск» и поддержание связи с майором Хауфером возлагаются на отдел контрразведки.
II. Учитывая большое значение промышленного потенциала юга Советской России, оперативный отдел военно-полевого штаба считает возможным согласиться с рекомендациями Переселенца и использовать в интересах рейха противоречия, которые должны возникнуть в сложной прифронтовой обстановке между национальностями, проживающими на данной территории. В связи с этим необходимо: а) в широких масштабах организовывать саботаж всюду, где это позволяют условия, и прежде всего на оборонных предприятиях, на транспорте, на базах, где скапливаются товары первой необходимости; б) конечной целью этих акций должны явиться антисоветские восстания недовольного возникшими трудностями местного населения, особенно казаков; в) в дальнейшем из этих лиц желательно сформировать отряды для несения караульной службы в районе тыла группы армий «Юг» после выхода наших войск на линию «Дон».
III. Учитывая опыт первых месяцев войны, можно сказать, что, как только нашими войсками будут заняты промышленные области юга Советской России, особенно Донбасса, русскими будет непременно организовано коммунистическое подполье на этой территории. Поэтому необходимо: а) используя группу Переселенца, а также личные знания майором Хауфером и Переселенцем условий и политической обстановки на указанной территории, выявить людей, которым, возможно, будет поручена организация подполья; б) своевременно установить места явок, баз и сосредоточений будущих партизанских отрядов и подпольных групп; в) в нужный момент одновременно и повсеместно обезглавить подполье».
Прочитав документ дважды, я вернул его дивизионному комиссару.
С Андреем Павловичем мы расстались несколько месяцев назад, незадолго перед войной, когда меня из отдела военной контрразведки перевели в распоряжение Киевского военного округа, поближе к западной границе. Я получил назначение на должность начальника контрразведки корпуса. Впоследствии наш корпус принял на себя один из первых танковых ударов врага. Потом с кровопролитными боями отступал через западные районы Украины, прорвался к Киеву и влился в общую оборону. После выхода из окружения я, как это и полагалось, написал рапорт о проделанной работе за период боев на границе и во время отступления. Рапорт попал к Борзову, и он вызвал меня срочно в Москву. До столицы я добирался с превеликими трудностями.
Дивизионный комиссар Андрей Павлович Борзов, один из соратников Феликса Эдмундовича Дзержинского, был первым моим учителем. Под его началом я проработал шестнадцать лет. И вот мы снова вместе.
За время, что мы не виделись, Борзов, что называется, сдал. Столько лет Андрей Павлович был для нас, молодых чекистов, образцом неувядаемости и вечной молодости. Поджарый, энергичный, напористый, он мог неделями работать по двадцать часов в сутки. А сейчас выглядел вконец уставшим. Глаза красноватые. Веки припухли. Это от бессонницы.
– Вот, Петр Ильич, – положил он на стол документ, – оперативный отдел гитлеровского военно-полевого штаба планирует нашу с тобой работу. – Он постоял, подумал. Заговорил уже официально, по старой служебной привычке обращаясь к подчиненному на «вы». – Я отозвал вас с фронта как специалиста по промышленному югу страны. В Донбассе родились, там боролись с бандитизмом, там работали, вернее, начинали с Сынком…
Такое предисловие взволновало меня. Какое же меня ждет назначение? Вспомнил одного из лучших разведчиков своего отдела, работающего за границей с давних времен.
Борзов глянул на секретное распоряжение гитлеровской разведки, лежащее на столе, и спросил:
– Что вы можете сказать по поводу содержания этого документа?
«Что сказать»! Зная манеру комиссара работать с подчиненными, я ждал этого вопроса.
– Мне думается, что гвоздь всего задания для группы «Есаул» – акция «Сыск». Даже в сверхсекретном приказе цель ее осталась зашифрованной. Но тут же подчеркивается личная ответственность за результаты ее проведения руководителей оперативной группы «Есаул». Кстати, о фамилиях: Хауфер мне ни о чем не говорит, но это, судя по приказу, опытнейший разведчик. А вот фон Креслер…
Креслеры – военная династия. Начиная со времен Фридриха Великого Креслеры играли не последнюю роль в битвах за «великую Германию». Генрих фон Креслер – штабист, теоретик, полковник, стратег бронированного кулака. Иоганн фон Креслер, старший из братьев, прусский генерал крайне консервативных взглядов, перед войной в должности командира дивизии проживал в Кёнигсберге. В своих мемуарах «Война как она есть», вспоминая четырнадцатый год, писал: «Россия – огромная страна, глубина ее тыла практически беспредельна, людские и материальные ресурсы колоссальны. Нельзя забыть и о боевом духе русского солдата. В мире есть три нации, которые умеют бесспорно побеждать: немцы, русские и японцы. Опыт прошлого учит, что нам нужно быть рука об руку с русскими». Капитан доктор фон Креслер был третьим Креслером, имя которого стоило знать контрразведчику.
– Показательно, – говорю Борзову, – выходец из такой знатной семьи, имеющий, вне сомнения, самых влиятельных покровителей, доктор – всего лишь второе лицо. Представляю себе, каким крупным специалистом контрразведки является Хауфер, коль ему, а не доктору фон Креслеру доверили возглавить группу «Есаул».
Сумрачное лицо Борзова подобрело, глаза просветлели.
– Мы, – продолжал комиссар, – рассматриваем задание, которое получила группа «Есаул» от своего центра, как моральную диверсию с далекоидущими целями: разжигание национальной розни в таком многонациональном крае, как промышленный юг Украины и РСФСР, и антисоветское восстание. Ни больше ни меньше. Но решается эта политическая задача методами контрразведки. Вот и перед нами стоит политическая задача – сорвать планы гитлеровцев и при возможности навязать им свою контригру. Сегодня я вас, Дубов, познакомлю с Федором Николаевичем Белоконем. Интереснейший человек. Сами в этом убедитесь. Он занимается организацией партийного подполья на Украине. А вам предстоит охранять и это подполье, и прифронтовую зону.
В 17.35 мы с Борзовым вошли в просторное здание ЦК. Здесь было тихо и прохладно. Мы поднимались по широкой лестнице, шли по сложным лабиринтам коридоров и молчали: обоими владело сложное чувство значимости происходящего.
В просторном кабинете, у стола, в широких креслах сидели и беседовали двое. Друг против друга. Один – невелик ростом, суховатый, как говорят в народе, поджарый. Волосы ежиком. Лобастый. С шустрыми, все примечающими светлыми глазами. Ему на вид было лет сорок пять. В военной гимнастерке, но без знаков различия. Догадаться труда не составляло: Федор Николаевич Белоконь. Другой, Вячеслав Ильич, постарше лет на десять. Полный. Лицо уставшего, измученного долгой бессонницей человека. Перепахали лоб морщины. Под глазами они – мелкой сеткой, которую не в состоянии скрыть даже тяжелая черепаховая оправа очков.
Он поднялся нам с Борзовым навстречу.
– Говорю Федору Николаевичу: проверь свой хронометр: Борзов в дверях, значит, 17.40. – Он поприветствовал комиссара, которого сегодня уже видел, затем тепло поздоровался со мной. Привычным движением руки поправил очки, «посадив» их на место. – Знакомьтесь, – представил он меня, – Петр Ильич Дубов.
Белоконь резким, решительным движением пожал мне руку.
Вячеслав Ильич предложил всем сесть, а сам подошел к карте, занявшей почти всю стену, и отодвинул шторки.
Карта была перечеркнута красно-синей спаренной линией, которая начиналась где-то у Ленинграда, опускалась к югу, добиралась до Днепра. Голубая полоска реки разлучала синюю черту с красной, но кое-где, перебравшись на восточный берег, они вновь соединялись, застывали.
– Трудно нам сейчас, – с грустью сказал Вячеслав Ильич. – В данный момент противник развернул против нас 182 дивизии, не считая четырнадцати дивизий, которые находятся в резерве главного командования сухопутных войск. Наши части, к сожалению, пока укомплектованы лишь наполовину. Свежие дивизии мы вынуждены сосредоточивать в основном на Западном фронте, перекрывая подступы к Москве, хотя крупные мероприятия и проводятся по обороне Ленинграда и Киева. Но там противник имеет четырехкратное превосходство в авиации. Мы оставили Таллин: Балтийский флот потерял хорошую базу. Это скажется на обороне Ленинграда. Ну а то, что делается в районе Чернигов – Киев – Нежин, вы видели своими глазами…
Обстановка на Юго-Западном фронте была напряженная. Я знал, что немцы у Остра вышли к Десне, окружили, можно считать, Киев и севернее его, у Горностайполя, начали наводить стационарную переправу. Наша авиация ее неоднократно бомбила.
Вячеслав Ильич не мог оставаться спокойным, рассматривая карту. Задернул шторки, вернулся к столу.
– Ко всему прочему и у командиров, и у красноармейцев не хватает опыта ведения войны таких масштабов. Мы его приобретаем. Вот под Ельней провели удачно большую наступательную операцию. Но за приобретение этого опыта пока платим невероятную цену.
Я вспомнил бои, которые вел наш корпус на илистой небольшой речке Рате. При первом же артобстреле полковых казарм бойцы растерялись. А когда показались вражеские танки, кое-кто решил искать спасение в ближнем лесу. А вот в одном батальоне, которым командовал участник боев в Испании, взялись за гранаты и подбили несколько танков. К сожалению, позже мы не смогли узнать даже имен многих героев. Шли тяжелые бои, мы отступали. И не всегда планомерно. Опыт! Как он нужен в таком большом и сложном деле, как война!
Вячеслав Ильич продолжал рассказывать об общем положении на фронте.
– Противнику удалось захватить и расширить плацдармы у Днепропетровска, Борисполя и Кременчуга. Война пришла на восточный берег Днепра.
Он замолчал. И мы трое тоже удрученно молчали. Каждый из нас тяжело переживал несчастье, обрушившееся на Родину.
Вячеслав Ильич снял очки, начал протирать их желтой замшей, которую специально для этого носил в футляре. Без очков он близоруко щурился, поэтому выглядел старше своих лет.
– Вот на сложность обстановки, в которой мы очутились, и рассчитывают стратеги военно-полевого штаба, – заметил Вячеслав Ильич. – Антисоветское восстание! Ни больше ни меньше! Каково! – Он подосадовал, затем уже в спокойном, деловом тоне продолжал: – ЦК считает, что идея крупных антисоветских выступлений, основанных на национальной розни, – идея бредовая. Но найти определенное количество деклассированных отщепенцев гитлеровская агентура, пожалуй, сможет. Есть у нас тайные враги и среди союзников, которые хотя и в одной с нами коалиции, но радуются в душе каждой нашей неудаче, надеясь, что те неудачи приведут нас к катастрофе. По имеющимся данным, гитлеровская контрразведка нацелилась на Крым, на Кавказ и вот теперь – на промышленный юг страны, где проживает тоже неоднородное по национальному составу население. Юг страны: Днепропетровская область, Харьковская, Сталинская и Ростовская – прежде всего важный промышленный потенциал в системе обороны. Это кузница рабочих кадров, родник пролетарской сознательности. Вот почему ЦК ВКП(б) рассчитывает на то, что здесь будет создано сильное подполье, способное решать сложные военные, политические и экономические задачи. И вот уже сейчас гитлеровская контрразведка замахивается на это будущее подполье. Поэтому и нам надо срочно предпринимать ответные меры. Давайте определимся в целях и методах врага. Андрей Павлович, – обратился он к комиссару, – вам слово.
Борзов кивнул слегка: «Понял».
– Исходя из секретного распоряжения гитлеровской контрразведки, – начал он, – перед группой «Есаул» ставятся три задачи. Первая: акция «Сыск». В отношении сути этой акции у меня одно предположение есть, но оно требует уточнений… По-видимому, это обычная контрразведывательная операция, связанная с выявлением нашей разведсети в Германии. Вторая задача имеет чисто политические цели, но решение ее предполагается контрразведывательными методами: с помощью саботажа, диверсий и распространения ложных слухов накалить атмосферу. И третье: подготовка исходных данных для борьбы с нашим подпольем на оккупированной территории.
– Федор Николаевич, – обратился Вячеслав Ильич к Белоконю, – наматывай на ус. Не примем действенных контрмер, и людей подставим под удар, и задание партии не выполним.
Белоконь, сделав заметку в блокноте, ответил:
– Надеюсь на Петра Ильича, он чекист опытный: подскажет, а уж мы его замыслы реализуем.
– Один в поле не воин, ему помогать надо.
– Это само собою: всех коммунистов и тех, кто считает себя беспартийными большевиками, поднимем на ноги.
– Какими возможностями мы располагаем? – обратился вновь к комиссару Вячеслав Ильич.
– Вначале, как вы помните, была наметка создать три группы, с тем чтобы каждая занималась разработкой своего вопроса. Этакая углубленная специализация. Но вы отсоветовали.
– Если у гитлеровцев всеми тремя проблемами занимается одна, пусть даже многочисленная, группа, значит, все три задачи как-то связаны одна с другой. Так что и наши силы не стоит дробить, иначе появится ненужный параллелизм.
– И все-таки пока у нас будут действовать две группы, – продолжал Борзов. – Почему? Этого требуют исходные данные. Отправным пунктом для группы «Есаул» избран лесистый район Северного Донбасса. Почему, к примеру, не Харьковская область? Там тоже леса, и там проходят не менее важные шоссейные дороги и железнодорожные магистрали. Видимо, на севере Донбасса у гитлеровцев есть какая-то база, какие-то люди, способные обеспечить прием десантной группы. Поисками в этом направлении будет заниматься группа полковника Дубова. Пока немногочисленная, но по мере надобности мы ее усилим специалистами разного рода. У себя в отделе мы разработали план для этой группы. Но, к сожалению, отправные данные слишком скупы.
– Но все-таки что-то есть? – поинтересовался Белоконь.
– Ниточка тянется в прошлое. В гитлеровском распоряжении упоминается резидент по кличке Переселенец… Когда-то Переселенец имел отношение к розентальскому делу.
Года за два перед войной нам удалось раскрыть небольшую прогерманскую группу «Дон» из Розенталя, которая пыталась наладить сбор военной информации. Главным осведомителем в этой группе была молодая жена одного из командиров танковых бригад. Формирование крупных бронетанковых частей в то время было новинкой в мировой военной стратегии. Гитлеровская разведка пыталась выяснить детали этого новшества. Применили древний и все же действенный способ – обычный шантаж. Смазливая молодая женщина, хорошо обеспеченная, изнывающая от безделья, «случайно» познакомилась с «талантливым ученым из Ленинграда, который приехал на побывку к родителям». Роль «соблазнителя» играл мелкий жулик Архип Кубченко, парень с хорошо развитыми бицепсами и редким нахальством. Произошла обычная для неравного брака история. Ей – двадцать три, мужу – за сорок. Никаких общих интересов. Все разное: вкусы, привычки, наклонности, внутренне чуждые друг другу.
Интимные встречи дамочки с «молодым ученым» были зафиксированы опытным фотографом. После этого жена комбрига стала проявлять к профессии мужа несвойственный ей ранее интерес. Запутавшись вконец, она покончила жизнь самоубийством. Но после нее остался дневник, в который она скрупулезно заносила подробности своей, в сущности, пустой и пошлой жизни. Довольно наблюдательная, закончившая три курса истфака, она оставила неплохой перечень примет, имен, адресов, в том числе подробное описание своего возлюбленного и его «родителей»: бывшего попа Пряхина, который после НЭПа переквалифицировался в парикмахера. Трагическая кончина соучастницы насторожила розентальцев. Некоторые сумели скрыться. Розентальцами занимался мой заместитель майор Яковлев.
– Не очень удачное дело, – вспомнил я. – Не размотали до конца клубок, взяли не всех и не главных.
– А вот я теперь об этом думаю чуточку иначе, – возразил Борзов. – Среди обнаруженных тогда нами документов имеется небольшая записка от руки. Писали ее, надо полагать, в спешке, на обрывке квитанции по приемке зерна от колхозов. Комиссар, недавно просматривавший документы, знал на память содержание перехваченной депеши: «Переселенец предупредил: за дочерью установлена слежка». Мы тогда так и не выяснили, кто такой Переселенец, розентальцы о своем резиденте ничего конкретного не знали. Но он или его агент использовал для записки квитанцию конторы «Заготзерно», где работал Кубченко, которому и была адресована записка. Ее принес парикмахер Пряхин, утверждавший позднее, что записку бросили в открытую форточку и постучали. «Кто принес?» – «Видел лишь со спины. Сутулится, а ноги кренделем, и шаркает». Все поведение парикмахера Пряхина во время процесса натолкнуло нас на мысль оставить этого человека на свободе в надежде, что Переселенец вновь выйдет на него.