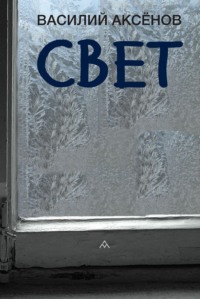Kitabı oxu: «Свет»
* * *
© В. И. Аксёнов, текст, 2025
© Фонд содействия развитию современной литературы «Люди и книги», макет, 2025
© А. Веселов, оформление, 2025
Часть первая
Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
Притч. 23:22
Когда ты станешь таким, каким тебя Бог задумал, ты увидишь то, что дано увидеть только тебе, и захочешь с нами поделиться… Твоей первой любовью был свет, и ты начал писать, чтобы показать это другим.
К. С. Льюис, Расторжение брака
Слова живы, наделены подлинным бытием и выводят человека в область прямого соприкосновения с именуемым.
А. Ф. Лосев
Я живу, чтобы свидетельствовать.
О. В. Волков
Свет в декабре
Из записанного мной тремя сутками ранее, в тот же день как я приехал к матери и подключился к интернету, который здесь, кстати, в «таёжной глухомани», совсем не тормозит (у сыновей подслушал это слово) – как стриж, стремительно летает (и это тоже). На самом деле. Что тут, в Сретенске, что в Петербурге – разницы не нахожу. Ну, это к слову.
А записал (из численника выписал) такое:
«22 декабря. Солнце: восход – 08:57; заход – 15:58; долгота дня – 07:00. Луна: заход – 03:22; восход – 13:09; фаза – 73 %; в знаке Тельца (05:54).
Александр, Анна, Василий, Владимир, Софрон».
Есть среди моих близко знакомых и многочисленных родственников Анны, Василии, имена распространённые, и Владимиры, и Александры. Поздравил с именинами, до кого дозвонился, с кем-то и связь уже утрачена, не отыскать, не выловить в эфире; из тех, кто, знаю, жив ещё, – ряды редеют год от году, знай номера из телефона удаляй, список контактов сокращая, не пополняя его новыми. Не удалил единственный, духу на это не хватает, как будто жду звонка – а вдруг! – и чтобы сразу распознать, увидев имя, и звонок не сбросить: «незнакомый».
Знакомый, Господи, до немоты, до острой боли, до отчаяния…
Софрона, точно, нет, а вот Софронов был. Первый мамин муж. Венчанный. Умер в двадцать три года от чахотки.
Чем его только не лечили, что только не пробовали, кто что подскажет, насоветует, всякими травами, барсучьим и медвежьим жиром; есть собачатину отказывался наотрез, как уж мы со свекровкой его ни упрашивали и ни уговаривали, а согласился бы, и до сих пор бы, может, жил.
(«Жил-то бы жил, но нас бы не было тогда, нас – пятерых твоих детей». – «И то, мол, правда»).
Белорус. Сам он родился в Сибири, а родители его прибыли в наши суровые чалдонские места из Витебской области по Столыпинской реформе.
«Вышла я замуж рано, на восемнадцатом году, мамы уже с нами не было, умерла, тятя с другой женщиной сошёлся в ссылке, с малыми на руках, тут и война, вот предложил мне ухажёр, а я взяла и согласилась, на фронт его не брали по болезне… Хорошие были люди, ничё не скажешь, и сам он, муж мой первый, и родители его, и дети все, было их шестеро, трудолюбивые, тихие, ни лаи матерной от них не услышишь, ни ругани в семье их не случалось, всё миром да ладом, как меж собой, так и с соседями, и на скотину не покрикивали, и к ней с лаской да с добрым словом, и та у них была послушной. Никого уж нет, все вывелись, кто по хвори тяжкой, кто по старости, а кто и с фронта не вернулся».
Внесён мамой печатными буквицами-закорючками, с безобидными ошибками – если уж разобрался я, для Господа и вовсе не задача, – в её потрёпанный от времени поминальник (школьная зелёная тетрадь в линейку) так: «Сиргей». Детей у них за три года совместной жизни – не говорила, по какой причине, из-за его, скорей всего, туберкулёза – не народилось. Помянула она его, своего первого безвременно ушедшего от неё в иной мир мужа, сегодня, вспомнила о нём, нет ли, и спрашивать не собираюсь. Сокровенно.
За мной не стало:
«Господи, помяни в Царствии Твоём раба Божьего Сергия, прости все его прегрешения, вольные и невольные, даруй ему Царствие Небесное…»
И вдруг опять подумалось, как укололо: «А не умри Сергей Софронов в молодости, и я на свет не появился бы, как и мои старшие брат и сёстры… Пути Господни».
Так и войне, Великой Отечественной, жизнью своей мы вроде как обязаны: а не случись она, и нас бы не было – наши отец и мать не повстречались бы.
Стоит войну благодарить… Разве так можно?
Пути Господни, повторю лишь. Мы уже ходим по назначенному.
В тетради шесть листов, остальные шесть когда-то были вырваны, скорей всего, на письма (стёкла в окнах, на Чистый четверг и на зиму, в фонарях «Летучая мышь» и лампах керосиновых газетой чистили обычно, тех был избыток, от «Пионерской Правды» до просто «Правды» и «Известий»). Писала она, мама, только нам, своим детям, больше никому, с другими родственниками переписку вёл отец – открытки, в основном по праздникам: с Новым годом, Днём Победы и с очередной годовщиной Великой Октябрьской революции, – других праздников, божественных, для отца не существовало – «бабьи сказки, поповский обман, чтобы помыкать такими вот, вроде тебя (мама), было легче, ездить на вас, на дураках, ведь всё понятно, вот только вам никак это не вдолбишь, это же надо быть такими безмозглыми, как курица, – в чушь несусветную поверить».
У неё, у мамы, ни одного класса образования, безграмотная, читать, считать и писать самостоятельно выучилась, на пасеке, когда работала помощницей у пчеловода, подростком, буквы и цифры ей «показывал и объяснял сам пасечник, старик-татарин», – в школу, как кулацкую дочь, её не принимали, и на порог-то школы не пускали, «а так хотелось, аж до рёву», – у него, у отца, всё же четыре класса в багаже, пусть и оконченных заочно. Грамотный.
Первые три листа – «за здравие», где есть и я, другие три – «за упокой».
«А отец-то? – спросил я её однажды (был он, отец, и в „за здравие“, после в „за упокой“ переместился, а в „за здравие“ вычеркнут химическим карандашом; много прибывших в „за упокой“, только вчера заглядывал я в поминальник, ну и выбывших, конечно, из „за здравие“). – Он же не верующий, атеист». «Так и чё с того, Ванюха, что не верущий, мало ли, кто каким себя объявит, – ответила она. – Бога-то это разве отменяет?.. Крещён же был, когда родился. Тогда и имя получил. Раньше младенцев всех крестили. Не покрести – судачить станут, осуждать: мол, на погибель детку обрекли, не на спасение, так же нельзя. Сам со стыдом, но признавался: было, мол, было, будь оно неладно, разрешения у меня, дескать, когда понесли к попу в церковь, не спрашивали. А отказался бы? – спрошу. Ну неужели б нет, конечно, – скажет. Крестика, ладанки он не носил, как с ним сошлись, на нём не видывала. Там партбилет всё заменял, какой уж крестик. Но туда-то, на тот свет, явишься, в момент от атеистов-коммунистов на другую лавку, к „дуракам безмозглым“ ближе, перескочишь… И бесы, как говорят, веруют и трепещут, да и не веруют, а знают, им там, не нам чета, виднее».
Это сказав, и улыбнётся: и не губами, а глазами – те мягким светом озарятся.
Ох, мама, мама.
И я всё чаще, вдруг подумал, молиться стал и подавать «за упокой» записки.
Мама сказала бы: «На этом мир стоит». Стоит, стоит, и нам его не опрокинуть.
Тут, правда, так: как постараться…
– С вашим отцом, какое уж венчание – коммунист на всю голову – и заикнуться не посмей. Испепелит. И не словами, так глазами. Да и время было не до венчаний, и где – в церкве солярка и мазута всякая, трактора да машины в ней, бывшей, ремонтировали, дизель стоял там электрический. Как её ангел омрачался, представить страшно, он же её и в бедствии не покидал, и будет там, когда и стены упадут: престол не может оставлять, если назначен, престол-то вечен, раньше так старики всё говорили: церковь сгорела, а престол стоит, при нём и ангел пребывает… Ну вот. Такую жизнь с отцом прожили – терпение нас, милые вы мои, повенчало, и худое до мелочи помню, не забыть, и доброе из памяти не вытравилось. А всё равно жила я за ним, отцом вашим, хоть и с крутым, с тяжёлым был характером, но человеком честным и прямым, можно немного было бы и подкривить, – как за высокой каменной оградой; умер он, мой хозяин, – и ограда рухнула, всем ветрам сразу подставилась, будто всю одёжку с меня, как лист по осени с берёзы, сдёрнуло, сердце и душу оголило – обындевели, вряд ли уже и оттают. И доживай теперь как знаешь, и помирай сам по себе, да и ни с кем, оно понятно, под ручку не отправишься в могилу, все пораздельно… разве что в братскую – туда уж скопом.
– Мама, а мы?
– Ну, вы ещё вот у меня, оно и ладно… Не бросаете старуху, слава Богу, и вам зачтётся… родителей-то если почитаешь. Не я придумала, а по Писанию. Оно и в жизни подтверждается. На вас мне жаловаться грех. А у других… и в инвалидку сдать готовы. Да и сдают, сколь вон примеров. Сдали, как вещь какую на хранение, да и забыли. Чужие люди пусть заботятся. Чужим-то надо?.. С глаз долой, как говорится, из сердца вон. Кому глядеть на старых-то охота – с тоски усохнешь, от них и запах – не цветы… да и ворчливые не в меру, тихо сказал ему – не так, громче сказал, он уж обиделся: чё на меня, дескать, кричишь… А что и сами, придёт время, одряхлеют и оглохнут, не допускают, малоумые. Не объяснил ли им никто… Думают, вечно будут молодыми, глупые.
«Да-а, – иной раз вздохнёт, глядя на меня, продолжительно, – старость не радость, парень, молодость не жизнь», – и улыбнётся.
Про старость пока ничего не скажу, её пока не ощущаю, а вот про молодость – туда вернуться не хотелось бы. Разве на часик, на другой, и то в конкретные места, в определённые моменты. Много и тех, конечно, наберётся – минут счастливых. Но те и так во мне живут, без возвращения куда-то. В любой момент, как в омут, можно окунуться. Не утонуть бы, задержавшись в нём, не задохнуться…
Вот и слукавил я нечаянно. Вернулся бы. Ладно, не сбегать с ружьём на охоту по первому снегу, на глухаря, на косача или на рябчика, весной на утку перелётную, гуся, но порыбачить. В те добрые времена, когда хвойный лес по берегам речек в наших местах не был ещё похабно вырублен, речки были полноводнее, вода была в них ледяная, и рыбы в них непуганой водилось много, рыбы не «сорной» – «красной, благородной». Вернулся бы туда, снасти свои теперешние прихватив, уловистые. Смешно сказать, рыболовных принадлежностей всяческих, как отечественных, так и заморских, у меня становится всё больше, и магазины рыболовные забиты ими, а ловить скоро будет некого.
Отец наш на охоту изредка ходил, на боровую птицу, но с удочкой на речке я его не видел, представить даже не могу. Не в пример ему были евангелисты.
Отец
«7 февраля 1885 года; жених: 1-го Восточно-Сибирского линейного батальона Митрофаний Гаврилович Коробейников, православного вероисповедания, первым браком, 28 лет; невеста: села Мангазейского крестьянина Варфоломея Яковлевича Лапшина дочь, девица Васса, православного вероисповедания, первым браком, 22 года; поручители: села Мангазейского крестьяне Терентий Гаврилович Коробейников, Андрей Зверев, по невесте села Мангазейского крестьяне Иван Варфоломеевич Лапшин, Никандр Иванович Черепанов.
26 февраля 1889 года; имя: Евдокия; родители: уволенный в запас армии рядовой Митрофан Гаврилович Коробейников и законная жена его Васса Варфоломеевна, оба православные; восприемники (крестные родители): села Мангазейского крестьянин Яков Капитонович Черепанов и крестьянская жена Наталья Варфоломеевна Шадрина.
30 января 1911 года; жених: села Мангазейского крестьянин Павел Григорьевич Арефьев, православного вероисповедания, первым браком, 24 года; невеста: села Мангазейского солдатская дочь Евдокия Митрофановна Коробейникова, православного вероисповедания, первым браком, 21 год; поручители: села Мангазейского крестьяне Дмитрий Васильевич Черепанов и Афанасий Андреевич Черепанов, по невесте Иван Архипович Аксенов и Василий Иванович Черепанов.
18 октября 1912 года; имя: Иоанн; родители: села Мангазейского крестьянин Павел Григорьевич Арефьев и законная жена его Евдокия Митрофановна, оба православного вероисповедания; восприемники: села Мангазейского крестьянин Филипп Дмитриевич Аксенов и крестьянская дочь Мария Федоровна Аксенова».
Ну а я вот, так уж история распорядилась, по Промыслу ли Божьему, один из продолжателей рода, Иван Иванович Арефьев.
С некоторых пор, при живом ещё, но уже незрячем отце, на тумбочке возле маминой кровати, у изголовья, лежит обычно развёрнутое Евангелие, закладкой – яркая новогодняя открытка советского ещё образца с завьюженным, красноносым и добродушным, словно чуть уже подвыпившим, Дедом Морозом в резных санях, с мешком подарков. Судя по почерку, Никита присылал. Ещё из армии, судя по году. Открытке много лет. Столько же лет закладкой, помню, служит.
По слогам, вслух, читает, слышу, мама:
«В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему; было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился учению Его».
Ну вот, думаю.
– Веки слипаются, в глазах темнеет, – говорит мама. Снимает очки с бельевой резинкой вместо дужек, с толстыми, не протёртыми линзами, с чёткими на них жирными отпечатками пальцев, кладёт их рядом с Евангелием. Одни на двоих с отцом у них были эти очки, по очереди ими пользовались. Просматривал в них отец обязательные «Известия» и «Правду», не обязательный «Труд», а мама шила в них и по вечерам читала вслух и с выражением первоклассника «Хмель», «Вечный зов», «Коня рыжего», «Половодье» или «Тихий Дон», отец при этом слушал, затаив дыхание; муха, назойливо жужжа, летала б рядом, её убил бы – чтобы не мешала. Теперь на тумбочке возле маминой кровати лежат только Евангелие и Псалтирь, другие книги слушать некому. – Ты почитаешь после мне?
– Конечно.
– Может, вздремну, еслив получится. Толком давно уже не высыпалась, – говорит мама. – Всё чё-то в голову и лезет, будто в посудину пустую, всё будто кто-то в ней бормочет, расположился, ну а о чём, не разберу. Да когда тихо-то, так полбеды, то закричат – становится не по себе. Не дай, Господи, лютому врагу человеческому застращать меня грешную, ума-то чтобы не лишиться… безумной страшно уходить.
– А есть он, ум-то, был когда-то?
– Вспомнил отца, он так всегда.
– А как забудешь?
– Не забыть.
– Давай давление померим.
– Какое есть, чё его мерить, – говорит мама. – Придумал кто-то же – давление, раньше не знали про такое, и люди жили… Суп в холодильнике, сам знаешь, овощной, проголодаешься – согреешь. Найдёшь?
– Найду.
– Ну, хорошо… Хочешь смотреть, так телевизор-то включай, он не мешает мне, глухой… можешь хоть в колокол тут бить или на тракторе по дому ездить, когда усну-то, мне хоть чё тут.
– Пока не буду. Насмотрелся.
– Как знаешь, – говорит мама. И говорит: – Рот разрывается – зеваю, спать соберусь – и ни в одном глазу, ты тут хоть тресни.
– Считай слонов.
– Лучше коров уж… или куриц, эти мне ближе, – сказала так, заулыбалась. – Этих представить хоть могу. Слонов не надо. Их испугаюсь, вовсе не усну.
– Считай коров.
– Собьюсь на первой. Всех вспоминать начну, какие у нас были, стану жалеть – расстроюсь. Лучше куриц.
– Можно ворон.
– Да ну их, шумных. И сосчитай их – не сидят на месте.
Мне хорошо всегда с ней было. С мамой. И по душам поговорить, и помолчать. И затаённым бабьим летом в лес вдвоём сходить – за клюквой, за брусникой, за калиной. «Для морсу, от простуды, и на шаньги, и между рам оконных в зиму яркие ягоды положить – для красоты». И песню спеть с ней. Всем остальным в нашей семье медведь на ухо наступил – отцу, Никите, да и сёстрам. И мне казалось, что она, мама, мысли иногда мои читает. Только подумаю что-то спросить, она мне тут же отвечает, а я и рта ещё не открывал. Никита как-то мне сказал: «Вы на одну волну настроены с ней». Может, и так. «На длинную, на среднюю или короткую?» – «Какая там у вас, не знаю».
С отцом не ладили. Мир нас не брал. Тогда. Сейчас: ох, как его мне не хватает. Исправил многое бы. Но… И больше слушал бы, и чаще был бы с ним, вопросов больше задавал бы, не выставлял бы напоказ своё всезнайство. Что же он думал обо мне?.. Понятно. Я то же самое могу сейчас подумать о себе тогдашнем: самоуверенный, самовлюблённый дурень. Стыдно. Стыдно перед собой, перед отцом. А если стыдно перед ним, значит, он есть, не только был. Перед ничем-никем бывает разве стыдно?..
Всё надо делать в своё время. Прежде всего – простая вроде истина – любить.
– И ты ложись.
– Да ещё рано.
– Нам, старикам-то, всё пора. Спалось бы только… с этим горе.
– Плед сверху, – спрашиваю, – положить?
– Пока не надо… и без того наздёвано на мне, как на купчихе, – отвечает, – будто не спать – в ямщину собралась. В ямщину, в ту поехать легче, чем тут уснуть. Вот где беда-то.
Евангелие то же. Без корочек. Дореволюционного издания. Страницы с тёмными и загнутыми от бесчисленного перелистывания уголками.
Вспомнил.
Отец, вернувшись из командировки, краткосрочной или длительной – и по три месяца отсутствовал, случалось, счастливейшее время было для нас с братом, – когда трезвый, когда выпивший, служебный ТТ, в кобуре, но без портупеи и ремня, клал, как правило, под свою подушку. Ремень вешал медной пряжкой на вбитый в стену гвоздь, возле входной двери. Чтобы всегда был под рукой. Или правил, обычно перед баней, сдвинув брови, сомкнув плотно и сжав их зубами по привычке, губы, об него опасную бритву «Золинген», привезённую им с фронта, или применял экстренно как воспитательное и отлично действующее средство для меня и для Никиты – и по делу, зарабатывали, не без этого, и так, впрок. Теперь смешно, ну а тогда… я, помню, плакал от обиды, Никита – тот лишь кулаки сжимал и зубы стискивал. Мама в комод с постельным бельём убирала от отца, «чтобы не взбеленился и не сжёг, если не в духе», небольшой картонный образок Богородицы с Младенцем и Евангелие: в комоде отец ничего не терял и не заглядывал в него. Когда он уходил из дому – в сельсовет, на партсобрание, по вызову на какое-то правонарушение, драки семейные, к примеру, разнимать, где муж жену побьёт, где поколотит та его, унять ли разбуянившегося дебошира в чайной, на улице или в клубе, – мы с Никитой доставали из-под подушки на аккуратно заправленной родительской постели «Тульский Токарев», самозарядный, и целились по очереди в разные предметы: паф, паф! – без промаху, конечно. Магазина в пистолете, слава богу, не было, прятал его отец предусмотрительно где-то отдельно, и отыскать его у нас не получалось, хоть и пытались, разумеется. Не там искали. Засовывал магазин, как позже стало нам известно, отец за репродукцию «Три медведя», висевшую в спальне родителей, или за портрет писателя Николая Васильевича Гоголя, висевший в спальне же слева от большого настенного зеркала с незапамятных времён. Справа от зеркала красовался портрет наркома Климента Ефремовича Ворошилова, за который отец магазин почему-то не прятал. Откуда эти портреты появились у нас, не знаю. Вроде как в сельмаге раньше продавались чёрно-белые репродукции не только пейзажей, но и портретов учёных, писателей, композиторов и иных знаменитостей. В дошкольном детстве я считал, что это наши родственники, разбросанные по всему нашему обширному краю и в Сретенск к нам в гости ни разу не приезжавшие. Зато из винтовок, ТОЗ–8 и ТОЗ–16, хранившихся в не закрывающейся на замок кладовке, палили мы в слуховое окно сарая или с крыши дома, укрывшись в нависших над крышей ветвях старой берёзы, налево и направо. Патроны мелкокалиберные в том же магазине отпускали вразвес, и купить их мог каждый, даже мы. Шишки сосновые в лесу в мешок насобирал, леснику сдал, деньги получил – и за покупкой. Чудо и счастье наше – никого, Бог миловал и нас, и наших родителей, и возможную жертву, кроме сорок, ворон и воробьёв, не подстрелили. Тогда нет, теперь вот и их, безвинных птиц, пусть и вредных, вороватых и назойливых, пусть и с большим запозданием, оплакиваю. А вот Евангелия, хорошо о нём осведомлённые, мы не касались. И от отца хранили эту тайну. Тот нас, конечно, и не спрашивал.
Да. Позже, немного повзрослев, ходили мы с этими винтовками – отец уже нам разрешал – и на охоту. Я – с ТОЗ–16, она полегче, мне было лет четырнадцать-пятнадцать, брат – с ТОЗ–8. Никита старше меня на три года. И добывали, домой пустыми редко возвращались. Не только рябчиков – и глухарей, и косачей, гусей и уток. Дичи тогда, как во дворе, полным-полно окрест водилось.
Мать
«1862 г. родился 23 октября, крещён 23 октября незаконнорождённый Димитрий Селивановой деревни Бельской волости у крестьянской дочери девицы Марфы Макаровой Турпановой, православной. Восприемники: Селивановой деревни крестьянин Онисифор Абрамов Касьянов и крестьянская дочь девица Зоя Макарова Турпанова. У Димитрия родилось четыре сына – Яков, Григорий, Василий и Макей, дочь Наталья. У Макея Дмитриевича Турпанова и Русаковой Анастасии Амвросиевны родились: Матрёна, Наталья, Васса, Анна, Елена, Иван, Полина, Пётр».
Елена Макеевна Арефьева, в девичестве Турпанова, моя мать.
Фамилия отца «незаконнорождённого» Димитрия не установлена. По семейной легенде, был он ссыльным поляком.
Отмечать водкой, вином ли самую короткую ночь с мамой не станем. Она мне не компаньон. За всю свою долгую жизнь стопку красенького, может, и выпила, как признаётся, ну а белого – ни капли. Не пила, дескать, и начинать не стоит. А то сопьюсь ещё на старости, мол, – шутит – позору будет мне и вам.
А я и выпил бы. Да, кроме чая и воды кемской, сырой или кипячёной, нечего. Привозил, когда я приехал, а он ещё не уехал в командировку, Никита литровую бутылку водки «Седая Ислень», тем же вечером мы с ним её и уговорили. Под укоризненные взгляды мамины: мол, ая-яй, не налегайте, – и под пельмени магазинные. За приезд мой и за встречу.
С мамой позже мы и почаёвничаем. Я буду пить пустой и крепкий, как его, этот-то, чифир, по маминому определению, она – с мёдом с жёлтого цветка, осоту и шишки, янтарно-зелёным, жиденький, забеленный томлёным, с пенкой, молоком – позволяет себе, хоть и пост. Посудачим с ней о том о сём. Не радость ли?
Пошёл на кухню, помыл линзы маминых очков тёплой водой, протёр вафельным полотенцем, вернул их на тумбочку.
Мама, в шерстяном коричневом платке, лежит на правом боку, лицом к камину, с закрытыми глазами, укрывшись одеялом под самый подбородок. Задремала, нет ли, не пойму.
И вспомнились слова её: «Что малый, что старый – одно несчастье».
Сердце моё сжимается… от нежности к ней, от любви. И от бессилия – годов ей не убавишь и сил своих не передашь.
Красивой женщиной была, теперь красивая старуха. Не молодится, по-христиански с возрастом своим мирится, живёт в согласии с ним, только на немощь жалуясь порой, и то с улыбкой, – когда нет сил на то, что раньше сделала б легко: дров наколоть, когда нет рядом мужиков, вскопать землю под гряды и засеять их, на покос сходить, сбегать за ягодой ли, за грибами. Очень хотелось бы посмотреть, как она выглядела раньше, в детстве и в юности. Нет фотографий, к сожалению, не уцелели, при той-то жизни трудно было сохранить. Может, когда-нибудь увижу. Чем хуже Вечность интернета, в ней всё хранится, без утрат, в ней жёсткий диск не рассыпается.
Сын
Святая блаженная Ксения, моли Бога о рабе Божием Василии, земляке твоём, Царствие Небесное…
Пять лет набухшей, безысходной и неубывающей печали. Будто луна вступила в полную фазу, почти как нынче, так и застыла, убывать не собирается.
Словно о сердце кошка точит когти, и не одна, а набежали дикой стаей, со всех сторон его скребут, боль не унять – она сбивает сердце с ритма. Душу тоска гнетёт – нудно та унывает, горестно грешит. И сил в себе не нахожу, чтобы исправить этот грех, эту «ошибку». Лишь до отчаяния себя не допускаю. Возможно, чьими-то молитвами. Сам бы давно уже сломался. Но что-то держит. Или – Кто-то. Благодарить? Не позволяет малодушие, и как – не знаю, кто бы подсказал. И заставлять себя приходится, чтобы сказать: Спасибо, Господи, за всё. И тут же кто-то на ухо зашепчет мне: что, и за это?! Господи, помилуй.
Когда-то собирался, отложил уже в очередь на рабочем столе, после «Божественной комедии» и «Посмертных записок Пиквикского клуба», перечитать «Солнце мёртвых» Ивана Сергеевича Шмелёва, теперь уверен: перечитывать не стану. Сердце дорвать до последнего вздоха… А вот два письма Ивана Александровича Ильина – «О смерти» и «О бессмертии» – у меня в компьютерных закладках. То и дело открываю и перечитываю. И 1-е послание святого апостола Павла к Коринфянам… «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею»… И первое послание к Фессалоникийцам… «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды»… И Книгу пророка Иезекииля… «Сын человеческий! Оживут ли кости сии?» – «Господи, Боже, Ты знаешь это!» И тут закладка – старый конверт АВИА, с трогательным маминым письмом мне на флот – на 37-й главе.
«Здрастуй (так!), сынок мой дорогой, Ванюха милый!» Это в письме том.
Здравствуй, мама.
Двадцать пятое декабря.
Спиридон Солноворот.
Долгота дня 07:01. Восход солнца 08:58. Заход – 16:00. Луна растёт. В знаке Близнецов. Заход – 07:54, восход – 13:59. Фаза – 95 %. Именины – Александр, Спиридон.
Католическое Рождество.
Не отмечаем. Православные. Ни одного католика у нас в Сретенске нет, разве кто скрытый, спящий. Были когда-то, среди ссыльных и военнопленных. Помню таких – немцы с Поволжья, несколько семей. Вывелись. Кто-то совсем уже осибирился, переженившись с местными, кто-то в Германию уехал. И возвратились многие, но уже в город – кто в Елисейск, кто в Маклаково. И нет у меня лично знакомого католика. Где бы то ни было. Ни одного. Так что и некого поздравить. А в целом, все католики мира и без моих поздравлений обойдутся. И в Кремле, как сообщил ровно год назад пресс-секретарь нашего лидера, протокольной практики поздравления глав западных стран с католическим Рождеством в России нет. Ну, у меня тем более – ни протокольной практики и ни житейской.
И протестантов заносило в Сретенск историческими сквозняками, и мусульман, даже китайцев – здесь по ручьям и малым речкам они мыли раньше золото, добираясь пешком из Китая, здесь кое-кто из них и оседал, если в тайге был не убит и не ограблен, распятый на шесте, – и буддистов калмыков – во время Великой Отечественной войны, операция «Улусы», – и эти тут не задержались. Кого-то климат тут извёл, кого-то выжил с наших мест, слишком суровый. Селиться стали кержаки, семейства три уже заехали. Как и огнём, их и морозами не испугаешь. Со времён Петра Великого, убегая от него, Антихриста, лесами да болотами, по приисленьской тайге от скита к скиту перемещались, и освоились, или, сказать иначе, их же словом: обнатурились. Народ упрямый, не сломить, пусть не такой уже и стойкий, как страстотерпец Аввакум и его верные сподвижники.
Спиридон Тримифунтский.
Почитается во всём христианском мире наравне с Николаем Чудотворцем. Даже свирепые османы, покорившие Грецию, благоговейно ходили в храм, в котором некогда служил святитель, и омывались водой из бьющего здесь источника.
Слышу: мама (так и не уснула, значит) шепчет – глуховатая, переболела менингитом, давшим осложнение, перенесла когда-то операцию на среднем ухе, «страшно и вспомнить, кость в голове долбили, будто в дереве, как только там, на том столе, и не скончалась. Вас, малых, жалко было оставлять, молилась крепко, внял Господь», – шепчет громко, потому и слышу:
– О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей…
Отвернулась, наверное, от камина к стене (кровать скрипела) – дальше не разберу, что она шепчет, и сам заканчиваю вслух:
– Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Заглянул в ноутбук. Выбрал из множества собранных кем-то в единый список некоторые события, случившиеся в этот день в разные века и годы в мире:
25 декабря 800 – коронация Карла Великого титулом «император Запада» в Риме.
25 декабря 1492 – на острове Эспаньола Колумбом основано первое в Новом Свете поселение – Ла-Навидад.
25 декабря 1759 – в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твёрдую ртуть.
25 декабря 1917 – провозглашена Советская власть на Украине.
25 декабря 1946 – в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
25 декабря 1979 – на экраны вышел музыкальный приключенческий фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра» режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича.
25 декабря 1979 – начало ввода советских войск в Афганистан.
25 декабря 1991 – отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР.
25 декабря 2010 – начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.
25 декабря 2016 – катастрофа Ту–154 под Сочи. Погибло 92 человека.
События. События. События. Были и прошли. И были ли? Были, наверное, раз зафиксированы. История. Её мгновения, великие, трагические или рядовые. И были где-то. А ты тут. Это как будто так – будто стоишь ты в глубине материка в густом лесу и видишь лишь стволы деревьев, а там, в Мировом Океане (и допустимо – в Океане Времени) курсируют в разных направлениях, дрейфуют, отклоняясь от курса, баржи, которых ты не видишь, даже, не видя, и не думаешь о них, судёнышки всякие, корабли, торговые или военные, вплоть до подводных лодок, но к тебе никогда они не подойдут, рядом не пришвартуются и не возьмут тебя на борт.
Ну не возьмут и не возьмут, тебе и дела нет до этого. Ну, было – было. Там – во Времени. А тут прямо перед тобой пульсирует Вечность.
Вечер. Окно в ледяных кружевах. Небо за окном в плотной изморози. Тёмный, почти неразличимый, хоть и заснеженный, ельник. Не знал бы я о нём, и ни за что не догадался бы, что есть он рядом, окруживший от невзгод село. И угасающая почти столетняя мать. Та уж и вовсе пред Вратами. В прошлом августе исполнилось ей девяносто девять, не за горами и столетие. Я у родителей поздний. Все они, Турпановы, за редким исключением, долгожители. Наталья Дмитриевна, в замужестве Захарьева, мамина родная тётка по отцу, прожила до ста четырёх лет. И отошла в телесной немощи, но в ясной памяти и в чистом разуме. Я её помню. Нитку в иголку при мне как-то, неделю гостила у нас, без очков вдёргивала, ко мне за помощью не стала обращаться. «Далёко-то, – говорила, – и за версту вижу, как коршан, отменно, а вот поближе что – уже не шибко». Любому так бы, в сто-то лет.