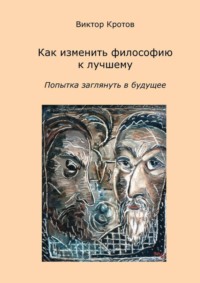Kitabı oxu: «Как изменить философию к лучшему. Попытка заглянуть в будущее»
Валерий Всеволодович Каптерев Художник
© Виктор Гаврилович Кротов, 2019
ISBN 978-5-0050-7693-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
На обложке: картина Валерия Каптерева:
«Восточные мудрецы, рассуждающие о вреде атома».
Предисловие
Хотя я давно хотел выразить своё отношение к современному состоянию философии как части общечеловеческой культуры, но не думал, что буду специально писать об этом. Мне казалось достаточным выражать собственные философские представления и дать им самим выяснять отношение к общепринятой философии.
Но неожиданно мне пришёл вызов, который я не мог не принять. Это было некоторое побуждение от моего друга, профессора философии, принять участие в конкурсе, объявленном Институтом философии Российской академии наук. Ни в каких конкурсах я никогда не участвовал, но тут неожиданная тема этого конкурса показалась мне возможность высказать накипевшее.
Результат участия в конкурсе был для меня в любом случае выигрышным. Либо на мою работу обратят внимание (что было бы настолько забавно-парадоксальным, что оправдывало бы все затраченные усилия), либо её полностью проигнорируют (что, с моей точки зрения, очевидным образом подтверждало бы изложенное здесь восприятие современной философии). Надо ли уточнять, что результат оказался выигрышным именно во втором смысле!..
Теперь я могу опубликовать представленную работу просто как самостоятельную книгу – в надежде, что вне академических философских рамок она рано или поздно найдёт читателей, которым изложенные здесь позиции будут близки или просто любопытны.
Далее привожу текст, представленный на конкурс.
Как изменить философию
к лучшему
Вступление
«О пользе и вреде философии для жизни»… Что-то похожее на конкурс дижонской академии «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов», положивший начало активной философской деятельности для его победителя: ещё неизвестного тогда Жан-Жака Руссо.
Тема, невозможная у нас ещё тридцать лет назад. Может быть, лет через тридцать такие темы станут обычными для поступающих в институт – причём на любую специальность. Ну, если не через тридцать, то хотя бы через триста…
Наверное, размышления о пользе и вреде философии для жизни могут многое дать сегодняшней философии. Спасибо инициаторам конкурса за эту смелую попытку!
Необходимое уточнение темы
Чтобы не уклоняться от предложенной темы, но вместе с тем придать ей более созидательное звучание, можно было бы сформулировать название этой работы примерно так: «Какой должна быть философия, чтобы приносить больше пользы и меньше вреда?». Но ещё конструктивнее будет следующая формулировка: «Как изменить философию, чтобы пользы от неё было больше, а вреда меньше.
Вместе с тем необходимо ещё одно уточнение, относящееся к целевой аудитории философской деятельности: «Как изменить философию, чтобы от неё было больше пользы и меньше вреда для обычного конкретного человека». Эпитет «конкретный» позволяет нам ориентироваться на реальных людей, а не на абстрактного «человека как представителя человечества». Эпитет «обычный» подчёркивает уход от того, чтобы польза и вред оценивались только для представителей сложившегося философского сообщества. В этом случае критерии были бы несколько иными, затрудняющими свободный подход к роли философии для общечеловеческой культуры.
Принимая во внимание все эти пояснения, можно использовать и более краткое название: «Как изменить философию к лучшему».
Раздел 1 Основные беды философии
Рискованно говорить о недостаточно продуктивных для человечества путях философии как о её бедах. Это не совсем справедливо, потому что даже не слишком плодотворные направления мысли – это результат необходимой для мышления поисковой активности.
Такая сознательно обострённая формулировка названия раздела выбрана здесь лишь как способ сигнализации о проблемных свойствах современной философии, которые вредят и ей самой, и человечеству, к которому она обращается.
То, что названо бедами, можно было бы назвать вполне обтекаемо: проблемами. Но как тогда отличать их от тех содержательных проблем, которые призвана решать философия?
При всей личной приверженности к философии как к сокровищнице смыслов, к оживлённой человеческой ярмарке идей, как к деятельности по увязыванию фактов с их первоосновой, как к работе по миросозерцанию и миропониманию, создающей мировоззрение, – автор считает необходимым высказать некоторые критические замечания в адрес современной философской парадигмы.
1.1. Представление о разуме
Самая неприметная из бед, наверное, – это неустоявшееся отношение философии к разуму. К тому, чем ей самой неминуемо приходится пользоваться.
Может быть, философия должна не осмысливать разум путём построения тех или иных теорий его происхождения и функционирования, а признать его как единственный способ осмысления всего, с чем мы имеем дело. Как главное средство, которое можно использовать для постижения жизни.
Многие другие реалии человеческого сознания, относящиеся к восприятию как внутреннего, так и внешнего мира, снабжают нас богатым и разнообразным материалом, но всё философское осмысление жизни осуществляется только разумом.
Поэтому важно осознавать, что представление о разуме должно учитывать наличие как функций разума, принципиально отличающихся друг от друга. С одной стороны, это рационально-логическое, аналитическое, выстраивающее мышление, а с другой – мышление интуитивно-образное, символическое, улавливающее. Для простоты будем говорить сокращённо о и сторонах мышления. двух основных составляющих мышления выстраивающей улавливающей
К сожалению, неустоявшееся отношение к разуму чаще всего проявляется в преимущественном внимании к выстраивающему мышлению, тогда как улавливающее остаётся его бедным родственником. Его порою даже не относят к самому разуму, дробя на различные дополнительные свойства сознания.
Но прислушаемся к Мартину Хайдеггеру:
Вместе с тем отдельные проявления разума часто отождествляют с ним самим. Так бывает с представлениями об интеллекте (аналитической способности видеть и показывать взаимозависимость фактов, основанной на памяти и эрудиции), о рассудке (естественной способности понимать то, что тебя касается), об уме (мышлении, направленном на определённую тематику проблем или на конкретную сферу существования), о здравом смысле (житейски-прагматичном приложении разума), о логике (использованию в рассуждениях особых критериев убедительности, соответствующих окружению и эпохе).
Каждый из таких «синонимов» разума может принести как пользу (если применять его уместным образом), так и вред (если отождествлять его с разумом в целом).
«Чего только не доказывали и не выдавали за доказанное в философии – и что же? Как вообще обстоит дело с доказательством? Что, собственно, доказуемо? Возможно, доказуемо всегда по существу только маловажное. Возможно, то, что поддаётся и соответственно подлежит доказательству, мало чего стоит» ([8], стр. 337).
1.2. Любовь к мудрости
и научная философия
Серьёзная и довольно очевидная беда: стремление философии уподобиться науке.
Оценить эту беду можно и с точки зрения неофита, не забывшего ещё зов того изначального смысла, который сберегла для нас этимология слова «философия», и с точки зрения обычного человека, пугающегося и сторонящегося современных «философских наук», и с точки зрения профессионального философа, нашедшего мужество взглянуть на современную философскую стилистику непредвзятым взглядом.
Вот что говорит об этом Николай Бердяев:
Не менее критично относится к обозначенной беде и Хайдеггер:
Философское наукообразие оказывает своего рода минерализующее воздействие на живые, по сути, открытия мыслителей прошлого. Эти открытия превращаются в некие артефакты, в клише, которыми удобно пользоваться, не совершая вместе с автором непростого путешествия в неизведанные ещё смысловые лабиринты. Жонглируя этими клише в своих рассужденческих целях, можно забыть о той творческой отваге, которая требуется сегодня от тебя, чтобы совершать собственные открытия, рискуя потерпеть неудачу.
Эта беда философии вредна не сама по себе, а тем, что пригашает её стремление к дерзновенным поискам и находкам, которые прежде всего и имеют ценность для развития человека и человечества.
«Не во тьме мы поднимаемся по лестнице познания. Научное познание поднимается по тёмной лестнице и освещает постепенно каждую ступень. Оно не знает, к чему придёт на вершине лестницы, в нём нет солнечного света, смысла, Логоса, освещающего путь сверху» ([1], стр. 42).
«Наука – предмет вечного вожделения философии. Философы не смеют быть самими собою, они хотят во всём походить на учёных, во всём подражать учёным. Философы верят в науку больше, чем в философию, сомневаются в себе и в своём деле, и сомнения эти возводят в принцип. Философы верят в познание лишь потому, что существует факт науки: по аналогии с наукой готовы они верить и в философское познание» ([1], стр. 47).
«Философское сознание вечно замутнено и закутано ложным, призрачным стремлением к научности, к идеалам и критериям области, чуждой философии, – этим вековым рабством философии у чужого господина». ([1], стр. 48).
«Философия гонима страхом потерять престиж и уважение, если она не будет наукой… Люди подходят к мысли с негодной для неё меркой. Мерить ею – всё равно что пытаться понять природу и способности рыбы судя по тому, сколько времени она в состоянии прожить на суше. Давно уже, слишком давно мысль сидит на сухой отмели. Уместно ли тогда называть „иррационализмом“ попытки снова вернуть мысль её стихии?». ([2], стр. 193).
1.3. Все ли философы – мыслители?
Считать ли конкретного философа мыслителем зависит от того, кого так называть. С философским профессионализмом проще: его принято удостоверять дипломами, званиями, публикациями, индексами цитируемости и т.п., а вот «мыслитель» понятие расплывчатое, с точки зрения философского сообщества. Можно считать, что мыслитель – просто почётное звание для авторитета, упроченного в общественном мнении. Но даже в этом понимании не каждый философ-по-профессии окажется мыслителем. Если же считать (и это естественнее), что мыслитель – это человек-прожектор, высвечивающий для себя и для человечества наиболее важные постижения… Увы, тогда доля философов, к которым это применимо, вообще окажется довольно мала.
Стилистика подражания науке соблазняет философов, не расположенных к прорывному мировоззренческому мышлению, делать карьеру в философской области за счёт использования методов, принятых в науке. Такие методы, вполне пригодные для научных исследований, если применить их к анализу не самых главных проблем человеческой жизни (потому что самые главные таким путём не решить), если подкрепить выводы ссылками на авторитетные источники, а также соблюдать другие правила игры, выглядят достаточно респектабельно. Они могут успешно вписываться в «научно-философскую» деятельность, несмотря на отсутствие особых поводов называть того, кто их использует, самобытным мыслителем.
Быть философом и не быть мыслителем – в этом нет ничего парадоксального или унизительного. Философ может быть систематизатором, популяризатором, историком, педагогом, психологом, не обязательно выходя на прорывные для философского мышления открытия. Каждый на своём месте может способствовать развитию философии.
Однако, если говорить о философии как сфере культуры человечества, то она нуждается, прежде всего, именно в мыслителях, способных на проницательную интуицию, на свободное осмысливание жизни и на мужественное отстаивание того, что считаешь подлинно истинным. Именно мыслитель будет наилучшим примером стремления к философскому постижению мира. Именно мыслителей философия должна воспитывать и поддерживать в первую очередь.
1.4. Все ли мыслители – философы?
Парадоксальная беда сегодняшней философии в том, что она пренебрежительно относится ко многим мыслителям, которых гораздо больше, чем принято думать. Так было всегда. Надо ли напоминать про шлифовщика линз Спинозу, про сапожника Бёме, про великих писателей, мыслящих ситуациями и персонажами, про великих поэтов, мыслящих образами?.. Но для теперешней философии важнее не сегодняшние мыслители, а их принадлежность к узаконенным философским авторитетам.
Наверное, каждому из нас встречался в жизни (или хотя бы в художественном произведении) человек, да и не один, воспринимаемый как философ в этимологическом смысле слова: любящий мудрость. Он может сказать нечто заставляющее задуматься, побуждающее переосмыслить что-то привычное. Его изречения, а точнее содержащиеся в них мысли, порою могут соперничать с уцелевшими оборванными фрагментами признанных античных философов. Но сейчас нас куда больше, чем в античные времена, и самое большее, что может случиться с таким мыслителем, – это то, что он станет прообразом какого-нибудь колоритного персонажа в произведении познакомившегося с ним писателя. Вряд ли он будет востребован в современной философской профессии.
Зачастую сам стиль мышления мыслителя-нефилософа не проходят фильтр профессионального философского восприятия, хотя может иметь большое значение для философа-мыслителя. Философ-мыслитель относится как к равным – к тем, кто наряду с ним остро воспринимает отдельные фрагменты и ракурсы осмысленности бытия. Он не пренебрегает обращением к творчеству писателей-мыслителей, цитатами из поэтов-мыслителей, ссылками на композиторов-мыслителей, на произведения художников-мыслителей.
Обращать внимание на результаты поисков и находок мыслителей – особая забота философии, которой пока не уделяется особого внимания. Пока философское сообщество схоже с гильдией, заботливо охраняющей от посторонних своё право на профессиональное занятие философским ремеслом. всех
Отчасти это можно понять.
Как пишет Карл Ясперс:
Впрочем, эта проблема тесно связана и с представлением о разуме (см. пункт 1.1). С тем, что мыслителю, опирающемуся на обе стороны мышления или склонному к мышлению улавливающему, не так-то просто вписаться в традицию преимущественно выстраивающего мышления.
«Философ – человек единичный, он живет на свой страх и риск из собственных истоков». Это вполне можно применить к философу-мыслителю. Однако продолжение этой мысли точнее отнести к философу как члену гильдии: «Но как человек, он член целого, и его философствование с самого начала зависит от этого» [3].
1.5. Пугающий характер
современной философии
Нефилософские люди могут философию уважать, но даже в этом случае они побаиваются и сторонятся её как чего-то чуждого, заумного, невнятного, или даже чем-то угрожающего нормальному существованию. Рядом с профессиональным философом обычный человек выглядит неполноценным, невежественным, не имеющим представления о каких-то важных вещах, а о каких именно даже толком сказать невозможно.
Хотя оба они, философ и нефилософ, – homo sapiens. Причём обычный человек, в простоте душевной, порою лучше представляет себе самые главные вещи, чем философ, специализирующийся на рафинированных, но, по сути, второстепенных изысканиях.
Философу, знакомому со многотысячелетним осмыслением жизни в разных странах и в разные эпохи, ценящему тех мыслителей, которые ему дороги, умеющему восхищаться красотой и глубиной размышлений и полемических поединков, – ему, может быть, нелегко представить отторжение от философских материй, возникающее у стороннего человека. Не всегда обычному человеку дано понять, зачем громоздить друг на друга все эти бесконечные рассуждения, занудные и самодовольные, когда жизнь вот она – прекрасная и ужасная, доказывающая всё, что надо, самим своим течением?.. Зачем нужна эта мудрствующая «фи», если всегда найдётся по-настоящему мудрый человек, к которому и стоит обратиться в затруднительной ситуации?.. Такой человек разъяснит что к чему без утомительных ссылок на тех, кто жил в другие времена и при других обстоятельствах, без малопонятных терминов и прочих умозрительных заморочек?..
Философия отгораживает от посторонних свои интеллектуально-эзотерические знания терминологией, замысловатыми теориями и прочими наукообразными атрибутами. Хотя, наверное, должна была бы стремиться к популяризации и пропаганде необходимых всему человечеству философских достижений, тем более что эти достижения должны относиться к самым главным вещам. для любого человека
Такая отторгающая ограда вредна и философии в целом, и множеству тех людей, которые могли бы получить от неё огромную пользу, пользуясь разнообразным философским потенциалом, помогающим ориентироваться в жизни и формировать своё мировоззрение. Обретение философией «человеческого лица», то есть направленности на обычного человека, достойно особой заботы.
Не дожидаясь будущего глобального изменения философского сообщества, каждому отдельному философу уже сейчас, не откладывая, стоило бы позаботиться о доступности и популяризации своих идей и взглядов, имеющих общечеловеческое значение.
Pulsuz fraqment bitdi.