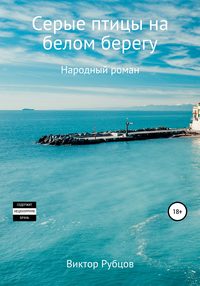Kitabı oxu: «Серые птицы на белом берегу. Народный роман»
СЕРЫЕ ПТИЦЫ НА БЕЛОМ БЕРЕГУ
(Народный роман)
Часть первая
Тяжелый, лоснящийся на солнце, словно дельфин, «ИЛ-18» накренился вправо, и Мухин увидел, как покачнулась, поднялась кверху серо-бурая степь, покрытая редкой, азиатской щетинкой высохшего на солнце жусана, как называли казахи полынь. А за ней – сизое, в барашках волн, горбатое море. Оно, как прачка, закатившая рукава, до белизны отмывало изъеденный солью ракушечник, глыбы известняка, образовавшие причудливый и ломаный рисунок берега.
Самолет проходил над мысом Актау. Вот там – подумал Мухин, – был первый маяк. Он указывал мореплавателям дорогу, предупреждал об опасности, вселял надежду. Мухин вспомнил как двадцать лет назад чуть дальше – где обрывалась «подкова» города, высаживался первый десант, выгружались первые сухогрузы со стройматериалами и техникой. А потом невдалеке рыли землянки. В одной из них он прожил почти два года. Теперь от землянок не осталось и следа. На месте их выросли коробки двух, – пяти и одиннадцатиэтажных домов. На привезенном из-за моря грунте поднялись аллеи деревьев, заросли парка.
Жизнь цепкими корнями ухватилась за полупустынный берег, наполнила звонким многоголосьем веками дремавшую тишину. Раньше, прилетая к родне на большую землю, Мухин, будучи в гостях у родителей, не без гордости рассказывал о том, что он приложил к этому важному делу свои руки. Именно он, а не кто-то другой, строил здесь, за Каспием, первый в мире «БН-350» – реактор на быстрых нейтронах, первые в мире опреснители морской воды, которым завидовали в свое время даже продвинутые американцы. А насчет остального, – предупреждал он многозначительно, – не спрашивайте! Государственная тайна! Объекты среднего машиностроения. Оборонные, значит. И лишь изрядно захмелев, под большим секретом рассказал отцу о том, что, может быть, из этих самых нейтронов, атомов и начинку для бомб делают. Только об этом никто не знает. Кроме американцев и японцев, конечно. У тех, говорят, такие фотоаппараты на спутниках – теннисный шарик из космоса на земле снимают. Да что шарик – плюнул не там, где положено, или еще чего сделал, – все видят, все засекают. Техника!
– Ты гляди, чудеса и только! – удивлялся отец.– Неужели они на самом деле такие «зоркие»? Так и сглазить могут янки! Вот же сучье семя! Сколько живем, столько от них одна пакость исходит. Никогда к нам с добром не приходят. Так и норовят, так и норовят какую-нибудь гадость против нас сотворить. То холодную войну начали, то гонку вооружений. Теперь вот решили исподтишка за нами наблюдать. А я на днях самогонный аппарат на огороде закопал – про закон-то трезвый слышал, который Горбачев установил. Может, и меня они с этим аппаратом засекли?
– Не, батя, их такая отсталая техника не интересует! – со знанием говорил Мухин. – Они что интереснее высматривают.
– А что же интереснее? – полюбопытствовал старик.
– А то, чего у нас нет! – чуть наклоняясь над столом, шептал Мухин.
– Так как же они могут разглядеть то, чего у нас нет? – не унимался старик.
– Так это ж и разглядывать не надо – и так ясно. У любого спроси, сразу скажет! – самодовольно улыбался Мухин. – Все знают, хотя и государственная тайна.
– Да ты не темни, поясни толком! Вот умник еще! – уже злился старик. Чего же у нас все-таки нет?
– Порядку, батя, и хозяйственности! Дисциплины нет. Вот и разваливается все. Строили первый в мире БН, гордились, а в то же время рядом всю степь загадили, одного бетона застывшего вокруг, как дерьма, сколько наложили! Кучи и кучи! А сколько в землю закопали! Еще бы один город можно было построить. А лесу – полтайги полегло. Но ведь на Мангышлаке он весь привозной, свой там не растет.
– Да, беда! – понимающе покачивал головой старик. – Заелись, слишком богатые стали. Помню, помню я Казахстан, будь он не ладен – степь да степь кругом. Едешь, едешь по тому же Турксибу: ни деревца, ни кустика на десятки километров. Только выжженная и безлюдная степь.
– Знаешь, бать, я одного сукина сына, как барана, чуть было не поджарил. Половую доску, пятерку, значит, зажег. Прямо рядом со строившимися домами. А почему?
– Действительно, почему? Он что, сдурел? Такое добро жечь!
– Транспорта не было, чтобы на новый объект перевезти. Да и грузить доски не хотелось! И так, – говорит, – привезут, когда сроки подожмут! Мы в то время рядом работали, обвязку трубопровода заканчивали. Мы же монтажники из управления «Союзспецмонтаж». А они – генподрядчики. Это я потом на энергокомбинате осел, здание БН-350 ремонтировал, ну, и всякие там другие работы выполнял. А поначалу нас на многих объектах использовали. Так вот, подбежал я к поджигателю, когда увидел, что штабель досок загорелся! – Туши, кричу, а он смеется. – Еще чего, – может, одеяло принести!
В общем, сцепились мы с ним, да так, что я его в тот костер с пламенем до третьего этажа, чуть не бросил. Довел он меня. К голове кровь прихлынула. Ватник на нем задымился после того, как я его к огню подтолкнул. Резко выскочил гад, и за трубу, валялась неподалеку – хотел меня обогреть.
– Ты посмотри, сволочь какая! – воскликнул старик.
– Шустрый, видать, из зэков бывших. Их там много – на стройке-то! После зоны продолжают работать по специальности…
– Боже сохрани! – перекрестился старик. А говорили, комсомольская стройка. Да в такой компании и самому можно грех на душу взять!..
– Это еще полбеды! Хоть знаешь за что! А вот когда обогреют ради потехи, и поминай, как звали! Обидно! У нас одного прораба, ну ни за что в зоне по черепу железкой! Выражение лица не понравилось. И голос зычный. А как прорабу на стройке, особенно на высоких зданиях без голоса? В то время громкоговорителей не выдавали, а люди по многим этажам порой были расставлены. И там же – на одних объектах с нами – заключенные закладкой нулевого цикла под будущие здания занимались, самые тяжелые и трудоемкие строительно-монтажные работы выполняли. И надо же было нашему прорабу пройти мимо них и не так на кого-то взглянуть да еще огрызнуться. Шарахнули по голове. Жена и двое детей сиротами остались!
– Не, ни за что зэки не ударят! – возразил старик. – Там что-то между ними серьезное было. Или, может, в карты проиграли. Денег-то у них нет. Играть больше, как на чью-то жизнь, по большому счету, не на что. Разве только на ерунду какую.
– Не скажи! В прошлом году у нас одну из партии турнули. Сама секретарем парторганизации была, других уму-разуму учила. А себе на уме, стерва, оказалась.
– В каком смысле?
– А в том, батя, что в зону к «королям» ползала. За полсотни с каждого «сеансы» устраивала, раздевалась, ну, и прочее. На службе 350 рублей в месяц получала, а там за вечер не меньше! Вот сука!
– И впрямь, кусок мяса, а не женщина! – поддержал старик. – Такую б в сталинские времена к стенке поставили, пришлепнули, как собаку!
– Так она же еще и членом партии, главой первичной организации была. А знаешь, что она на бюро горкома секретарю заявила, когда ее случай разбирали?
– Ну!
– Вы, говорит, меня зря срамите, товарищ секретарь горкома, сами-то тоже хороши. Мне женщины рассказывали, что вы триппером переболели – от моральной чистоты, наверно?!
– У всех присутствующих волосы дыбом встали, шум поднялся! А первый стал весь багровый, как помидор вот этот, – ткнув в помидор пальцем, – сравнил Мухин. – И чуть не зарычал от возмущения. Но та коммунистка, видно, из битых была, – улыбнулась и снова укусила:
– А у меня, между прочим, такой заразы сроду не было. Она в основном только у благородных дам, с которыми Вы привыкли общаться…
– Договорить ей не дали, выгнали из кабинета первого секретаря в приемную и без нее уже голосовали за исключение из партии. Вот такие дела!
– Не дела, а делишки! – Махнул рукой старик. – Вот при Сталине дела были!..
Почему-то именно теперь, глядя в иллюминатор, за которым таял, растворялся в дымке Мангышлак, все это вспомнилось Мухину. Выделилось из потока дат и событий, в которых «сварила» его сегодняшнего – серьезного и печального, чуть циничного, жизнь.
Сколько минуло лет. А вот живут же до сих пор в душе те годы, события и люди, населявшие их. Нет – нет, да и резанет, как по голой ступне, по живому ракушка памяти. А Мухину ничего не хотелось вспоминать. В Подмосковье, куда он переехал несколько лет назад после случившейся с ним беды, все было по-другому. Женился во второй раз. Вскоре родился сын. И, казалось бы, новые заботы, радости растопят его боль и печаль, залечат душевную рану. Но…, как видно, чудес не бывает! – с горечью думал Мухин, возвращаясь сейчас из командировки. Анестезия времени срабатывает только отчасти. Боль притупляется, как лезвие старого ножа, но продолжает резать душу на куски. А сейчас, когда зренье еще различало белый берег полуострова, эта боль жгла и мучила, как в самый первый раз…
Мухин попытался отвлечься, полистал свежий номер «Огонька», но не стал читать, понял, что не может. Положил журнал на колени, откинул голову на спинку кресла, закрыл глаза.
Сразу, словно в объемном кино, предстала вокруг него совершенно другая картина. Маленький, вымощенный брусчаткой пятигорский дворик, весь засыпанный еще пряно пахнущими лепестками акации. Ворох белья возле порога их дома. Корыто на табуретах. Усталое, с кругами под глазами, лицо матери, кланявшейся этому проклятому корыту, в котором она стирала немецкие подштанники и исподние рубахи. Неподалеку – вечно жующий или играющий на губной гармошке веселый и добродушный Ганс – младший офицер, живший в соседней квартире. Она освободилась после того, как ее покинули Абрамовичи – их соседи. Говорили, что они хотели эвакуироваться, как и другие еврейские семьи, но не успели. Их вместе с другими еврейскими гражданами расстреляли за городом. Так сказала соседка тетя Дуся. А мать ее прогнала – нечего беду в дом закликать, у меня вон детей трое – кормить нечем, а ты с такими рассказами!..
Когда мальчик спросил мать, за что убили тетю Марусю и дядю Лейбо, она, выходя из себя, отшлепала его и запретила об этом говорить – мол, враки все это, не верь. Немцы ничего плохого нам не сделали. Вон, видишь, господин Ганс, только улыбается и шутит. Разве он тебя хоть раз обидел! Ганс действительно никогда не обижал Колю Мухина, даже угощал его галетами. Других немцев пятилетний мальчик видел только в окошко – на улицу его не выпускали – и ничего тогда еще толком не знал о них. В Колином дворике все оставалось почти как до войны – также ласково светило солнце, буйно цвела белая акация. И только не было тети Маруси и дяди Лейбо, которые угощали его конфетами и гладили по русой головке. Но зато на их месте появился господин Ганс, коверкавший русские слова и называвший Кольку кляйне-шельма. А гросс-шельмой он звал Колькину мать после того, как она опрокинула на господина Ганса корыто, когда он взял ее за руки, выше локтей и хотел притянуть к себе прямо на глазах Коли.
Мать потом долго извинялась перед господином Гансом, вытирала тряпкой ему сапоги, а он ругался на русском почти также, как другой их сосед – сапожник дед Фрол. Только отдельные буквы в словах произнося по-своему, по-немецки. Ну да в этом ничего страшного не было, и Кольку это не пугало. Наверно, потому немцы и запомнились ему такими, каким был господин Ганс. И Кольке казалось, что все остальное про немцев выдумывают. Но однажды в окошко он увидел как по каменистой, раскаленной солнечными лучами, дороге вели колонну босых и серых от пыли, пленных красноармейцев. На их лица было страшно смотреть: черные, обросшие многодневной щетиной, с кровоподтеками от жестоких побоев, перекошенные какой-то неизъяснимой болью. Женщины выскакивали из дворов и бросали им кто хлеб, кто сваренные вкрутую яйца, кто огурцы, несмотря на то, что женщин огревали плетками и травили овчарками шедшие рядом с колонной конвоиры.
Колька не видел, как заскочила в комнату мать, оторвала его от окна, в мгновение задернула занавески и, прижав Кольку и его сестер к себе, почти беззвучно и горько заплакала, запричитала:
– Ох, боже, да что же это делается! Да за что же нам наказание такое!
Вместе с матерью захныкали и девочки, а Кольке плакать не хотелось. Он вырывался из материнских объятий, чтобы лучше рассмотреть каждого шедшего в колонне красноармейца. Вдруг и его папка там. Но мать так крепко держала Кольку, что он не смог и с места сдвинуться. И тоже от бессилия заплакал вместе с сестрами.
– Что ты меня держишь? Я думал, может, папка среди пленных будет проходить, вот и смотрел в окно.
– Нет, не может там его быть! И не перечь матери! – Сухо, с какою-то не известной ранее жесткостью и злым огоньком в глазах ответила расстроенная всей этой картиной и поведением сына женщина.
А почему отца не может быть среди пленных, так и не сказала Коле. И он долго не мог взять в толк – что ее так раздражало в его поведении и вопросе.
В этот день они сидели голодные. Вареную картошку и лепешки мать бросила через забор в проходившую мимо колонну военнопленных. А на улицу выходить боялась. В полупустой комнате с двумя железными кроватями и комодом из дуба было тихо и невесело. Словно серая туча бросила тень на лица Колькиных сестер, обострила и очернила лицо матери.
Почему она все время старалась замкнуть нас в комнате, не выпускала со двора, не давала видеть все те страдания и горе, что заполнили наш маленький город, страну? – думал Мухин. – Почему она так боялась показывать нам правду, не позволяла даже думать о ней? Словно это была губительная и злая для ее детей сила. Не потому ли мы, оберегаемые материнским страхом и трепетом, потом и сами, став родителями, чувствовали в себе такую же или близкую к ней потребность – создать иллюзию, спрятать за ее «оболочкой» своих чад от опасностей! – Словно в колоколе, отдалось гулко в мозгу Мухина. – Кажется, тебя это не касается. Мать твоя была простая, но мудрая женщина – сохранила тебе нервы и здоровье в самые трудные годы. А что сделал ты? Об этом не хотелось думать. Мухин постарался отвлечься и попробовал перевести «стрелки памяти» с себя на отца, много настрадавшегося в сталинских лагерях. Но что- то вновь и вновь возвращало его к одним и тем же надоедливым вопросам – что сделал ты, чтобы жизнь стала лучше? И лучше ли ты сегодня живешь? Свободнее, чем твой отец и другие соотечественники его поколения? По той ли дороге идешь? – уже мучавшим, и не дававшим ему покоя не первый день. Вот вроде бы и огромную цену за нынешнюю жизнь, и свободу заплатили во время войны и после нее. Каких мук стоило народу одолеть фашистских захватчиков, чтобы отстроить, поднять разрушенные войной города и заводы! А что он получил взамен? Сколько лет еще после войны его отец хлебал баланду и голодал в сталинских лагерях! Мать рассказала правду о нем только тогда, когда уже вроде бы наладилась мирная жизнь, и Николай стал старшеклассником. Молчать далее она не могла, так как дети все чаще интересовались судьбой отца, тем, кто он у них на самом деле. Ведь ни среди героев войны, ни среди погибших, пропавших без вести, его не было. А потом как-то уже летом 1956 года к ним в гости заехал незнакомый человек в телогрейке и с небольшим деревянным чемоданчиком в руке. Он сдержанно и сухо поздоровался, уточнил – те ли они Мухины, и передал матери Николая записку от ее мужа. Она усадила гостя за стол, угостила чаем и, прочитав коротенькое письмецо, стала расспрашивать:
– Ну, как он там, жив, здоров?
– Да он, наверно, скоро сам к вам прибудет. Реабилитация невинно осужденных началась, не слышали? Так что ждите. Его под чистую, сняв все обвинения, должны освободить, грехов перед Родиной у него нет и не было. Это я за годы совместной изоляции хорошо понял. Так что ждите! А мне пора, тороплюсь домой, еще до Армавира добираться. Так что извините! – Гость встал, попрощался и вышел, как призрак, словно его здесь никогда и не было. И все же присутствие его Николай ощущал еще долго – перед мысленным взором то и дело всплывало изможденное и обветренное, обгорелое на южном солнце лицо, глубокие впалые глаза, с синими кругами под ними и коричневыми пятнами от бывших ссадин на скулах – следами побоев.
Месяца через два на пороге дома в Пятигорске появился и отец. Высокий, худой, как скелет, на котором, как на нашесте для огородного пугала, висел ставший слишком просторным плащ из серого габардина, выданного когда-то, как позже узнал Николай, отцу в качестве премии за какое-то техническое новшество. В довоенные годы он был талантливым инженером и изобретателем, работал в КБ на одном из воронежских заводов. Там сошелся с просвещенными и умными людьми, которым, как и ему, были не по душе насаждавшиеся в то время на предприятии атмосфера шпиономании и бдительности, практика слежки друг за другом и письменных отчетов о поведении и разговорах коллег по работе, которые требовал первый отдел. Однажды он отказался, что-либо сообщать о разговоре главного инженера завода Малышева с подчиненными, и за это вскоре поплатился. Потому, что в НКВД его молчание было расценено, как нежелание сотрудничать с органами и пособничество «врагу народа». Этот ярлык к честному имени главного инженера они прилепили после того, как возбудили против него дело по 58 статье за антисоветскую агитацию и еще по другой статье – за вредительство на производстве. Главный инженер пошел в застенки по известному делу специалистов-вредителей в промышленности. Показания, компрометировавшие не только обвиняемых, но и других, абсолютно невинных сослуживцев, чтобы сфабриковать громкое дело о заговоре или что-то в этом роде, участии в подрывной деятельности промышленной партии, в то время умели выбивать. Одно из них стало роковым для отца Николая. Мальчик был совсем маленьким, когда к их дому ночью подъехал черный «воронок» и люди в штатском, легко взбежав по лестнице на третий этаж жилого дома для специалистов завода, резко и бесцеремонно позвонили в двери просторной квартиры Мухиных. А потом был многочасовой обыск, в ходе которого все в квартире инженера перевернули кверху дном. И ничего компрометирующего не нашли, однако отца увели с собой. С тех пор об отце не было ни слуху, ни духу. Николай его толком не помнил и, в первые минуты после появления в их доме в Пятигорске чувствовал себя несколько неловко, словно в комнату вошел не родной отец, а чужой, отдаленный от него годами заключения человек. Пятнадцать лет лагерей не могли пройти бесследно ни для кого. Постаревшая за это время и высохшая от переживаний и тяжелой работы мать при появлении отца тоже сначала вроде бы рванулась ему навстречу, потом, словно с вкопанными в землю ногами, встала на месте и, очевидно, потеряв последние физические и моральные силы, безмолвно опустилась на стул, стоявший рядом.
Отец мог прийти домой раньше. Но непредвиденные события, происшедшие в Степном лагере, где он находился в последние годы заключения, отодвинули срок его возвращения.
16 мая 1954 года в третьем отделении Степлага началось массовое неповиновение заключенных. В беспорядках приняли участие заключенные двух мужских и одного женского лагерных пунктов, расположенных на территории общей зоны и отгороженных друг от друга саманными заборами. На этой территории, кстати, находился хозяйственный двор, центральная база торгового отдела, склады продовольствия и вещевого имущества интендантского снабжения, а также пекарня, механическая мастерская с кузницей, что имело немаловажное значение для характера дальнейших событий.
По данным на 10 июня 1954 года в Степном лагере содержалось всего 20698 заключенных, из них – 16677 мужчин и 4021 женщина. Это были люди более 34 национальностей, причем не только из СССР, но и из стран Азии и Западной Европы. Они отбывали в основном длительные сроки по обвинениям в измене Родине (14785), шпионаже (1202), терроризме (772), за принадлежность к партии троцкистов (57), вредительство (79), контрреволюционный саботаж (57), диверсии (192), участие в антисоветских заговорах (1140), антисоветскую агитацию (755), повстанчество и политбандитизм (1421), воинские преступления (10) спекуляцию (8), хулиганство (24), должностные и хозяйственные преступления (19) и так далее. Большая группа людей сидела в Степном лагере и по политическим обвинениям: 42, как белоэмигранты, 1233 – агенты иностранных разведывательных органов, 3439 – бывшие помещики, фабриканты, предатели и пособники фашистских оккупантов, 78 – из троцкистско-бухаринской агентуры иностранных разведок, 11144 – бывшие участники антибуржуазных националистических партий, организаций и групп, 377 – из числа церковников и сектантов, 850 – выселенцы и спецпереселенцы, 386 -иностранные подданные и лица без гражданства, 28 – военнопленные, 181 – интернированные.
Поразительно! – думал Мухин, как-то читая эти скупые, но весьма красноречивые цифры. Получается, что хулиганили и воровали в то время в нашей стране мало, больше шпионили, строили заговоры, боролись с Советской властью и партией большевиков, а в подавляющем большинстве наказывались судом, как можно было судить из отцовской статистики, за измены Родине. Выходило, что у нас не страна была, а рай для изменников. Изменник на изменнике, враг народа на враге народа… Зловещая мистификация, народофобия или паранойя стоявших у кормила власти в те годы И.В.Сталина и его окружения, а также их последователей? Эти данные Николай Мухин обнаружил в сундучке у отца гораздо позже – тот вел переписку со знакомыми, с которыми раньше отбывал заключение, делал запросы в различные архивы и правозащитные организации и собирал нужный материал, чтобы в будущем засесть за свои мемуары о лагерной жизни. Собственно, отдельные главы своей книги он написал. Но заняться вплотную работой над книгой у отца все не получалось – поначалу не хватало свободного времени, на работу инженером его не приняли, сказали, что он за время заключения потерял квалификацию, поэтому он работал простым плотником, строил дома. С работы отец возвращался усталый, потный и пропыленный. Ужинал и после этого, чаще всего, ложился спать. А вскоре он заболел – давали себя знать голод и холод лагерных бараков, тяжелая работа на казахстанском руднике. Врачи нашли у отца целый букет заболеваний. И много времени с этих пор он проводил в больнице. Поэтому долго еще не мог написать книгу о своем незадавшемся прошлом. Но Николай тайком от отца читал отрывки из его воспоминаний, да и по устным рассказам отца знал о нем уже многое, что значительно расширило его представления о реальной жизни и людях. Размышляя над этим, он уже всерьез задумывался над вроде бы простыми вещами и понятиями. Такими, к примеру, не умозрительными, как интересы государства и личности, о цене порядка в этом государстве, умении жить, подчиняясь определенным законам и обстоятельствам. Мухин нередко с горечью отмечал, как не однозначно все и в истории, и в жизни, совсем не так, как ему внушали в школе, на пионерских сборах и комсомольских собраниях. Многим казалось, что в ту пору забрезжила свобода. Но как позже понял Николай, до настоящей свободы было еще далеко. Однако иллюзия свободы все-таки для многих так и витала в воздухе. И в тот момент, наверное, с долей сумасбродства, многим казалось, что в который раз все рушится до основания, что настал момент «восстать из рабства». И именно тогда в «зонах», где отбывали срок скопом – и политические – во множестве, и уголовники, тоже настали новые времена, начались массовые восстания заключенных, о которых не любила сообщать официальная пресса.
Семен Петрович последние годы заключения провел в самом крупном, третьем лагерном отделении Степлага – одной из важных составляющих ГУЛАГа. Здесь вместе с ним за колючей проволокой находилось, как он высчитал, свыше пяти с половиной тысяч зеков, доведенных до отчаяния долгими годами мучений. Они были словно наэлектризованы сообщениями о смерти отца народов в марте 1953 года и слухами о том, что после этого все в СССР должно измениться, невиновных и оклеветанных должны вскоре освободить. Однако время шло, а людей после того, как отпустили на свободу первую партию заключенных, все еще не освобождали. Кассационные жалобы, просьбы разобраться по существу и исправить допущенные в ходе обвинения и следствия ошибки, посылавшиеся многими заключенными в различные судебные, партийные, советские и иные инстанции, где-то надолго застревали и не рассматривались или рассматривались медленно. Это вызывало недовольство. Масла в огонь подлили события, случившиеся в лагере 17 и 18 мая 1954 года. Тогда заключенные мужчины попытались проникнуть в женскую зону. Такое уже случалось и ранее. Но администрация решительных мер не предпринимала, тем более не было попыток создать огневую зону или зону прострела между лагерными пунктами.
В ночь на 17 мая группа заключенных разрушила саманный забор и проникла в женскую зону. Попытка представителей администрации, надзирателей и охранников вернуть нарушителей в свою зону оказалась безуспешной. Это удалось сделать лишь после предупредительных выстрелов из стрелкового оружия. Днем лагерное начальство по согласованию с прокурором лагеря установило между женским лагерным пунктом и хозяйственным двором, а также между вторым и третьим мужскими лагерными пунктами огневые зоны и объявило заключенным соответствующий приказ, означающий применение оружия в случае нарушения установленных ограничений.
Но в ночь на 18 мая 400 заключенных, невзирая на открытый по ним огонь, проделали проломы в саманных стенах и проникли в женскую зону. Часть группы нарушителей режима разошлась по баракам, но большинство собралось на хозяйственном дворе.
Для восстановления порядка в хозяйственный двор и женскую зону была введена группа автоматчиков, в задачу которых входило возвращение нарушителей порядка на место.
Заключенные забросали солдат камнями и палками, другими предметами, после чего был открыт огонь. В результате было убито 13 и ранено 43 заключенных, а 10 работников лагеря получили легкие телесные повреждения. Отец Мухина, увлеченный общим потоком данного события, тоже оказался на хозяйственном дворе. С единственной тогда мыслью – возможно, удастся попасть в помещение склада и раздобыть чего-нибудь съестного. Чувство голода никогда не покидало его, и желание поесть превратилось в подобие навязчивой идеи. Он и по возвращении домой еще долго не мог насытиться нормальной человеческой едой и настоящим хлебом, которые всегда жадно поедал и не терпел, чтобы во время обеда кто-то разбрасывал по полу хлебные крошки. Каждый раз напоминал – грех так поступать с хлебом. За него в лагерях люди порой жизни отдавали. Человека могли раздавить, как муху или пристрелить без всякой санкции прокурора или решения суда.
После первого ЧП в Степном лагере сюда поступило распоряжение начальника УМВД Карагандинской области полковника Коновалова о недопущении применения оружия. Воспользовавшись этим, заключенные разгромили следственный изолятор и штрафной барак. Угрожая расправой, заставили администрацию и надзирающий за ними состав служащих покинуть зону, захватили продовольственные и вещевые склады. И к тому же в знак протеста не вышли на работу.
Днем 18 и 19 мая 1954 года на стенах и дверях столовых появились воззвания, призывающие, как потом констатировали представители администрации лагеря, к действиям антисоветского характера и национальной розни. В такой ситуации заключенными было принято решение – подготовить обращение к администрации лагеря, в котором содержалось требование до приезда правительственной комиссии по расследованию случая применения огня по заключенным 16- 17 мая 1954 года не посещать территорию зоны работникам органов, а также снять огневые зоны.
Администрация лагеря дала положительный ответ на это обращение и сообщила о вызове правительственной комиссии. В свою очередь, предстояло избрать и лагерную комиссию для участия в расследовании событий 16 – 17 мая 1954 года.
Комиссия была избрана в составе шести человек – по два представителя от каждого лагерного пункта третьего отделения. В ее состав чуть не попал и С.П.Мухин, пользовавшийся среди заключенных авторитетом честного и справедливого человека. Но его на несколько голосов опередил во время выборов солагерник Кузнецов, уроженец села Медяниково Воскресенского района Саратовской области. Русский, беспартийный, с высшим образованием, он тоже пользовался большим авторитетом в лагере. А до 1948 года работал агрономом райсельхозотдела Ростовской области. В зону попал после того, как его осудили по статье 58-1 «б» УК РСФСР на 25 лет. Биография вообще-то у него была не простая. Как свидетельствовали полученные позже отцом Мухина архивные данные, в мае 1942 года Кузнецов попал в плен. Находясь в Перемышленском лагере для военнопленных, вроде бы вступил в связь с зондерфюрером Райтером, по рекомендации которого в октябре 1942 года был назначен на должность коменданта лагеря русских военнопленных. Занимался их вербовкой для сотрудничества с немцами. Принимал участие в карательных операциях против советских партизан. Как один из организаторов и руководителей восстания в Степлаге с 16 по 25 мая 1954 года, 8 августа 1955 года Верховным судом Казахской ССР был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, замененной ему 25-ю годами исправительно-трудовых работ. Это по казенным бумагам. А на самом деле все было иначе, и Мухин-старший, лично знавший Кузнецова, говорил об этом деле, как о сфабрикованном. И в подтверждение своих слов позднее зачитывал сыну копию постановления Верховного суда СССР от 12 марта 1960 года об освобождении и полной реабилитации Кузнецова.
Вообще таких судебных ошибок и исковерканных судеб, отслеженных Мухиным-старшим на примере своих солагерников, было множество. Он собирал архивные справки и живые свидетельства о наиболее ярких и типичных личностях, с которыми свела его судьба в годы сталинских репрессий.
Мухин-младший тоже перечитывал их с любопытством и недоумевал – за что так невзлюбила Советская власть этих людей. В его памяти надолго сохранилось немало примеров, записанных отцом.
Шиманская Мария Семеновна, 1904 года рождения, уроженка города Ленинграда, русская, беспартийная, из рабочих. Образование высшее, по специальности экономист. В 1936 году Особым совещанием НКВД СССР якобы за троцкистскую деятельность была осуждена к 5 годам ИТЛ, из партии исключена, срок отбыла, после чего была направлена в ссылку в город Акмолинск. Работала там старшим экономистом на заводе «Казахсельмаш». И снова в 1950 году была арестована за антисоветскую агитацию среди населения. А в действительности позволила себе сказать правду о некомпетентности одного из чиновников, принимавшего не лучшие решения, касавшиеся данного предприятия. Осуждена по статье 58-1), часть 1 и статье 58-11 УК РСФСР на 10 лет.