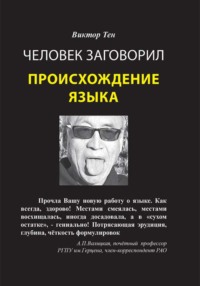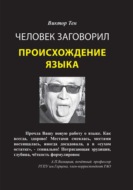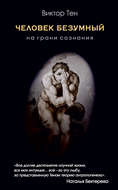Kitabı oxu: «Человек заговорил. Происхождение языка»
Введение. Дремучий лес и две пропасти
Большинство авторов, пытающихся определить, с чего начался язык, выводят его из коммуникаций животных. Напомню, что сознание человека тоже пытались вывести из поведения и рефлексов животных, но ничего не добились, следуя этой, бихевиористически-рефлексологической, парадигме. В книге о происхождении сознания мы доказали, что это никакое не научное мышление, это обыденное сознание, плоское, как скамейка, на котором сидят обыденно рассуждающие бабушки и не поднимающееся даже до их уровня. Это мышление, обставленное наукообразной терминологией, но тонущее в противоречиях. По сути дела, бихевиористы и рефлексологи ни к чему не пришли, кроме повторения мантры: "у шимпанзе интеллект трехлетнего ребенка", которую переносят из книги в книгу, как свой собственный животный рефлекс, забывая, что у ребенка между 3 и 4 годами происходит когнитивный взрыв, которого не бывает у обезьян.
Некоторые, убедившись в невозможности вывести язык из мышления обезьян, заговорили о том, что это два разных явления, имеющие различные корни (Выготский, Дикон и др.).
"Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками, – пишет, обращаясь к подобным авторам, великий лингвист Э.Бенвенист,– Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику. Таким образом, стоит лишь без предвзятости проанализировать существующие факты, и вопрос о том, может ли мышление протекать без языка или обойти его, словно какую-то помеху, оказывается лишенным смысла" (Бенвенист, 2010, С.105).
Животные тоже общаются между собой и с людьми. Но "это не язык, а сигнальный код". (Там же, С.102). Из этого мы будем исходить, дабы избежать путаницы. В отношении способов общения животных будем использовать понятие коммуникация.
В самом истоке сознание имеет эндогенное происхождение, связанное с расщеплением психики. Первопричиной является не развитие адаптивных рефлексов наших диких предков, а обратное, антиадаптивное, трагическое событие: ломка рефлексов по типу инверсии.
Когнитивный взрыв ребенка проявляется прежде всего в языке. Ребенок становится творцом языка, в отличие от детенышей животных, которые ничего не добавляют в коммуникативные системы. Продолжая инверсионную парадигму происхождения сознания, мы будем опровергать коммуникационную теорию в решении вопроса о происхождении языка.
Все нормальные люди являются носителями языка, даже когда не говорят. Язык – это наш видовой эксклюзив, неотделимый от сознания. В подтверждение приведу две цитаты, настолько широко известные, что стали общим местом.
"Границы моего языка суть границы моего мира" (Л. Витгенштейн). "Все есть язык" (Р. Барт).
И – в противоположность: "Язык – это, конечно, не дом бытия, а проходной двор, прибежище для ничто" (Гиренок, 2010,С.105).
И там, и там есть своя логика, о которой мы поговорим в книге. Возникает вопрос: как ученые дожили до того, что пришли к прямо противоположным декларациям: "язык – это все" и "язык – это ничто"? Между ними – темный лес различных определений не столь радикального порядка, в которых нам тоже предстоит разобраться. Отсюда необходимость экскурса в историю языкознания.
В ней есть своя историческая логика. История вообще – это история общества. Вспомним, как развивалась историческая наука, описывающая различные общества в их развитии. Вначале под пристальным вниманием оказалась морфология обществ и прежде всего личности правителей: царей, ханов, королей, султанов. Динамика объяснялась просто: такой-то царь (хан, султан и т.д.) "имел слишком воинственный нрав" и потому пошел в поход. Восстания и революции объяснялись причинами типа "правитель (имярек) своим характером восстановил против себя народ". Все причины виделись в центре. Потом историки пришли к выводу, что "короля играет свита" и начали учитывать в своих опусах аристократию. Еще позже, после крестьянских войн в Европе и в России, в исторические описания попал народ, как действующее лицо. Только в начале 19в. стал возможен принцип "самодержавие, православие, народность". До того, как народ проявил себя актором в изгнании поляков, в восстаниях Разина, Болотникова, Пугачева, "народность", как один из столпов, было немыслимо вставить в формулу государственности. Начиная с А.Смита, А.Тюрго и, особенно, К.Маркса, в причинное поле исторических событий вошла экономика. Историки начали учитывать ее в интерпретациях войн и революций и даже перешли к экономическому фундаментализму. Например, учебник истории М.Покровского, по которому учились в СССР в 20-30-е гг.,вовсе обходится без упоминания царей, королей, султанов и т.д. Исторические факторы, казавшиеся всем, стали ничем. Вся история – это поступательное развитие экономики. Имен в истории Покровского нет.
Какова связь истории лингвистики с социальной историей? Они гомологичны в развитии. Лингвистическая наука началась в 18в. с изучения и сравнения корней – царей слов. В 19в. начали учитывать их окружение (приставки, суффиксы, окончания). В начале 20в. всерьёз занялись фонемами, т.е. простыми звуками, – "народом языка". Во второй пол. 20 в. обратились к синтаксису – экономике языка, объявив его движущей силой языка (Хомский и др.).
Ниже мы попытаемся вникнуть в хитросплетения и неожиданные повороты того пути, который прошла наука о языке, шатающаяся то в одну, то в другую, то в третью, то в четвертую кластерную нишу. Четвертая ниша – это значения.
Глава I. Что такое язык и речь: говорят лингвисты
Сравнительное языкознание 18-19вв.
Началось все с работы со словом, т.е. с абсолютизации морфологии. На базе этой парадигмы возникло в 18в. сравнительное языкознание или компаративистика. Разумеется, язык понимался как способ выражения мыслей с целью коммуникации.
Сравнительное языкознание в лингвистике до сих один из главных методов, но было время, когда компаративистика являлась основным направлением языковых исследований. Корни – монархи слов. Сравнение слов по корням – это наиболее доступное языкознание. Именно компаративисты, увлеченно, жадно рывшиеся в сокровищницах и отбросах языков, опровергли библейский миф о разделении языков Богом, доказали их родство, введя понятие "языковая семья". Аналогии корней слов европейских языков и, например, санскрита, их яркие совпадения, в 19в. будоражили умы не менее, чем теория происхождения видов Дарвина. В истории языкознания это был собирательско-аналитический этап, подобный тем, какие прошли в своем развитии все науки, добиравшиеся до научного синтеза, когда только и стало возможно создание полновесных теорий.
Само собой разумеется, собирательство, пополнение и отбор фактологии всегда будут сохранять свое значение, как и метод сравнительного языкознания – первичного дознания. Однако, сегодня быть компаративистом по определению означает принадлежать вчерашнему дню. Есть сравнительно-историческое языкознание как метод, причем, все более и более выявляющий свою вспомогательную функцию, и компаративистика, как первый этап развития науки, пришедшийся, в основном, на 18 – нач.19 вв. Основным методом компаративистики является поиск аналогий.
Сравнительно-историческое языкознание пережило свой золотой век на индоевропейской компаративистике, благодаря доступности и обилию языкового материала. Язык понимался тогда в духе философии Декарта как способ проявления мышления. Язык дан для того, чтобы выражать мысли. Это было общее мнение, независимо от того, являлся его приверженец человеком верующим или атеистом.
После того как родоначальник сравнительно-исторического языкознания Ф.Бопп доказал родство санскрита и ряда европейских языков, встал вопрос об общем истоке и о необходимости универсальной таксономии. Ф.Бопп предложил свою классификацию, которую можно было считать универсальной только на уровне знаний 19в., потому что основывается на типологии только одной части слова – корня. Выглядит она таким образом:
1.Языки без настоящих корней (корней, способных к соединению). Пример – китайский.
2.Языки с односложными корнями, способными к соединению. Пример – индоевропейские языки.
3.Языки с двусложными корнями, с обязательным наличием 3-х согласных, выступающих в качестве носителя основного значения. Словообразование происходит не путем соединения, а только путем внутренней модификации – семитские языки.
В данной классификации, как мы видим, напрочь отсутствует представление о флексиях: суффиксах, приставках, окончаниях, объединенных общим названием "периферия". А ведь именно флексии играют в большинстве языков главную роль при словообразовании. Например, "перезагрузка" – это по смыслу совсем не то, что "перегрузка", хотя корень один.
Забегая вперед, скажу, что в течение следующих полутора столетий представление о роли периферии поднялось настолько, что на нее "перегрузили" почти всю словообразовательную активность. Как писал уже в 20в. французский лингвист К.Ажеж, "именно периферия должна отличать себя от центра, который окружен ею". (Ажеж, 2003, С.130). Отличие – это и есть словообразование.
Классификация, предложенная братьями Шлегель, в большей степени учитывала роль периферии слова. Данная типология, дополненная В.Гумбольдтом, настолько широкоизвестна, что присутствует во всех учебниках обще-лингвистического плана. И если вы спросите любого языковеда, начиная со школьного учителя, на какие самые широкие семьи делятся языки народов Земли, он без запинки ответит: флективные, агглютинативные, корнеизолирующие, инкорпорирующие. Это типология, основанная на типах словообразования, т.е. исходящая из роли периферии.
Флективные – это языки, в которых слова образуются в основном с помощью флексий. Такие языки имеют две основные разновидности: с внешними флексиями (например, индоевропейские), и внутренними флексиями (семитские).
У корнеизолирующих языков (например, китайского) нет никаких флексий и никакой периферии, одни корни, каждый из которых представляет собой целое слово. В связи с ограниченностью количества корней, значение часто определяется просодией или тональностью. Один и то же корень, по-разному произнесенный (выше или ниже, с подъемом или "спуском", отрывисто или мелодично) обозначает разные смыслы.
Агглютинативные, в переводе "клеющие" языки – это, в основном, языки народов Сибири, некоторых народов Африки и Юго-Восточной Азии, а также, представьте себе, современный английский язык. Слова образуются приклеиванием корней друг к другу и такие языковые гроздья могут быть большими, как виноградная кисть. Например, чукотское единое слово "с копьем" звучит га-пойг-ы-ма, а с "хорошим копьем га-таӈ-пойг-ы-ма". Во втором случае значение "хороший" (таӈ), вставлено внутрь. В чувашском слово ытарсапĕтермеллемарскерĕмĕрсем означает "превозмогать влечение к тому, от чего невозможно отвлечься". По сути дела – определение квантовой или ментальной суперпозиции на чувашском языке.
Интересно различие между агглютинативными и инкорпорирующими языками. Первые образуют новые слова приклеиванием друг к другу только имен (существительных, прилагательных, числительных). Это возможно и во флективных языках, например в русском языке ("цареубийца", "многозначность", "свежевыловленный" и многое др.). У нас так образуются только сложносоставные слова, а в агглютинативных языках – это единственный способ словообразования.
Инкорпорирующие языки, распространенные среди индейцев Америки, интересны тем, что там сложносоставные слова образуются также и с участием глаголов, поэтому там возможны слова типа: "мужпосудомыл". Вовлечение в процесс агглютинации глаголов привело к тому, что слова стали совпадать по объему с предложениями. Кто читал романы У.Фолкнера, знает индейское слово "Йокнопатофа", что в авторском переводе означает "тихо течет река по равнине".
Уже в первой половине 20в. выявилась недостаточность данной таксономии, которая основана исключительно на принципе словообразования, т.е. является, как и классификация Боппа, морфологической, следовательно, далекой от универсальности типологией языков. Фонология, синтаксис, семантика остаются "за кадром".
К тому же возникла проблема первичного элемента. Систему надо строить на базе единой универсалии. В морфологии ее нет. Этот факт отметил сам Гумбольдт: "В морфологии нет места универсалиям, в ней мы наблюдаем максимум вариативности" (В.Гумбольдт; Цит. По: Ажеж, С.65). Поэтому данная типология несистемна, следовательно, ненаучна, но именно ею чаще всего пользуются лингвисты за неимением лучшей. Например, Э.Сепир с презрением назвал ее "ходульной" и "неспособной служить" (Сепир, 1993,С.131). Но другие еще хуже. Альтернативную классификацию по типам словообразования представил тот же Э.Сепир. В ней турецкий и китайский оказались в одной семье, французский язык оказался в одной семье с банту, а английский совсем в другой. Это нонсенс, потому что француз скорее поймет англичанина, чем коренного жителя южной Африки.
Классификация, предложенная Боппом, является корнецентричной. По сути, он разделил языки на две большие группы: имеющие настоящие корни, и не имеющие настоящих корней. Сама по себе эта классификация имеет парадоксальный характер, потому что "не имеющий настоящих корней" китайский язык состоит именно из одних корней. Бопп считал их ненастоящими, потому что нет флексий. Классификация Шлегелей-Гумбольдта, на первый взгляд, ликвидирует это противоречие подчеркиванием роли периферии. На самом деле возникла другая системная проблема, надолго определившая развитие общего языкознания ad absurdum.
Если в языках корни только "царствуют", а "правит" периферия, то без нее нельзя никак. Корень без периферии, корень, не взаимодействующий с периферией, корень, не придающей себе конкретной определенности через периферию,– это вообще не корень, а… бог знает что, гуляющий сам по себе предикат. Получается, что в китайском, поелику нет периферии, значит, нет и корней. Короля играет свита. Одинокий бродяга без свиты королем быть не может. В китайском языке нет ни периферии, ни – следовательно – корней. Этот язык напоминает улыбку чеширского кота, на фоне которой гумбольдтовская типология – одно из энциклопедических начал классической филологии – вообще теряет основания.
В то же время, после появившегося представления о внутренней диалектике слова, выражаемого во взаимодействии корня и периферии, возвратиться к Боппу с его абсолютизацией корней уже невозможно.
Достойно удивления массовое возрождение компаративистики в современной России – а ведь писания многих авторов ничем иным не являются. Они удивляют не новизной и смелостью, а старческим возрастом своих языковых опрелостей. Зачем нам столь напористо, с частоколами восклицательных знаков в текстах, доказывают родство английского и русского языков, если это известно еще со времен отца компаративистики Ф.Боппа?
Само возрождение компаративизма в конце 20в. является доказательством кризиса лингвистики как науки. Сравнение языков по корням, применяемое не как метод первичного дознания, а как своего рода теория происхождения языков, в наши дни может быть основано на двух основаниях. Первое: авторы рассчитывают на то, что их читатели не знают основ лингвистики. Второе: они сами не знают, что наука уже прошла этот путь, и ученым-лингвистам известно о близости тупиков на этом пути.
Полностью оторваться от сравнительного языкознания, конечно, не получится, ибо это универсальный "полевой" метод лингвистики, не отвечающий, однако, на самый интересный вопрос: о происхождении языка. Это как современная психология, выделившая по разным основаниям множество психотипов, разработавшая уйму тестов, но даже не пытающаяся ответить на вопрос об истоке и сущности человеческой психики, хотя появилась психология как наука именно для ответа на данный вопрос.
Не только профанная компаративистика переживает в настоящее время подъем. С появлением такого мощного орудия исследования как компьютер, компаративистика переживает подъем в кругах академических. При этом ее новые адепты позволяют себе отзываться о тех ученых, которые работают в сфере теоретического дискурса несколько свысока. Видимо, сказывается эффект вооруженности: те, кто работают не головой, а клавиатурой, чувствуют себя лучше вооруженными.
"Есть в принципе два подхода. Один – это глоттогенез: думать, как мог возникнуть язык, какие могут быть его истоки, как соотносится человеческая коммуникация с коммуникацией животных и т.д. Это вполне легитимная тема, но, к сожалению, здесь мало на что можно рассчитывать, кроме ответов общих и, может быть, даже спекулятивных. Другое – это движение сверху вниз (от нашего времени вглубь истории), то, что делаем мы, то есть постепенное сравнение всех языковых семей и "пошаговое" продвижение вглубь. Мы, может быть, никогда не дойдем до истоков, но зато максимально продвинемся вглубь и даже попытаемся восстановить первые стадии развития человеческого языка. Это сравнительно-исторический метод, реконструкция". (Старостин, 2003,С.74)
Издание именует автора этих слов Сергея Анатольевича Старостина "лингвистом №1". Хочется верить, что данная характеристика соответствует действительности, как и в то, что слова великого языковеда переданы аутентично. Но в таком случае хочется сказать: бедная лингвистика! – ибо:
1) Противопоставление индуктивных методик теоретической дедукции – этап, пройденный наукой и благополучно забытый, потому что ученые, относившиеся к теории как к "спекуляции", в конце концов, все оказались в плену плохих теорий. Никаких "двух путей" в языкознании нет: как и во всех науках, существует один путь эмпирического фактоведения, сравнительного анализа и теоретического синтеза. Жаль, что ученые столь высокого уровня не понимают такие элементарные вещи. Вооружившись компьютером, нелепо думать, будто он не только отсортирует мириады языковых единиц по сотам, но и создаст теорию происхождения языка.
2) Аналогия не есть генеалогия, а сравнение не есть доказательство. Выше говорилось о "расцвете" компаративистики в современной России. Что она доказала? Что английский язык произошел от русского, потому что слова похожи? Англоязычные считают по-другому, исходя из тех же оснований. Это не наука, а одна только идеология. Объективный исследователь, идя этим путем к истокам, неизменно упирается в проблему некоего древнего утраченного индоевропейского праязыка, у которого, в свою очередь, был предшественник.
Даже если отбросить миграции, язык народа, неизменно обитающего в одной местности с одними и теми же соседями, меняется каждое тысячелетие. Современные русские с немалым трудом изучают в университетах язык Ярослава Мудрого, он приравнивается к иностранным. Всего около шести тысяч лет назад бытовал общий язык всех индоевропейских народов, а мы сейчас не понимаем англичан, французов, испанцев. Задолго до нас римляне не понимали парфян, греки – персов, а между тем общие предки тех и других народов говорили на одном языке всего за 2 тысячи лет до их общего бытования. Население Великого княжества Литовского и Московского царства говорило на одном языке–государственным языком Литвы был русский. Никакого языкового барьера не было. Политическое разделение произошло в 15в. Уже к 18в. сформировались отдельный русский и отдельный белорусский языки. Отличия при этом существенные – поезжайте в Беларусь, послушайте радио. Зная русский, можно догадаться, о чем идет речь, но что именно говорят, вы,"шановны грыдачы", не поймете, даже если это будет простейшая информация о "викамкаме" и "господарствах". Не знающий белорусского языка человек может решить, что речь идет о каких-то местных олигархах, развлекающихся канканом, тогда как на самом деле в райсовете обсуждали колхозы.
В сравнении с праиндоевропейским языком даже санскрит – младенец. А человечеству, как минимум, 40 тыс. лет! О какой "сравнительно-исторической" реконструкции первых стадий развития человеческого языка" может идти речь, если даже реконструкция общего индоевропейского языка зашла в тупик, при том, что большинство его производных известны и даже живы?
Совершенно прав А.Пинкер, утверждая: "Историю слов невозможно проследить настолько далеко в прошлое. Это будет напоминать рассказ о человеке, заявлявшем, что он продает топор Авраама Линкольна – он объяснял, что за прошедшие годы лезвие пришлось поменять дважды, а топорище – трижды. Большинство лингвистов полагает, что после 10 000 лет в языке не остается никаких следов того, чем он был". (Пинкер, 2004,С.247).
Само понятие "глоттогенез" (происхождение языка) стало в глазах современных лингвистов каким-то малопризнаваемым. Дескать, с одной стороны наука; с другой – "спекуляция, называемая теория глоттогенеза". Это, на мой взгляд, ни что иное как выражение бессилия языковедческого сообщества, которое после двух с половиной веков развития лингвистики осознало, что не может решить проблему происхождения языка. В психологии известен феномен "полного отрицания": то, чем человек дорожил, что было для него всем (Родина, другой человек), будучи потерян навсегда, очень сильно тревожит фактом своего существования. Оказывается, что "крупно расставаться" гораздо легче, когда переходишь к полному отрицанию, а не частичному. Отсюда выражения типа "проклятая моя Родина" или "худший враг – это бывший друг", феномен ненависти к бывшим любимым. Подобным образом проблема глоттогенеза превратилась из основного увлечения самых выдающихся лингвистов прошлого в "спекуляцию", о которой выдающиеся лингвисты современности говорят едва ли не с презрением.
Вывод: в начале 21в. мы столкнулись с абсолютизацией сравнительно-исторического языкознания не только в маргинальной части языковедческого сообщества, но и в академической. Это возрождение является ни чем иным как выражением теоретического кризиса общей лингвистики, которая начинала в 18в. с компаративистики, но после этого прошла целый ряд этапов развития, используя разные научные методы и подходы (структуралистский, бихевиористический, психолингвистический, семантический, генеративистский).
В итоге не выявлено до сих пор общих принципов типологии языков, не дано научное определение языку как явлению; неведомы подходы к теории глоттогенеза, отсутствует генетическая классификация языков. Феномен языка остается такой же тайной, как и в 18в.
В итоге мы получили ренессанс методов первичного дознания и их ретроградную абсолютизацию. Но если в 18в. компаративистика как основной способ получения знаний о языке, являлась наивом, то в 21в. – это профанация, откуда б она не исходила: из маргинальных или академических кругов.
Трансцендентализм Гумбольдта
Итак, первый кризис в лингвистике обозначился уже в первой половине 19в. в связи с явной недостаточностью "словарного" подхода.
Что делают представители конкретных, т.н. позитивных наук, когда у них кризис? Они обращаются к той матке, которую в свои «жирные годы» в лучшем случае игнорируют, но чаще оплевывают: к философии.
Великий лингвист Гумбольдт решил с целью выхода из кризиса отойти от языка на расстояние, чтобы со стороны разобраться в самой сути явления.
Наиболее популярными философами в первой половине 20в. были в Германии Кант и Шеллинг.
В духе мистической философии Шеллинга, Гумбольдт понимал язык не просто как средство общения, а как бытие духа. Это качественно иное определение языка, нежели средство выражения мыслей для коммуникации. В коммуникационной парадигме связь языка с мышлением выглядит опосредованно, не как тождество, а как последовательность феноменов (вначале думаю, потом говорю). Это, во-первых.
Далее, прошу прощения, мы должны сделать философское отступление, чтобы по-настоящему понять Гумбольдта.
В свое время Иммануил Кант, скрупулезно исследовав понятия, казавшиеся сами собой разумеющимися, которые люди в своей теоретической и практической деятельности употребляли не задумываясь, пришел к выводу о ложности наших представлений.
Первичное восприятие (апперцепция) всегда обманчива. Что есть истина, мера, сущность, совесть, добро?… Честное критическое исследование Канта показало: первичные, каждодневно употребляющиеся людьми понятия антиномичны в себе; однозначно сказать, что есть истина или, что есть добро, невозможно. Антиномии неразрешимы в своей посюсторонности. Однозначно всю эту сложную простоту можно воспринимать только при учете трансцендентальной природы элементарных понятий. Все первичные (следовательно, базовые понятия) имеют относительную природу в нашем мире. Любое определение, опирающееся на имманентные сущности, будет недостаточным, как минимум, наполовину. Оно может казаться правильным и пушистым в обиходе, но в любой момент может стать оборотнем и наделать немало бед. Все войны начинались с рассуждений о справедливости или истинной вере. Эти рассуждения казались правильными, иначе они не могли бы поднять такие массы людей, чтобы те убивали друг друга с полным осознанием своей правоты. Все революции начинались с идей справедливости и свободы, а приводили к обратному результату: к диктатурам.
В принципе, кантовская "критика разума" достаточно проста и величественна именно в своей простоте. Любой неглупый человек способен верифицировать ее. Достаточно задуматься о сущности, например, добра и зла. Когда добрый человек убил злого, что победило – добро или зло? Начав беспристрастно рассуждать, умный человек придет к неутешительному выводу, что если основные понятия и можно где-то определить однозначно, то не в нашем мире.
Трансцендентальность понятий автоматически означает умо-непостигаемость (неинтеллигибельность по Канту), пред-данность и полный антиисторизм. У трансцендентного нет истории. Оно вечно, неизменно, представляя собой абсолютное бытие, мутным аналогом которого является имманентный мир.
«Средство выражения мыслей»: такой ответ на вопрос, что такое язык, кажется правильным. Но он суть ничто иное, как кантовская первичная апперцепция, до отделения трансцендентного от имманентного. Это хорошо понимал Гумбольдт. В критической части своей деятельности он исходил из кантовской "критики разума", в позитивной части – из трансцендентального идеализма Шеллинга.
Теперь о том, что, во-вторых. В качестве "родовых" понятий для определения языка Гумбольдт использовал такие, которые его предшественникам казались немыслимыми. Это трансцендентальные понятия "Дух" и "Энергия". Последнее понятие только в 20в. "приземлилось", женившись на проводах, и навеки погибло за металл в глазах людей высокого полета. Во времена Гумбольдта оно было еще по-античному девственным, нетронутым и употреблялось в качестве трактовки понятий Дух и душа. "Энергия" являлась термином теологии и философии. Энергия – это трансцендентное качество духа, его способность творить.
Язык, согласно Гумбольдту, – это «объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная в определенных звуках, в этом облике и через взаимосвязь своих звуков понятная всем говорящим и возбуждающая в них примерно одинаковую энергию". (Гумбольдт,1985,С.346).
Согласно Гумбольдту, язык вообще можно определить только как ноумен, а не как феномен. Это трансценденция. Феноменальный подход к языку может быть со стороны функций и со стороны классификаторства по типам (и Гумбольдт дал типологию, которая до сих пор является наиболее признанной).
Чем были вызваны столь высокие определения Гумбольдта, уводящие от "средства коммуникации" в область высоких энергий?
В то время происходило идеологическое утверждение "принципа национальностей". Изживали себя монархии как виды государств, где национальность не имеет значения, важно только отношение к монарху и к династии. Назревал великий передел политической карты ввиду просыпания национального духа каждого народа. Прошло время таких государств как Австрийская империя, состоявшая в основном из угров и славян, "государство Папы", "королевство Вюртемберг", "Неаполитанское королевство". Девятнадцатый век прошел под флагом борьбы за национальные государства. По Гумбольдту выходило, что история народа – это история его языка. Отсюда такой алчный интерес к генеалогии языков, вызов, на который компаративисты ответить не смогли не потому, что мало знали, наоборот… Они все поражали объемами своих познаний, просто невероятными арсеналами памяти и полиглотизмом. Буквально все, начиная с Боппа, с лекций которого люди уходили ошарашенными, думая, что человек "не может столько знать".
Оказалось, надо не это: необходим новый метод. Компаративизм работает в аналогии, в генеалогии не работает. Энергия Гумбольдта слишком высоко и неуловимо парит. Но после него думать о языке приземлено, только как о средстве коммуникации, копаться в морфемах и считать это главным направлением поисков, было немыслимо. Понятие "Дух языка", введенное в лингвистику, само собой призывало вслушиваться в звуки, в мелодику языка, т.е. обозначило переход к фонологической парадигме. Тут подоспела и соответствующая философия.
Естественный подход
Высокие слова о языке как духе народа, как воплощении некой умонепостигаемой энергии, внушали представителям каждого народа гордость за свой язык, заставляли произносить о нем высокие слова, превознося его Дух и принижая языки других народов ("собачья мова" и т.д.). Нападки на другие языки – лучший способ возвысить свой народ.
Гумбольдт породнил языкознание с трансцендентальной философией. В постгумбольдтовский период лингвистика оставалась служанкой философии, только уже иной – "философии жизни", основанной на интуитивизме. Это с одной стороны. С другой – она восприняла теорию эволюции, вначале еще по Ламарку, а потом по Уоллесу и Дарвину. Как следствие, наряду с духовидчеством, стремлением проникнуть в "самый Дух" языка прямо душой, появился историзм в виде организменного подхода. Языки стали рассматриваться как естественные этапы эволюции духа.
Интуитивизм дополнял сравнительно-исторический подход и, в то же время, противопоставлялся ему. Компаративисты основывали свои классификации на морфоформах. Интуитивисты, перешагивая через разницу корней и способов словообразования, искали генетическое родство, основываясь на значениях и на музыке языка. Переводя энергетизм Гумбольдта на эволюционные рельсы, лингвисты начали смотреть на язык, как на организм.
Главный идеолог нового направления, которое стало именоваться "естественным", А.Шлейхер, считал, что языки надо рассматривать как виды в теории эволюции. Развитие языков происходит по законам эволюции. Таким образом, естественники наделили языкознание историзмом, поставили вопрос о необходимости диахронического изучения языков. Вопрос об истоках языков, каждый из которых являлся "Духом" определенного исторического народа, оказался демистифицирован, решение его выглядело достаточно просто. Как организмы развиваются, теряя одни формы и приобретая другие, так развиваются и языки.