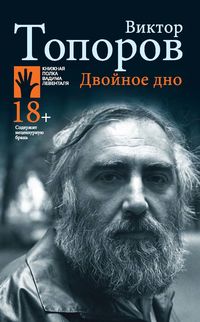Kitabı oxu: «Двойное дно»
© В. Топоров, наследники, 2020
© ИД «Городец-Флюид», 2020
© П. Лосев, оформление, 2020
Предисловие издателя
Второе издание «Двойного дна» выходит в свет через двадцать лет после первого – и через шесть лет после смерти автора. При этом библиографической редкостью издание 1999 года стало почти сразу. В чем же дело, почему так долго?
Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет – скажу честно, мы об этом с Виктором Леонидовичем не говорили. Говорили – и не раз – о замыслах новых книг, а о переиздании старых – нет. Могу предположить, что если бы речь о новом «Двойном дне» зашла, Топоров едва ли стал бы просто перепечатывать текст «захаровского» издания. Возможно, он дописал бы для нового издания главу-другую. Вероятно, захотел бы дополнить книгу еще парой пародийных «рецензий». Снабдил бы текст сносками и/или комментариями…
Последний прием прямо-таки напрашивается: «Двойное дно» полно оборотами типа «такое-то издание, с которым я до сих пор сотрудничаю…», «такой-то занимает такую-то должность и по сей день…», «с такой-то мы остаемся в дружеских отношениях…» – притом что многие из тех изданий закрылись, какие-то знакомые сменили должности, а с некоторыми отношения испортились еще до 2013-го. Что уж говорить про 2019-й – едва ли не все эти обороты сегодня анахронизмы.
Что делать издателю при отсутствии артикулированной авторской воли? Как печатать текст? Существует проверенный и надежный способ – комментарии: с таким-то изданием В. Т. прекратил сотрудничество в таком-то году, этот оставил должность в таком-то, а та умерла… Правда, в таком случае оказалось бы, что не обойтись без хотя бы коротких биографических справок о людях, которых В. Т. упоминает, – хотя бы о части этих людей.
Это большая, кропотливая и интересная работа, и мы в редакции уже было приготовились к ней, но нас остановило одно соображение. Вот оно: некоторые из героев книги еще живы. И что же? Значит, снова «работает в такой-то редакции по сию пору…»? Известна греческая максима о том, что никого нельзя назвать счастливым, пока он не умер. Применительно к «Двойному дну» это значит еще и то, что, пока хоть один из героев жив, сюжеты книги не завершены – и к тому же само появление второго издания может придать развитию этих сюжетов дополнительные импульсы. Мало того, гипотетический комментатор неизбежно обнаружил бы себя в эти сюжеты втянутым и, как наблюдатель в квантовых экспериментах, на них влияющим.
Короче говоря, сколько-нибудь полный и объективный комментарий к этой книге можно будет сделать еще не скоро. Делать половинчатый нет смысла. А книга нужна уже сейчас – о ней постоянно вспоминают, на нее ссылаются, ее ищут по лавкам и сайтам старой книги…
Вот почему мы приняли решение печатать текст «Двойного дна» без изменений и без комментариев. В конце концов, заинтересовавшимся судьбой тех или иных упомянутых в книге людей – Google в помощь. Единственное, что мы себе позволили – это исправить несколько очевидных опечаток, заменить цифровую запись дат и чисел на словесную да в некоторых исключительных случаях привести к современной норме расстановку знаков препинания. В одном случае мы убрали комментарий первого издателя, в другом, наоборот, упоминание о нем добавили. Это все.
Читать эту книгу нужно держа в голове, что она написана двадцать лет назад. Имея в виду, что, хотя примет времени в ней множество, написана она все-таки вовсе не на злобу дня. Ну и не забывая, что однажды она будет переиздана с обширным подробным комментарием.
Вадим Левенталь
Глава 1
Сын адвоката Топоровой
Моя мать, Зоя Николаевна Топорова, умерла во сне ночью с 16 на 17 июня 1997 года после тяжелой ссоры со мной накануне. Через несколько дней – 22 июня – ей исполнилось бы восемьдесят восемь лет.
Я родился у нее поздно и оказался, естественно, единственным ребенком. «Дитя Победы», как это тогда называлось, – отсюда и незатейливое имя Виктор. Родители сошлись в войну – в блокаду – и никогда не жили вместе: у отца была другая семья, а мать, не слишком, по-моему, любившая его и, главное, любившая рано приобретенную независимость куда сильнее, не настаивала на нормализации или формализации отношений.
Жестоко и не совсем понятно для меня обидела она отца, записав мне в метрику фиктивное отчество Леонидович – на самом деле я должен был бы зваться Ефимович. Означающий незаконнорожденность прочерк в метрике меня не смущал, хотя и обернулся несколько неожиданным пожизненным недоразумением: достигнув шестнадцатилетия, я оказался вынужден – вопреки самоощущению – записаться русским. А значит, каждый раз в ответ на прямой вопрос «Ты еврей?» или, в иных ситуациях, «Простите, а вы, случайно, не еврей?» вместо столь же простого ответа пускаться в путаные объяснения. Да и то сказать: русский по паспорту и по фамилии, младенцем окрещенный в православие (подсуетилась первая из моих нянек, за что и была уволена), и вместе с тем стопроцентный еврей по крови, по внешности, по целой бездне национальных черт и привычек, и вместе с тем атеист или в лучшем случае агностик, и вместе с тем русский патриот, и вместе с тем литератор и шахматист, и вместе с тем пьяница и драчун, и вместе с тем неумеха во всем, что связано с необходимостью забить гвоздь или пришить пуговицу…
Как правило, меня принимают за полукровку – и я даже не спорю. Да я ведь и действительно полукровка: во мне смешалась кровь обрусевших евреев-выкрестов из Петербурга (дед матери Абрам Топоров вышел в отставку генералом) с куда более горячей (и дикой) кровью одесских евреев: отец мой был даже не из Одессы, а из-под Одессы – в Одессе он учился, воевал в Гражданскую, политиканствовал в Бунде, впервые получил известность как адвокат.
Одна из самых загадочных для меня семейных историй звучит так: мой отец, командуя в девятнадцатилетнем возрасте отрядом еврейской самообороны, попадает в плен к Петлюре. Дед, скромный аптекарь по имени Фока, собирает деньги и отправляется выкупать сына. Петлюра (сам! таково предание) принимает выкуп и, вместо того чтобы повесить Фоку и сына его Хаима-Лейбу на одном суку, отпускает обоих. Отец возвращается в еврейскую самооборону.
Здесь настала пора разобраться с именами и отчествами. Отца моего при рождении нарекли, как уже было сказано, Хаимом-Лейбой. Хаим-Лейба Фокич Бегун стал – к переезду в Ленинград в начале тридцатых – Ефимом Федоровичем. Записывая меня, мать рассудила, что если Хаим – это Ефим, то Лейба – Леонид, а Леонидом звали и единственного человека, которого она любила по-настоящему, – питерского писателя Леонида Радищева, попавшего в лагерь перед войной и вернувшегося только в 1956 году, – и таким своеобразным способом мать как бы вовлекла его в процесс моего рождения. На мой взгляд, безвкусно – но со вкусом у матери всегда были определенные затруднения.
Радищев был (до ареста) бойким журналистом, пописывавшим и прозу, его ценили – правда, мне кажется, больше как собутыльника – Максим Горький и Алексей Толстой. Сел он за то, что, зайдя в магазин после очередного подорожания – знаменитые сталинские подешевления начались лишь после войны, – воскликнул: «Пусть за такие деньги сливочное масло Сталин кушает!», и тут же был взят, получил срок, в лагере – второй, а вернувшись, принялся писать полупостыдные рассказы о Ленине (сборник «Крепкая подпись»). С моей матерью они встретились (ревность отца, как и всякого приходящего полумужа, стопроцентной броней служить не могла; я, впрочем, десятилетний и полностью осознающий, что происходит, блюл собственные и поневоле отцовские интересы, находясь в соседней комнате) и, не понравившись друг другу, расстались уже навсегда. Союз писателей дал ему однокомнатную квартиру, где он и умер и пролежал несколько недель – почуяв в конце концов запах, соседи сбегали за дворником.
Радищев был, разумеется, литературный псевдоним, настоящая фамилия его была Лившиц, так что русский отец – даже в чисто умозрительном плане – мне не грозил. Да и другие поклонники и – реже – любовники матери были в основном евреями. Что имело, конечно же, в первую очередь профессиональное объяснение: адвокаты.
Долго и безуспешно сватался к матери богатый, но, как она утверждала, бездарный адвокат Лев Великсон; фамилия здесь важна, потому что он, наряду с прочим, жаждал меня усыновить. Великсон был библиофилом, а книги собирал лишь по трем направлениям: юридическая литература, эротическая литература и всё о Льве Толстом. Иной раз я подшучивал над матерью, расписывая ей перспективы замужества, маячащие за такими пристрастиями.
Еще один кандидат в мои отчимы – некий Залман Соломонович – не имел шансов на успех, будучи редкостно некрасив, но его допускали в дом как интересного собеседника. Или, точнее, рассказчика. Скромный кандидат сельскохозяйственных наук, он выправил себе допуск в спецхран Публичной библиотеки и, владея парой-тройкой языков, читал, а затем и пересказывал – по крайней мере, у нас дома – зарубежную прессу. На усыновление он тоже имел виды – иначе с чего бы дарить мне Еврейскую энциклопедию, двухтомную историю еврейских гонений и прочую литературу того же рода? Мои стихи на израильско-арабскую войну 1956 года:
Раз-два-три, идут солдаты,
А в ООН идут дебаты.
За дебатом идет дебат,
А в ООН Насер-магнат.
Солдаты гибнут за Насера,
И в него у них гибнет вера.
Скоро погибнет и он.
Да здравствует Бен-Гурион!
и целый цикл исторических трагедий в стихах – «Авессалом» и трилогия «Последние Хасмонеи», написанные тогда же, свидетельствуют о том, что я и впрямь подпал под влияние сионизма, но уж никак не под влияние Залмана Соломоновича, которого мы с матерью в конце концов от дома благополучно отвадили.
Мать не была хороша собой (в отличие от сестры Татьяны, прожившей с нами всю жизнь), не обладала ни шармом, ни даже, по-моему, желанием нравиться, но, что называется, «на любителя» воздействовала гипнотически. Последний из ее поклонников (а ей было уже за пятьдесят) оказался писаным красавцем двадцати восьми лет от роду под псевдоаристократической фамилией Вонский. Разумеется, я прозвал его Вонючкиным – и сделать предложение он так и не решился. Имелся еще какой-то многолетний московский «друг» Иосиф Борисович, которого я ни разу не видел.
В целом же мать не столько перебесилась к моему появлению на свет, сколько не бесилась вроде бы никогда. Разве что в ранней юности дралась на кулачках с сестрой из-за поклонников. Но и тогда, а уж потом тем более, сестра оставалась для нее главным человеком. Может быть, наравне со мной, но не уверен: сестру свою – маму Таню, как я ее называл, – мать, по-моему, любила сильнее или, во всяком случае, более слепо, чем меня. Так слепо она любила потом лишь мою дочь, свою единственную внучку. А во взаимоотношениях с мужчинами всю жизнь оставалась зрячей.
Долгие десятилетия я проходил в Питере по ведомству «сын адвоката Топоровой». Сперва это произносилось нежно, с придыханиями, потом через силу, потом не без злого удивления. Точнее всех выразилась покойная переводчица Эльга Львовна Линецкая: «Удивительно, как сын такой замечательной матери может оказаться подобной сволочью».
Линецкая «по жизни» на доступном ей уровне подражала Ахматовой – и, соответственно, старалась находить и доводить до сведения общественности чеканные формулировки. Я отвечал, разумеется, эпиграммами:
Я знаю место для Линецкой!
И знаешь, где оно? В мертвецкой!
или, ближе к нашей теме, да и вообще деликатней:
Надменна и втайне жеманна,
С оглядкой на гамбургский счет,
Я словно Ахматова Анна,
Я мой – из нее – перевод.
Линецкая умерла в одно лето с моей матерью, да и были они, кажется, сверстницами.
С самой Ахматовой мать виделась всего пару раз и общалась в основном через общую приятельницу, некую Рыбакову. Мать рассказывала обо мне Рыбаковой, та – Ахматовой, и в результате я получил от Анны Андреевны галстук из Италии и приглашение приехать в Комарово. Рыбакова подсказала, что к Ахматовой надо непременно явиться с цветами, мать выделила мне на это трешку, помимо рубля на обед; ситуация показалась мне нелепой, а сумма – интригующей. В результате я деньги пропил, а Ахматову увидел уже только в гробу. В чем, правда, не раскаиваюсь: общение с величественными старухами всегда казалось мне и кажется до сих пор разновидностью описанных Дантом мук. И не самой слабой из них.
После кончины Ахматовой между наследниками разразилась тяжба, в которую моя мать едва не встряла. Но поскольку за юридической помощью к ней практически одновременно обратились и Гумилевы, и Пунины, она сочла за благо отказать обоим.
Сегодняшний читатель если и знает мою мать, то как защитника по делу Иосифа Бродского. Меж тем это была не самая главная и уж, безусловно, не самая героическая ее защита. Правда, впоследствии ставший знаменитым клиент остался доволен. Колеся между США и Россией, питерский стихотворец Евгений Сливкин успел передать моей матери отзыв нобелевского лауреата: «Зоя Николаевна – единственный человек в России, о ком я вспоминаю с благодарностью». Что, разумеется, трудно признать чем-то иным, кроме как случайным комплиментом, но тем не менее.
Мать так и не собралась написать или хотя бы надиктовать какие-нибудь «Записки адвоката» и никогда не вела надлежащего архива (кроме как по делу Бродского, но его у нее как раз выманили); многие дела – послевоенные и, понятно, довоенные – я знаю и помню только в ее тщательных, но лишенных малейшей красочности пересказах; другие – более поздние – знаю лучше, потому что с какого-то момента (лет с пятнадцати) овладел юридической премудростью в такой степени, чтобы давать ей (а затем и ее коллегам-адвокатам) профессиональные советы. Ей очень хотелось, чтобы я стал адвокатом (подобно отцу, матери, деду и одному из прадедов с материнской стороны), хотя, как выяснилось довольно скоро, наклонности и способности у меня оказались скорее прокурорскими. Соответственно, и помощь моя заключалась главным образом в том, что я заранее предугадывал линию обвинения и юридическую квалификацию, которую затем предлагал прокурор.
Для разрядки перескажу забавную историю, в которой я, в отличие от всегдашнего, подсказал матери линию защиты. На одном из питерских заводов шестидесятилетняя кладовщица-горбунья оказывала рабочим оральную услугу, ставка у нее была рубль. Двое мужиков (одного из которых защищала моя мать) спьяну овладели ею естественным образом. Оскорбленная женщина подала заявление в милицию. Обозначилась «расстрельная» статья «Групповое изнасилование».
С проблемой орального секса мать, если не ошибаюсь, столкнулась тогда вторично. В первый раз я, четырехлетний, обратился к ней с вопросом «Мама, а пипа вкусная?» и на контрвопрос «Ты что, с ума сошел?» подло наябедничал: «А вот соседская Таня говорит: „Дай пососу!“». Мать помчалась к соседям, и они в тот же вечер съехали с дачи, увозя с собой восьмилетнюю минетчицу.
Но теперь мне было уже шестнадцать, и я квалифицированно объяснил матери, что согласие на оральный секс равнозначно согласию на половой акт как таковой, не зря же изнасилование в извращенной форме приравнивается у нас к обычному изнасилованию (да еще фигурирует как отягчающее обстоятельство; любопытно, кстати, что так в СССР обстояло дело не во всех союзных республиках – и, например, в Литовской ССР оральное изнасилование квалифицировалось куда мягче – всего лишь как злостное хулиганство). Одним словом, дело мы с матерью выиграли, но это был тот редкий случай, когда я играл на стороне защиты; моя всегдашняя роль была прокурорской, амплуа «адвокат дьявола».
Кодексы – Уголовный, Уголовно-процессуальный и прочие, равно как и комментарии к ним, – были у меня под рукой лет с шести, и я знал их, естественно, наизусть, – в доме постоянно рассказывались и обсуждались юридические дела, так что в моем самообразовании не было, строго говоря, ничего удивительного. Впоследствии, выйдя на пенсию, мать начала играть в инсценировки судебных процессов с внучкой – и, случайно прислушиваясь, я как-то с ужасом обнаружил, что играют они в «групповое изнасилование».
«Запомни, сынок, что девушка может, во-первых, заставить тебя на себе жениться, во-вторых, подать на тебя в суд за изнасилование, в-третьих, забеременеть, а в-четвертых, заразить тебя венерической болезнью» – такими словами (варьировалась только последовательность страшилок) напутствовала меня мать перед каждой ежевечерней прогулкой лет начиная с двенадцати. Странно, что я не стал голубым – против этого мать меня почему-то не предостерегала.
Тема изнасилования всплывала в материнских рассказах и на основе единственного личного опыта, безусловно комического. Где-то в начале тридцатых она поехала на выездную сессию суда в спецвагоне, в котором ее разместили в одном купе с прокурором, тогда как судья разместился в соседнем. Прокурор, молодой мужик, выпив, полез к ней. Мать отчаянно забарабанила в стенку купе: «Товарищ судья! Меня товарищ прокурор насилует!» Из того же поезда по дороге сбежал подсудимый, и судья в плане черного юмора предложил, чтобы поездка не окончилась полным пшиком, осудить прокурора.
Юридические советы и процессуальные действия моей матери, как правило выверенно точные, оборачивались полной беспомощностью, когда дело затрагивало кого-нибудь из близких. Особенно тяжко приходилось мне: мать буквально теряла голову, разбираясь в моих околокриминальных передрягах.
Однажды, летом 1972 года (тем летом я попадал в милицию чуть ли не ежевечерне – тем оно в конце концов и запомнилось, тогда как любовные страдания и мысли о суициде с годами практически выветрились из памяти), я в очередной раз угодил в пикет. Произошло это так: выбив чек, я полез брать бутылку без очереди – и взял. Недовольные этим люди из очереди вышли на улицу поговорить со мной по-мужски. Но, увидев наряд милиции, сориентировались на месте и сдали меня с рук на руки: благо я был уже прилично пьян. Меня приволокли в пикет, приятельница, которую я на всякий случай (еврейская предусмотрительность) определил в хвост очереди к прилавку, преданно проследовала за мною. В пикете я завел свою всегдашнюю песню: «Сейчас позвоню прокурору города! Завтра будете пасти коз в родном колхозе!» Иногда это на ментов (их тогда называли мильтонами или легавыми) и впрямь действовало, но на этот раз не сработало. Меня обыскали – и нашли в кармане маленькую и сравнительно безобидную, но тем не менее финку.
Из пикета меня тут же отправили в отделение. Приятельница сообразила, что надо подключить к делу мою мать, которую она на тот момент не слишком хорошо знала. Поэтому она решила сперва забежать к мужу, знакомому с моей матерью куда лучше (именно на пару с ним мы выводили ее сквозь строй дружинников после суда над Бродским). Мужа она застала в неподобающем виде: только что его навестил один ревнивец, нанес сокрушительный удар и, не произнеся ни слова, удалился. И вот Коля со стремительно набухающей на лбу шишкой и Тоня, которой я, впрочем, успел передать многострадальную бутылку, отправились к моей матери и сообщили ей о том, что у меня нашли финку и я препровожден в 28-е отделение.
Мать была на тот момент действующим адвокатом. Знаменитым адвокатом. В отделении, куда меня привезли, она читала для личного состава какие-то лекции – и ее там все знали… Моментально протрезвев, я объяснил дежурному, что еду с дачи (которой у нас не было), нож у меня для садовых надобностей, а сам я – преподаватель ЛЭИСа (откуда я уволился за несколько месяцев до того, но мудро не свел штамп о месте работы из паспорта – и это меня не раз выручало на протяжении всех пятнадцати лет, когда я формально числился тунеядцем)… И тут появляется адвокат Топорова и принимается объяснять дежурному: «Когда Вите было восемнадцать, его зверски избили. И с тех пор он носит финку для самозащиты…»
А ношение финки было само по себе преступлением, если длина лезвия превышала уж не помню сколько сантиметров. Лезвие моей финки оказалось короче, но ни я, ни тем более мать этого на тот момент не знали. Услышав «защитительную речь», я невольно похолодел.
Меня, естественно, оставили на ночь в камере, а с утра судили. Спасли недостаточная длина лезвия и «преподавательская работа». Дали мне мелкое хулиганство – но не «сутки», а штраф в тридцать рублей. Обладая повышенным чувством справедливости, я предложил матери оплатить его – сама виновата. Обладая повышенным чувством справедливости, она после продолжительных прений согласилась с моими доводами. Впрочем, тридцати рублей у меня самого так на так не было.
На протяжении десятилетий (всего она проработала в Ленинградской коллегии адвокатов сорок семь лет – с двадцати до шестидесяти семи) мать слыла лучшей адвокатессой города. Внекатегорно лучшей, уточняли доброжелатели. Недоброжелателей, не говоря уж о врагах, у нее просто не было: при всей цельности и несомненной силе натуры мать обладала поразительной способностью к компромиссам. Невероятно упорная, она чаще всего переубеждала оппонентов, но, когда ей это не удавалось, скрепя сердце признавала их правоту, а признав, верила в нее, как в свою собственную. Сужу не понаслышке: самые яростные споры происходили у нее со мной – зачастую по фантастически вздорным поводам, – мать стояла на своем до конца. В последние годы я шутя называл ее за это «Ельциным» и лишь однажды, когда, вернувшись из Москвы, обнаружил, что она задержала еженедельную зарплату приходящей домработнице, обозвал «Черномырдиным».
Адвокатами были ее отец, Николай Абрамович Топоров, и дед, Борис Матвеевич Кричевский. Борис Матвеевич, впрочем, не имея высшего образования, был не присяжным поверенным, а стряпчим, то есть ходатаем по гражданским и имущественным делам. Но чрезвычайно удачливым стряпчим, а затем и предпринимателем-миллионщиком. Правда, у него была досадная привычка, прикопив триста тысяч рублей, отправляться в Монте-Карло и проигрывать все до нитки, но, вернувшись, он брался за юриспруденцию и коммерцию с новой энергией. И когда Первая мировая положила конец разорительным поездкам на Лазурный берег, основал завод, именуемый теперь (или именовавшийся еще недавно) Охтинским химкомбинатом. У него было двое сыновей – щеголи, юристы, один из них, к тому же третьестепенный поэт-символист Юрий Кричевский, – и красавица дочь, моя бабка Марья Борисовна.
По-видимому, Марья Борисовна была самой незаурядной личностью в нашей и без того не совсем ординарной семейке. В молодости она кружила головы (дед дрался из-за нее на дуэли), дружила с символистами (училась в одном классе с Любовью Менделеевой) и с Плехановым, была, естественно, меньшевичкой; крутила многолетний роман с историком Тарле («Микроцефалы-ленинцы подняли голову, но мы им, слава Богу, показали!» – писал он ей в июле 1917-го из Петербурга в Иматру); растила двух дочерей и сына; знала пять языков (уже после революции выучила шестой – испанский); в силу левых взглядов отказалась в 1916 году от своей доли отцовского наследства; три года не разговаривала с собственным мужем после того, как тот выгнал из дому Маяковского. А выгнал он его за то, что, впервые попав к нам, Маяковский встал на четвереньки и принялся лаять.
Словечко «к нам» промелькнуло в предыдущем абзаце не случайно: дело происходило в той квартире на улице Достоевского и конкретно в той комнате с остатками былой обстановки, в которой я прожил до тридцати четырех лет – пока дом не встал на капремонт; эту квартиру (и соседнюю по черному ходу – для слуг) прадед-стряпчий подарил деду с бабкой на свадьбу. Уже к началу тридцатых наши владения съежились до трех комнат в огромной коммуналке – таковыми и оставались до 1980 года, когда дом расселили.
В одной большой комнате жила моя тетка, в другой мы с матерью, в третьей – маленькой – домработница. Потом, лет в семнадцать, маленькую вытребовал себе я (главная наша домработница Катя получила к этому времени комнату в соседнем доме, но прожила там недолго – заболела раком и умерла), потом мать с теткой поселились в одной большой, а моя жена с дочерью – в другой, потом дочь забрала к себе бабка с материнской стороны, я перевел жену в маленькую комнату, а сам поселился в большой, потом умерла долго болевшая перед тем паркинсонизмом тетка, нас с матерью переселили на Апраксин переулок, жену я с собой не взял – и мой единственный законный брак (хотя браками я считаю еще четыре) на этом распался.
Дед мой, Николай Абрамович Топоров, был человеком, судя по всему, поплоше. Внешне чрезвычайно похожий на черноусого Сталина, удачно (то есть по любви и выгоде, но не слишком счастливо, потому что жена ему изменяла) женившийся адвокат-либерал, он (сужу по сохранившимся письмам к чуть ли не постоянно пребывавшей за границей бабке) проводил время по раз навсегда заведенному распорядку. С утра был в суде, днем обедал в ресторане, вечером проводил прием у себя в кабинете (угловая комната с эркером в нашей квартире; впоследствии моему отцу удалось прописать в эту комнату свою способную стажерку и, как судачили на коммунальной кухне, – не только стажерку; если это правда, то папаша был крут!), потом отправлялся в театр, потом ужинал в ресторане – и все по новой. Два дня в неделю – вторник и пятницу – отводил защите интересов неимущих, а раз в неделю (по средам) вместо вечернего приема клиентов читал лекции в рабочих кварталах. Меланхолически фиксируя все литературные связи, отмечу, что письмоводителем у деда работал начинающий маринист Новиков-Прибой.
Голосовал дед за правых эсеров, но знался и с большевиками. В гражданскую, когда Юденич подступал к Петрограду, друзья-ленинцы предложили ему определиться: вступить в партию или отправиться под расстрел. Дед выбрал партию. А выбрав, вроде бы забыл об испытанном унижении: проникся искренней симпатией к вождю и его идеям, а после смерти Ильича (которого он пережил на четыре года) то и дело сокрушенно повторял: «Ленин бы такого не допустил!» Имея в виду, как можно понять, не столько Сталина, сколько Зиновьева.
Многие друзья отвернулись от него; многие, напротив, поспешили воспользоваться его протекцией, чтобы поступить уже в советскую коллегию адвокатов (для чего требовалась рекомендация влиятельного партийца); многие, естественно, ухитрились сделать и то и другое одновременно.
Полвека с лишним спустя я резко схлестнулся с филологом-германистом Владимиром Адмони, не столько пакостившим мне в литературной жизни, сколько придававшим собственной якобы честной физиономией внешнюю благопристойность подлинным пакостникам, укрывшимся под его старческим крылом.
«Как вам не стыдно, Владимир Григорьевич! – укорял я его. – Это же вы поклялись моей матери после суда над Бродским помогать мне. Но мне не надо помогать, только не мешайте! И это ваш отец, адвокат Адмони-Красный, клялся в вечной признательности моему деду!»
Ленинград – город маленький. Адмони протянул мне руку как бы в знак примирения и тут же затрясся, симулируя сердечный припадок. С трудом освободив руку, я кликнул его домработницу и ушел. Пакость воспоследовала – и на этот раз Адмони (проживший еще двадцать лет) был уже не ширмой, а организатором и вдохновителем.
Через несколько лет те же пакостники расправились и с самим Адмони – и тут он меня сразу полюбил. И даже помог – и я принял эту помощь в нарушение собственного правила «не пей из колодца – пригодится плюнуть». Потому что право плевать в этот колодец у меня не пропало.
А еще через несколько лет престарелому Адмони захотелось напечатать собственные стихи в газете, в которой я курировал литературный отдел. Жалкие графоманские вирши были снабжены восторженными отзывами академика Лихачева и покойной Анны Ахматовой. И я напечатал и стихи, и отзывы, пояснив читателю, что прибавить что-нибудь к таким похвалам было бы с моей стороны просто нескромно.
Став большевиком, мой дед сделал довольно значительную карьеру. Он был председателем городского арбитражного суда, а перед самой внезапной смертью (ему не было и пятидесяти) получил назначение на ту же должность в арбитражный суд республики. Успей семья перебраться в Москву, доживи дед до тридцать седьмого, он наверняка разделил бы всеобщую участь.
Арбитражный суд занимается имущественными делами – и меня утешает мысль о том, что крови на деде, несмотря на внешнее сходство со Сталиным, нет.
Однако партийно-государственная карьера имела в двадцатые не только привлекательные особенности, о чем сейчас сплошь и рядом забывают. Беспартийные специалисты зарабатывали в те годы много, а партийные «садились на партмаксимум». Неплохие деньги в среднем по стране – но не для нашей семьи с тремя детьми, прислугой и привычкой к известной роскоши. Тридцатисемилетняя красавица бабка, барыня и богема, принялась оглядываться в поисках работы.
Чтобы закончить о деде, перескажу анекдот, которым он угостил семнадцатилетнюю дочь Зою, а она – меня, когда мне было лет восемь: «Сидит Троцкий на берегу Босфора и удит рыбу. К нему подходят и говорят: „Троцкий умер“. – „Неправда, – отвечает он, – тогда я не сидел бы здесь и не удил бы рыбу“. К нему подходят с другой вестью: „Сталин умер“. – „Неправда, – отвечает Троцкий, – тогда я не сидел бы здесь и не удил бы рыбу“. К нему подходят в третий раз: „Ленин воскрес“. – „Неправда, – отвечал Троцкий, – тогда он сидел бы здесь и удил рыбу“».
И еще одна характерная деталь: письма к бабке полны восхищенных непристойностей вполне во французском вкусе. И трудно представимые бытовые детали: возьми детей, пишет он бабке на Лазурный берег, и возвращайся в Петербург. Я встречу вас в Берлине… Кстати, это не удалось: война застала Марью Борисовну с дочерьми и сыном на юге Франции, и в Россию они вернулись кружным путем. Для моей матери, тогда пятилетней, это так и осталось на всю жизнь единственной заграничной поездкой.
В доме держали гувернантку, бонну и мисс. Английский и немецкий мать с теткой забыли начисто, а на французском мучительно пытались разговаривать – главным образом, чтобы посекретничать в моем присутствии. Но у них ничего не выходило. «Зоя, демонде Виктор, – начинала тетка, и словарный запас иссякал. – Пуркуа он вчера опять напился?» – беспомощно добавляла она. Несколько книг на иностранных языках, случайно пережившие блокаду, наверняка принадлежали не им, а бабке: Маколей, Ламартин, Тьер и, конечно, Гёте с Шиллером готическим шрифтом.
Моя бабка отправилась работать переводчицей в научно-исследовательский институт. К советским фрейдистам, фрейдистским марксистам, педагогам-психоаналитикам или, как они именовали себя, педологам. Постепенно увлеклась этой, как выяснилось ближе к середине тридцатых, лженаукой, стала пописывать статьи. Некоторые из них, трактующие почему-то тему «переноса», я в детстве обнаружил и самым тщательным образом изучил. Бабка писала, скажем, что, заметив интерес школьника к однокласснице, учительница должна «перенести» его на себя, а уж затем перебросить из сексуальной сферы в творческую. Мысленно перебирая собственных училок, я соглашался со Сталиным: педология – лженаука.