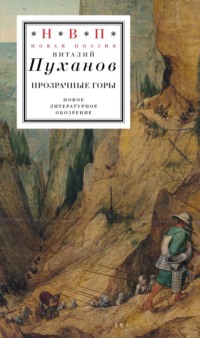Kitabı oxu: «Прозрачные горы»
В оформлении обложки использован фрагмент картины Питера Брейгеля Старшего «Обращение Савла». 1567. Музей истории искусств, Вена.
© В. Пуханов, текст, фото, 2025
© Д. Давыдов, предисловие, 2025
© И. Дик, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *

Антропология ада
В предисловии Станислава Львовского к книге Виталия Пуханова «Школа милосердия» (2014) отмечено: «О Пуханове много говорят – но сколько-нибудь внятные критические тексты о его стихах можно пересчитать по пальцам одной руки»1. За прошедшие двенадцать лет положение мало изменилось, несмотря на выход еще нескольких пухановских книг, и вышеупомянутое предисловие остается едва ли не лучшим текстом о поэте. Непростая задача сказать что-то внятное после этого текста отчасти компенсируется тем, что за прошедшие годы некоторые стороны в поэтике Пуханова, более того – в его стратегии письма стали более явственными, хотя никак не могу сказать, что их нельзя было бы увидеть и раньше.
Рискну сделать спорное заявление: поэтика Пуханова вполне целостна и едина, и разрыв между «ранним» и «поздним» Пухановым в значительной степени иллюзорен. При этом понятны причины, по которым подобный разрыв может быть усмотрен; он отнюдь не в разнице мировоззренческих или эстетических установок автора в разные периоды, но в разительном на первый взгляд различии на стиховом уровне: строгий регулярный стих (правда, при внимательном рассмотрении иногда тонический, а не силлабо-тонический) против строгого же, избегающего всех возможных маркеров «поэтического» верлибра (иногда даже находящегося на грани перехода к версэ). Однако общность текстов, созданных в обеих стиховых моделях, очевидна на другом уровне, где, собственно, и происходит лирическое высказывание.
Разумеется, это движение от регулярности к большей свободе выбора средств (не только стиховых, но и синтаксических, и мотивных) было постепенным, и замечание Львовского отчасти верно: «…поклонники его ранних текстов, не разглядевшие поначалу в традиционной просодии „Деревянного сада“ и (уже отчасти) „Плодов смоковницы“ как-то странно, не совсем правильно сросшиеся переломы зрения и речи, отвернулись от его более поздних стихов, в которых прежние, как бы случайные сбои и шероховатости обнажились, заболели и стали основным предметом, захватили автора целиком»2. Но лишь отчасти. Кто-то заметил стихи Пуханова после первых публикаций (в «Гранях», «Русской мысли», «Смене», альманахе «Латинский квартал»), кто-то вспоминает рукопись первой его неизданной книги. Моя личная история, связанная с Пухановым, начинается с книги «Деревянный сад» (1995), которая поразила меня абсолютной бескомпромиссностью поэтической речи. Известный моностих Яна Сатуновского «Главное иметь нахальство знать, что это стихи», как правило, соотносят с конкретизмом, поэтикой фрагмента, осколков чужого слова, ready-made’а, с поэзией, рождаемой из максимально антипоэтического материала; но возможно и более широкое понимание этого принципа, которое вполне соотносится с Пухановым «Деревянного сада» и «Плодов смоковницы» (2003; в эту книгу вошли, кстати, все тексты из предыдущей, и эта «подвижность» текстов, возможность их переноса и перекомпоновки, останется и в дальнейшем чертой пухановской авторской установки). Пуханов берет поэтическую речь в ее высоком регистре и помещает в пространство обыденного, не деконструируя ее, однако, на приговский манер, но, напротив, проверяя на крепость:
Психиатрический больной
В тиши больничной заповедной
Делился тайнами со мной —
Я повторял: «О бедный, бедный!»
Совсем как нерожденный стих,
Замученный в беззвучном теле,
Он был для жизни слишком тих.
Три года не вставал с постели.
Но говорил, суров и строг,
Что он пророк и принц наследный.
И знает Имя, Смысл и Срок.
Я повторял: «О бедный, бедный!» 3
Такого рода поверка высокого низким, низкого высоким и просто двух несоположенных рядов друг другом постоянно встречается у «раннего» Пуханова (можно вспомнить такие тексты, как «Боже, храни колорадских жуков…», «Мы жили в суетном дому…» и другие). Для многих преданных читателей этих стихов вероятна была ассоциация с очень популярным в перестроечном и раннем постперестроечном литинститутском кругу Георгием Ивановым (и вообще «парижской нотой»); я не вижу, однако, здесь параллели: «парижская нота» в значительной степени состояла из непроработанного ресентимента, в то время как в пухановских стихах, от ранних до нынешних, как раз эта проработка оказывается одной из главных смыслообразующих сил.
Если уж искать (вполне необязательные) параллели, я вспомнил бы скорее Бориса Божнева: «Стоять у изголовья всех здоровых / И неголодным отдавать еду, / Искать приют всем, кто имеют кровы, / И незовущим отвечать – иду…»4 или «И есть борьба за несуществованье, / За право не существовать – борьба… / О, неживое мертвое названье, / О, неживая мертвая судьба…»5, да и многое еще – везде здесь есть те черты, которые явственны в стихах Пуханова: состояние лирического субъекта в ситуации уже совершившейся катастрофы, обесценивания имеющихся смыслов и формул, но при этом упрямое желание их сохранить, несмотря на обесценивание. У Пуханова: «Двадцатый век был веком злоключений – / Погибли все, почти без исключений. / О тех немногих, выживших почти, / В журналах старых почитай, почти…» Или:
Я раньше жил, а нынче не живу.
Перелистай последнюю главу,
Закрой глаза, найди строку в Завете —
И ты узнаешь: нет тебя на свете.
Бессонны мы и снимся наяву.
Мы встретились у бездны на краю
И выпили по капле жизнь свою,
Младенческим бессмертием играя.
И если дальше не иду по краю,
То где-то там как вкопанный стою.
Можно найти и другие параллели, скажем, Александра Величанского (например, его «кьеркегоровский» цикл «Помолвка»). Говоря о более поздних текстах, Лев Оборин вспоминает Бориса Слуцкого («Пуханов создает стихотворения-эффекты, сталкивая проблемы истории с проблемами этики, ощущая себя выразителем мироощущения целого невыговорившегося поколения»6). Отсутствие или наличие этих параллелей на самом деле не так важны7. Стихи Пуханова на всем протяжении его работы тотально цитатны и аллюзивны, часто прямо полемичны по отношению к источнику («Я убит подо Ржевом, но только убит / И поныне стою под прицелом…»; «Нет смерти на земле. Но нет ее и выше. / Цветами пахнет смерть. Звезда звезду не слышит…» и многие другие), но это тоже способ изъятия «поэтического» из привычного контекста и помещение его в некий непредвиденный, проверяющий устойчивость высоких формул ряд.
Именно зыбкость всей привычной структуры мира и одновременно максимальная четкость проговаривания этой зыбкости поражала в «Деревянном саду» и «Плодах смоковницы». Отмеченные Львовским «сбои и шероховатости» как раз казались важнейшим открытием Пуханова (а вовсе не просодическая строгость, которая, вероятно, кого-то могла и обмануть), поэтому я не был удивлен расширением стихового диапазона Пуханова в более поздних текстах (а появление свободного стиха не отменяло регулярного, хотя его образцы и не представлены в настоящей книге) и проявлением тех установок, которые ранее лишь угадывались (но угадывались, замечу, безошибочно). Поверка высокого низким, а низкого высоким («Ты отдал всё за сказку, за мечту, / За ржавую селедку из Мурма́нска…») никуда не делась, но приобрела гораздо более резкие, подчас провокативные очертания:
А. С. Пушкин стараниями армии
Советских литературоведов
Обрёл заслуженное бессмертие.
Отпущенный жить, в чём был взят смертью,
Поэт первые дни провёл в приёмнике для бомжей.
Получил в глаз, освоился, пообвыкся.
Навыки стихосложения не утратил, пишет.
Трудно достать настоящих чернил,
Бумага не пахнет топляком.
Пробовал подбрасывать вензельные листки на Мойку:
Усатый смотритель, а может, усатая старушонка, не признаёт.
Понемногу печатают в «Зинзивере».
Молодые смеются, иногда наливают.
Трудно даётся верлибр, собачий язык.
Постапокалиптичность и посткатастрофизм были очень важны в ранних текстах, но в более поздних они становятся чуть ли не лейтмотивом. При этом принципиальным свойством именно пухановского мира оказывается обыденность, привычность такого состояния. Ад предстает естественной средой обитания. Подход этот, в более ранних текстах еще требовавший высокой поэтической лексики («Ну вот мы и в аду. / С закрытыми глазами, / Ощупывая тьму, я эту щель найду. / Здесь растворились все, / Кто взглядами пронзали / Остывшую в стекле опавшую звезду…»), становится почти репортажным:
В раю сложно найти чёрный хлеб, селёдку или гречку.
Привычную еду, часто входившую в состав пайка или
продуктового набора,
Определяющих общественное положение и социальный статус
обитателя ада.
В раю еда другая. Прибывшие из ада видели её прежде только
на картинках,
А чёрного хлеба, селёдки или гречки на прилавках нет.
Прибывшие из ада обходят магазины в поисках привычной еды,
А если случайно находят, чувствуют себя счастливыми,
Как в прошлой жизни в аду, когда возвращались к ночи домой
с тяжёлыми сумками,
Гордые собой, уверенно смотрящие во тьму завтрашнего дня.
Принципиально то, как работает Пуханов с субъектностью в своих текстах. У него встречается «я», максимально приближенное к имплицитному; но такого рода тексты, помещенные среди других, лишаются наивной лирической «исповедальности», становясь функцией некой более общей транссубъективной установки, для которой характерны и персонажное третье лицо, и некое размытое «мы», природа которого не вполне однозначна. Позволю себе процитировать свой уже давний текст о Пуханове: «Это – субъективность коллективного тела или коллективного сознания, того самого „мы“, о котором я уже говорил выше. „Мы“ это – четко не проявленное, не обозначенное; порою поэты, порою соотечественники, порою поколение, порою просто люди. Пуханов одновременно существует внутри этого „мы“ – и демонстрирует те пределы, в рамках которых это нерасчлененное сообщество (точнее, его фантом) способно существовать»8. Когда я говорил о проработке ресентимента, то речь шла именно о поэтическом событии внутри этого «мы». Об этом же «мы» писал и Львовский: «„Мы“ конструируется в этих стихах ситуативно, это всякий раз другое „мы“: никакая устойчивая коллективная идентичность невозможна в этих стихах, которые как будто решили проиллюстрировать собой термин социолога Зигмунта Баумана „текучая современность“… У Пуханова идентичности, времена, инстанции речи не просто обладают свойством текучести, но охотно реализуют его, то наполняя, то опустошая друг друга»9. При этом, при всей «текучести» эти «мы» населяют как раз адский, постфинитный мир, хотя это может прямо и не проговариваться.
Кажется, что в более поздних стихах Пуханов совершенно прозрачен, атропичен, причем это касается не только свободных стихов, но и регулярных; однако и в ранних текстах эта тенденция уже была заметна («Поезжай в Египет. / Поезжай на юг. / Там тебя не обидят. / Даже если убьют. // Никакой обиды / В Египте нет. / Строй себе пирамиды. Тыщу лет»). «Бедность» пухановских текстов настолько подчеркнута, что прячет и отмеченные уже постоянные цитатность и аллюзивность, и логические парадоксы, возникающие на каждом шагу. Между тем, пухановская кажущаяся «бедность» не кажется мне примитивистским минус-приемом. Как ни странно, опять вспоминается Сатуновский: «Мне говорят: / какая бедность словаря! / Да, бедность, бедность; / низость, гнилость бараков; / серость, / сырость смертная; / и вечный страх: а ну, как… / да, бедность, так»10. Поэтический язык неразрывен с изображаемым; «бедность» у Сатуновского иконически передает репрезентируемую реальность, только «иконичность» в данном случае распространяется не на отдельные элементы системы, а на саму структуру высказывания, уподобленную структуре реальности.
У Пуханова также речь идет об «иконической» бедности, но репрезентирует она не «барачный» мир, а мир после конца, в котором «высокие» слова и «сложные» идеи утратили значение, обыденные ритуалы воспроизводятся механически, но это при том не антиутопия, а «нормальный» мир. Текст Пуханова воспроизводит систему мышления того коллективного «мы», для которого подобная «бедность» никак не порок, а одна из составляющих нормальности, возможно даже базовая. Описанный таким образом, мир мог бы быть гротескно-сатирическим (и подобное восприятие некоторых текстов Пуханова возможно, но оно будет слишком уж поверхностным). Можно было бы таким образом сконструировать и концептуалистскую ролевую субъектность (недаром я уже вспоминал Пригова), но и этот подход не будет иметь прямого отношения к Пуханову. Принципиальное свойство пухановского обыденного ада – его антропологическая составляющая. Как мне уже приходилось писать, Пуханов в своих текстах занимается практической антропологией. Он выходит в поле, как положено с некоторых пор исследователю (в рамках этого сравнения концептуализм окажется «кабинетной» антропологией), живет одной жизнью с аборигенами, ест их еду и пьет их напитки, живет в такой же, как и они, хижине и исполняет их ритуалы. Чтобы вовсе избежать колониалистской дистанции, он, вероятно, не имеет возможности вернуться обратно, и отличает его лишь то, что он продолжает зачем-то вести свои записи:
В пятницу воскресные папы пьют пиво,
В субботу играют в футбол.
Видишь дядю с огромным плюшевым слоном?
Или львом? Или псом?
Такие игрушки дарят воскресные папы.
Хочешь такую?
Чтобы пылилась в углу, занимала полкомнаты.
Чтоб все спотыкались об неё,
А она улыбалась звериной улыбкой —
И. о. воскресный папа.
Без выходных до воскресенья.
Я хочу такого слона, или льва, или пса,
Всех сразу в одном плюшевом комке.
Папа, воскресни! Папа, воскресни!
В этом случае «бедность» словаря и образного ряда, отказ от тропов – не только иконическое представление окружающего мира, но и неизбежное следствие конспективности такого рода записей. Отсюда же – анафоры, синтаксический параллелизм, перечислительная интонация. И, разумеется, характерный для Пуханова способ циклизации, а вернее даже «сериализации» текстов. Известны его продолжающиеся серии микрорассказов про одного мальчика, одну девочку, доброго и злого волшебников, про ксеноцефалов, марсиан и других аллегорических представителей нерасчленимого «мы», поэтическая серия про жителей ада. Наконец, соединяющая воедино многие черты пухановской поэтики серия с единым зачином «Ты помнишь, Алёша…» (естественно, отсылающим к хрестоматийному посвящению Константина Симонова Алексею Суркову); собранная в книгу «К Алёше» (2020), эта серия продолжилась и позже:
Ты помнишь, Алёша, как ходили в гости «посмотреть телевизор»?
Пили чай, разговаривали, смотрели телевизор.
Телевизор стоял на тумбочке – квадратный, с чёрным
вулканическим стеклом экрана.
Телевизор никогда не включали в розетку, мы просто смотрели
на него,
Говорили: какой хороший телевизор, научились делать
телевизоры проклятые капиталисты.
И незачем было его включать, только портить картину,
нарушать гармонию
и внутреннюю тишину.
Там сплошные пальба и убийства, двойники президента страны,
ложь политиков
и экономических аналитиков.
И так было нам хорошо посидеть посмотреть телевизор
в тишине.
В этой серии то, что есть и в других текстах Пуханова, эксплицировано благодаря принципу каталога: исчезнувшие реалии, чаще всего фантомные, воображаемые, предстают как элементы руинированной памяти, в основе которой – та или иная форма ложного сознания. Пуханов не случайно через внутренний диалог («горлумовский», по меткому выражению Оборина) с воображаемым собеседником (или воображаемым alter ego) систематизирует все эти обрывки фантазмов, тем самым демонстрируя саму природу ресентимента.
Сам Пуханов нашел для своего метода определение «прагмагерметика». Он говорит (в давнем интервью): «Поэзия в своем развитии дошла до уровня, когда понять смысл стихотворения невозможно без специальной университетской подготовки. Такое положение вещей вполне терпимо, живет же поэзия в западных университетах, не жалуется. Мне бы хотелось, чтобы через стихи мир становился понятнее человеку. Кроме поэзии, как мне кажется, больше некому примирить человека с ужасом бытия, с тайной смерти, с неизбежным уничтожением всего любимого и дорогого. Задача прагмагерметики – воспитать в человеке любовь к неизбежному. Религия, философия утратили навык перевода сути явлений на человеческую речь. Прагмагерметика – попытка вернуться к основам человеческой речи, способной давать имена вещам»11. Но если мир, по сути, предстает нечеловеческим, разрушенным, адским, то задачей поэта оказывается перевод нечеловеческого на человеческий язык:
Поговори со мной на языке собак.
Мне нравится язык собак.
На языке собак говорят в Сорбонне,
Пишут книги, иногда даже стихи.
А птичий язык забыт.
Поговори со мной, если хочешь,
На языке врага.
Это мой родной язык.
Если этот язык беден и убог, то это не может помешать учредительной, дейктической функции поэтического слова (кстати, не случайно у Пуханова множество метатекстов, связанных с осмыслением самой роли поэта). В этом утверждении мне видится разрешение многих вопросов, которые могут вызвать тексты Пуханова, в том числе и тот, что связан с неразрывным единством ранних и поздних его текстов, различных по способу отношения к «высокой» поэтической речи, но в равной степени нацеленных на переводческую установку. Иное дело, что переводить приходится в экстремальных условиях и обращаясь порой к весьма чудовищному материалу. Но когда почти невозможно привить «любовь к неизбежному», есть надежда хотя бы прийти к его пониманию.
Данила Давыдов
Pulsuz fraqment bitdi.