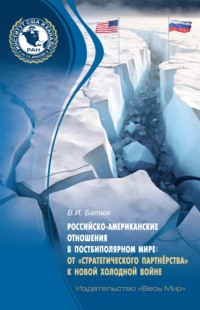Kitabı oxu: «Российско-американские отношения в постбиполярном мире: от «стратегического партнёрства» к новой холодной войне»
© ИСКРАН, 2024
© Батюк В. И., 2024
© Издательство «Весь Мир», 2024
* * *
Введение
Российско-американские отношения переживают очень сложный период. Диалог между двумя державами практически полностью прекращён – в том числе и по вопросам международной безопасности, представляющим огромный интерес не только для Москвы и Вашингтона, но и для международного сообщества в целом. Развязанная Соединёнными Штатами санкционная война против Российской Федерации означает, что в обозримой перспективе двусторонние торгово-экономические связи между нашими странами будут оставаться на низком уровне, не оказывая никакого воздействия на общее состояние российско-американских отношений. И в директивных документах, и в публичных заявлениях высших должностных лиц России и Америки отмечалось, что другая ядерная сверхдержава – противник номер один. Как говорилось в Заявлении МИД РФ в феврале 2023 года, «США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав»1.
А в Стратегии национальной безопасности США, утверждённой президентом Дж. Байденом в октябре 2022 года, указывается, что Америка сталкивается со стратегическим вызовом, который исходит от держав, «сочетающих авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой – а именно со стороны России и Китая». При этом в документе утверждается, что Россия-де «представляет непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе»; «КНР, напротив, является единственным конкурентом, имеющим как намерение изменить международный порядок, так и, во всё большей степени, экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели»2.
Такое положение вещей сложилось не сразу. Тридцать лет тому назад, после окончания холодной войны, и политическое руководство наших стран, и широкая общественность были уверены, что отношения между Москвой и Вашингтоном вступили в новую историческую эпоху, что конфронтация между Россией и Соединёнными Штатами осталась в прошлом и что будущее российско-американских отношений – это стратегическое партнёрство и, возможно, полноценный союз.
На протяжении трёх десятилетий и американские, и российские политики, дипломаты и представители делового сообщества неоднократно пытались реализовать мечты о гармоничных и динамично развивающихся российско-американских отношениях. Двусторонний диалог не был бесплоден – достаточно упомянуть развивавшиеся в 1990–2000-х годах торгово-экономические и научно-технические связи, которые охватили самые разные отрасли национальных экономик наших стран – от добычи нефти до освоения космоса. Удалось добиться заключения важнейших разоруженческих соглашений – как двусторонних, так и многосторонних. Стороны смогли наладить конструктивное взаимодействие в урегулировании целого ряда региональных проблем – от борьбы с террористической организацией ИГИЛ3 до иранской ядерной программы. Наконец, между Москвой и Вашингтоном был налажен диалог и по проблемам глобальным – от экологии до международного терроризма.
И всё же, несмотря на отдельные успехи в развитии российско-американских отношений за прошедшие тридцать лет, общий итог безрадостный. В настоящее время почти полностью демонтирован российско-американский механизм контроля над вооружениями. Участие России в единственном двустороннем разоруженческом соглашении, которое действует в настоящее время, – Договоре между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – приостановлено в соответствии с законом, подписанным президентом РФ 28 февраля 2023 года. Но даже если Россия возобновит соблюдение СНВ-3, следует помнить, что срок действия этого договора истекает в феврале 2026 года, и в сложившихся условиях не приходится рассчитывать на то, что за оставшееся время США и РФ сумеют выработать новое соглашение, которое могло бы прийти на смену Договору СНВ-3.
Попытки наладить двустороннее сотрудничество в урегулировании региональных конфликтов в последние годы были сведены на нет. После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года можно говорить о прямой конфронтации между Российской Федерацией, с одной стороны, и Соединёнными Штатами и их союзниками по НАТО – с другой.
Санкционная война против России достигла беспрецедентных масштабов – такого количества санкций, которые были введены в отношении РФ, не вводилось против какой-либо страны за всю историю мировой экономики. Санкции сопровождались высылкой из США российских дипломатов, закрытием российских консульств и конфискацией дипломатической собственности Российской Федерации.
Разумеется, Москва была вынуждена ввести ответные меры. В результате этих дипломатических войн резко сократились возможности поддерживать нормальный диалог между нашими странами – как по линии внешнеполитических ведомств, так и по линии народной дипломатии. Что ещё хуже, был уничтожен механизм российско-американского сотрудничества (например, была прекращена деятельность Президентской комиссии).
Между тем от конструктивного взаимодействия двух ядерных сверхдержав зависят как безопасность России и Америки, так и безопасность всего человечества. Москва и Вашингтон заинтересованы в сотрудничестве не только в контроле над ядерными вооружениями, но и в решении целого ряда международных проблем.
В чём же причина нынешнего глубочайшего кризиса российско-американских отношений? Разумеется, между Россией и США, как между двумя державами, имеющими обширные международные связи, интересы и амбиции, были, есть и будут серьёзные разногласия по различным аспектам мировой политики. Взгляды Москвы на международные дела далеко не всегда совпадают с точкой зрения Анкары, Тегерана, Нью-Дели, Пекина и т. д. – однако это не является причиной прекращения, например, российско-турецкого или российско-китайского диалога.
Очевидно, что российско-американские разногласия – от сокращения стратегических вооружений до энергетики – вполне решаемы при наличии доброй воли сторон. Серьёзнейшим препятствием для российско-американского сотрудничества стало обострение идеологической борьбы в двусторонних отношениях в последние годы. Сегодня в своей внешней политике Вашингтон руководствуется во всё меньшей степени интересами, и во всё большей – идеалами. И действия современной России на международной арене в США воспринимают как прямой вызов американским идеалам.
В Соединённых Штатах в настоящее время господствует точка зрения, что истинное стратегическое партнёрство между США и РФ может возникнуть лишь на основе общего видения и единой системы ценностей. У Вашингтона и Москвы такой системы нет. Более того, различия в базовых ценностях между двумя странами за последние годы увеличились. Вашингтон уверен, что по мере роста «авторитаризма» в России в российско-американских отношениях неизбежно будут нарастать разногласия.
Американская политико-академическая элита полагает, что истинные интересы России, её народа как раз и состоят в том, чтобы полностью принять точку зрения западных «партнёров», и никаких расхождений между США и «подлинно демократической Россией» по проблемам национальной безопасности нет и быть не может, а если таковые и возникают, то это – не что иное, как «рецидив российского коммунистического и имперского прошлого».
В настоящее время, однако, соотношение идеологических сил выглядит явно не в пользу либерального глобалистского капитализма: его теснит буржуазный национализм. Попытки же националистов защитить интересы своих стран воспринимаются на Западе как «нарушение миропорядка, основанного на правилах». В этих условиях, как считают многие представители западных правящих кругов, между «либеральными демократиями» и «авторитарными режимами» неизбежно будут нарастать разногласия, а любой, даже самый выгодный для Запада компромисс с его незападными оппонентами неизбежно будет восприниматься среди западного мейнстрима как попрание либеральных и демократических ценностей и принципов.
Вера в то, что Россия (а также Китай) стремится «подорвать американскую демократию» и навязать всему миру свою «авторитарную модель», так же обязательна для представителей американского политико-академического истеблишмента, как и вера в «происки американского империализма» – для «правоверных советских коммунистов». Вот почему любые попытки наладить диалог с Москвой будут восприниматься как «беспринципные уступки путинскому авторитарному режиму» и, как следствие, встречать сопротивление со стороны «вашингтонского болота».
Очевидно, что до тех пор, пока продолжается идеологическая борьба в российско-американских отношениях, не приходится рассчитывать на их нормализацию. Единственный выход из сложившейся ситуации – это добиться снижения идеологического компонента в российско-американских отношениях и, соответственно, увеличения в них доли «реальной политики» (Realpolitik). Следует заметить, что схожую задачу приходилось решать Москве и Вашингтону в период холодной войны. Советско-американская разрядка 1970-х годов стала возможной только после того, как и в США, и в СССР, хотя и по разным причинам, ослаб сверхдержавный мессианизм. Так, к концу 1960-х годов в американском обществе под влиянием поражения во Вьетнаме американская «глобальная миссия» была поставлена под вопрос. Одновременно и в Советском Союзе происходил постепенный отказ от марксистско-ленинских идеологических догм.
Именно эти идеологические процессы и сделали возможной советско-американскую разрядку. До тех пор, пока схожие процессы не произойдут в современном Вашингтоне, идеологический фактор будет оставаться сильнейшим раздражителем в российско-американских отношениях. В этой связи следует отметить, что, подобно тому, как это было в годы холодной войны номер один, в современной международной обстановке, которую многие рассматривают как холодную войну номер два, нормальный диалог между Москвой и Вашингтоном может строиться только на основе совпадающих интересов, но никак не общих идеалов.
Со времён первой холодной войны 1945–1991 годов взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном находились в центре внимания политико-академических элит двух стран. Различные аспекты этих отношений так или иначе затрагивали в своих трудах такие выдающиеся советские/российские и американские эксперты, как Г. Алперовитц, Г. А. Арбатов, Зб. Бжезинский, Р. Г. Богданов, Б. Броди, Ю. А. Замошкин, Н. Н. Иноземцев, Дж. Кеннан, Г. Киссинджер, Р. Легволд, А. С. Маныкин, В. О. Печатное, Д. Саймс, Г. Н. Севостьянов, Г. А. Трофименко и многие другие.
После окончания первой холодной войны, однако, интерес к изучению России и российско-американских отношений в Соединённых Штатах серьёзно сократился. У таких выдающихся американских экспертов по России, как Р. Легволд, М. Рожански или Д. Саймс, не нашлось достойных преемников. В то же время в России изучение Соединённых Штатов и российско-американских отношений оставалось в числе научных приоритетов российских учёных-международников. Исследования в области американистики проводились в таких российских научных и учебных заведениях, как Институт США и Канады РАН и Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений, Московский государственный университет, и ряде других. Очевидно, этот дисбаланс объясняется убеждённостью американской политико-академической элиты в том, что Россия – это «бывшая великая держава в состоянии упадка» и что полный крах и распад Российской Федерации – вопрос времени. Видимо, только после отказа от такого рода триумфалистских взглядов на Россию возможно и возрождение внимания к российским исследованиям в Соединённых Штатах.
По вполне понятным причинам в центре внимания и российских экспертов, и их американских коллег находятся текущие проблемы в российско-американских отношениях. В то же время, как представляется, необходим и ретроспективный взгляд на эволюцию взаимоотношений Москвы и Вашингтона. Исторический анализ позволит выявить причины современного кризиса в отношениях между Россией и США и, возможно, приблизиться к пониманию того, каким образом наши две страны смогут добиться нормализации отношений.
Глава 1. Российско-американское партнёрство 1992–1999 годов
1.1. Политические проблемы российско-американского партнёрства
Окончание холодной войны, распад «социалистического лагеря» и СССР коренным образом изменили и характер международных отношений, и характер взаимоотношений Москвы и Вашингтона.
Во-первых, после исчезновения Советского Союза с политической карты мира, вывода российских войск с территории Германии и прибалтийских республик бывшего СССР и существенных сокращений обычных вооружений в соответствии с Договором об обычных вооружениях в Европе 1990 года перестала существовать угроза широкомасштабного военного конфликта на территории Европы, чреватого перерастанием в мировую термоядерную войну.
Во-вторых, в начале постсоветского периода существенно сократился тот мировоззренческий и социальный разрыв, который разделял Россию и Запад в годы холодной войны. Тем самым взаимоотношения между Россией и США были окончательно освобождены от глобального идеологического противостояния, существовавшего с 1917 года. Это обстоятельство, разумеется, не могло не способствовать прогрессу в российско-американских отношениях. Появилась и реальная возможность интеграции Российской Федерации в сформированные Западом структуры безопасности и экономического развития – от АТЭС до «большой семёрки» («восьмёрки»).
В-третьих, хотя Российская Федерация и заняла место СССР в качестве великой державы – постоянного члена Совета Безопасности ООН, это новое независимое государство было в начале 1990-х годов крайне слабым и зависимым от поддержки со стороны Запада – поддержки финансовой, продовольственной, политической и даже просто эмоциональной. В этих условиях российско- американский диалог и не мог быть диалогом равных партнёров, и это обстоятельство сказывалось на состоянии российско-американских двусторонних отношений.
В начале 1990-х годов как в России, так и в США многие представители политических кругов полагали, что после окончания холодной войны и краха коммунизма нет и не может быть альтернативы союзу между новой, демократической Россией и Америкой. Как заявил в августе 1991 года министр иностранных дел Российской Федерации А. В. Козырев, «для демократической России США и другие западные демократии – настолько же естественные друзья, а в перспективе и союзники, насколько естественными врагами они были для тоталитарного СССР»4.
Двусторонние российско-американские документы, подписанные в начале 1990-х годов, свидетельствовали о готовности Москвы и Вашингтона добиться радикальной перестройки их взаимоотношений. В Кэмп-Дэвидской декларации, принятой 1 февраля 1992 года по итогам встречи в верхах президентов Дж. Буша-старшего и Б. Н. Ельцина, говорилось: «Отношения между Россией и Америкой должны строиться на следующих принципах.
Первое. Россия и Соединённые Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнёрство, основанные на взаимном доверии, уважении и общей приверженности демократии и экономической свободе.
Второе. Мы будем прилагать усилия к тому, чтобы избавиться от всех пережитков враждебности периода холодной войны, в том числе мы будем предпринимать шаги по сокращению наших стратегических арсеналов.
Третье. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы способствовать благосостоянию наших народов и расширить, насколько возможно, отношения между нашими народами. Открытость и терпимость должны стать отличительным признаком отношений между нашими народами и правительствами.
Четвёртое. Мы будем активно содействовать свободной торговле, инвестициям и экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами.
Пятое. Мы будем предпринимать все необходимые усилия для распространения наших общих ценностей и идеалов демократии, верховенства закона, соблюдения прав человека, включая права национальных меньшинств, уважение государственных границ и мирные изменения на земном шаре.
Шестое. Мы будем предпринимать активные совместные усилия для того, чтобы:
– препятствовать распространению оружия массового поражения и связанных с этими видами оружия технологий, сдерживать распространение новейших обычных систем оружия в соответствии с принципами, которые будут согласованы;
– мирным путём разрешать региональные конфликты;
– бороться с терроризмом, торговлей наркотиками и не допустить ухудшения состояния окружающей среды»5.
Таким образом, в Декларации констатировалось прекращение холодной войны между Россией и Америкой и установление партнёрских отношений между двумя странами.
При этом, однако, с самого начала считалось само собой разумеющимся, что это российско-американское партнёрство не будет равноправным. Через полгода после Кэмп-Дэвидской декларации была принята Хартия российско-американского партнёрства и дружбы, в которой, в частности, говорилось, что «Соединённые Штаты Америки намерены продолжать сотрудничество в целях укрепления демократических институтов и построения правового государства в Российской Федерации, включая независимую судебную систему и создание механизма гарантий соблюдения прав личности»6. Иными словами, это самое «российско-американское партнёрство» оказывалось вполне совместимым с прямым американским вмешательством во внутренние дела РФ.
После того как по итогам выборов 1992 года в Белом доме сменился хозяин, российское и американское руководство подтвердило намерения коренным образом изменить характер российско-американских отношений. Как было указано в Ванкуверской декларации, принятой по итогам российско-американского саммита 3–4 апреля 1993 года, «Президент Российской Федерации Б. Ельцин и Президент Соединённых Штатов Америки Б. Клинтон заявили о своей твёрдой приверженности динамичному и эффективному российско-американскому партнёрству, которое является важным фактором укрепления международной стабильности. Президенты согласовали всеобъемлющую стратегию сотрудничества в целях продвижения демократии, безопасности и мира. Президент Б. Ельцин подчеркнул твёрдую приверженность России развитию демократии, верховенства права и рыночной экономики. В период, когда США приступают к оздоровлению своей экономики, Президент Б. Клинтон заверил Президента Б. Ельцина в активной поддержке со стороны США народа России, идущего по суверенно избранному им пути политических и экономических реформ». Конкретно в Декларации говорилось и о гармоничной интеграции «России в общество демократических стран и мировую экономику», и о развитии «российско-американских отношений во всех областях»7.
Нельзя сказать, что эти заявления на высшем уровне были лишь, так сказать, сотрясением воздуха. На протяжении 1992–1993 годов было подписано свыше 50 (!) межправительственных российско- американских соглашений, которые затрагивали самые разные сферы двусторонних отношений – от ограничения и сокращения ядерных вооружений до защиты окружающей среды.
В то же время, судя по директивным документам российских и американских руководителей, уже тогда наметились различия в понимании в Москве и Вашингтоне содержания таких понятий, как «партнёрство» и «развитие отношений».
Вот что говорилось, например, о месте России в постбиполярном мире и о российско-американских отношениях в российском директивном документе «Концепция внешней политики Российской Федерации»: «Закладывается основа равноправного партнёрства с соседними, ведущими демократическими и экономически развитыми странами на базе отстаивания наших ценностей и интересов через реальное взаимодействие, а не шараханье от конфронтации к утопиям»8.
Конкретно о Соединённых Штатах в документе было сказано, что там «преобладающей тенденцией, опирающейся на двухпартийную основу, является линия на наращивание сотрудничества с Россией». Далее в документе, правда, отмечалось, что «в военностратегической сфере начавшееся партнёрство, создание совместных (а не «уравновешивающих») инструментов обеспечения безопасности будет, судя по всему, наталкиваться на попытки правоконсервативных кругов США обеспечить себе в процессе разоружения односторонние преимущества», однако, как полагали составители «Основных положений», эти негативные тенденции можно преодолеть за счёт конструктивного подхода Москвы: «Наша активная линия в укреплении российско-американских связей, аккуратное выполнение взятых на себя обязательств, деловитость в осуществлении согласованных планов будут работать в пользу нейтрализации этих явлений, расширения в США социальной базы в поддержку конструктивных тенденций в наших отношениях, укрепляя фундамент долгосрочного курса на партнёрство с Россией»9.
Как видно, тогдашнее российское руководство исходило из того, что партнёрство России с Западом (и с Соединёнными Штатами) будет «равноправным», а все возникающие между сторонами проблемы можно решить посредством конструктивного, доброжелательного диалога. При этом в российских кругах ожидали, что официальный Вашингтон поможет своему новому союзнику в том, чтобы:
– принять Россию в евроатлантические экономические и оборонительные структуры – НАТО и Евросоюз;
– предоставить РФ помощь для осуществления посткоммунистической трансформации (так сказать, «план Маршалла номер два»).
В Москве рассчитывали также на то, что Соединённые Штаты не будут препятствовать российским усилиям по экономической и военно-политической интеграции на постсоветском пространстве – ведь не мешали же американцы западноевропейской интеграции во главе с Германией, заклятым врагом в ходе Второй мировой войны.
Проблема, однако, состояла в том, что у американских «партнёров» был иной взгляд на российско-американские отношения. Так, в Руководстве оборонного планирования 1992 года ключевым положением стала попытка закрепления ситуации, сложившейся в Евразии после окончания холодной войны. «Военной и политической миссией США в период после холодной войны должно стать противодействие появлению враждебной супердержавы в Западной Европе, Азии или на территории бывшего СССР», – говорилось в Руководстве. России авторы документа уделяли повышенное внимание, отмечая возможность «возрождения угрозы» со стороны Москвы10.
А в утверждённой президентом Дж. Бушем-старшим в январе 1993 года Стратегии национальной безопасности отмечалось, что и после окончания холодной войны американское лидерство необходимо и самой Америке, и всему человечеству: «Хотя мы будем сотрудничать с другими странами, наш статус выдающейся мировой державы с уникальными возможностями накладывает на нас большую ответственность. И если мы хотим извлечь какой-то урок из часто трагической истории этого столетия, то это, во-первых, то, что будущее неопределённо, а во-вторых, то, что мир нуждается в лидерстве, которое может обеспечить только Америка»11.
В документе также достаточно ясно было сказано, что Вашингтон и впредь будет делать ставку прежде всего на своих традиционных, обретённых ещё в годы холодной войны, союзников – и именно с помощью этих союзников Соединённые Штаты должны «поддерживать стабильность и экономические и политические реформы в Восточной Европе и на постсоветском пространстве». И далее: «Это наш главный внешнеполитический приоритет сегодня. Мы должны сделать это путём твёрдой политической поддержки реформистских движений и расширения широкой правительственной и неправительственной помощи. Это включает в себя макроэкономическую поддержку для расширения перспектив долгосрочной институциональной реформы, техническую, экономическую помощь, а также гуманитарную и медицинскую помощь для содействия краткосрочной стабильности»12.
Россия в документе не была упомянута ни разу – говорилось лишь о каком-то аморфном «постсоветском пространстве». Из бывших союзных республик были поимённо упомянуты лишь Белоруссия, Казахстан и Украина в связи с их намерением присоединиться к Договору о нераспространении в качестве безъядерных государств13.
Иными словами, американский подход к российско-американским отношениям явно не соответствовал российскому: с точки зрения официального Вашингтона, ни о каком «равноправном партнёрстве» и речи не было, как, впрочем, и о линии «на наращивание сотрудничества с Россией».
И в дальнейшем сохранялось несовпадение взглядов Москвы и Вашингтона на российско-американские отношения. Так, например, в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой в 1997 году, сказано: «Российская Федерация будет продолжать развитие конструктивного партнёрства с Соединёнными Штатами Америки, Европейским Союзом, Китаем, Японией, Индией и другими государствами. <…> Непременным условием реализации внешнеполитических усилий России должно стать создание обращённой в XXI век модели обеспечения глобальной, региональной и субрегиональной безопасности, основанной на принципе равенства и неделимой безопасности для всех. Это предполагает создание принципиально новой системы европейско-атлантической безопасности, в которой координирующую роль играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; наращивание усилий по созданию многосторонних структур, обеспечивающих сотрудничество в сфере международной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Азии»14.
В том же году президент США У. Клинтон утвердил Стратегию национальной безопасности, в которой говорилось не о равенстве и «неделимой безопасности для всех», а об американском лидерстве («Американское лидерство и участие в мировых делах жизненно важны для нашей безопасности, и в результате мир становится более безопасным местом»)15. Что касается европейской безопасности, то, по мнению составителей данного документа, ведущую роль в обеспечении общеевропейской безопасности должна играть не ОБСЕ (как полагали в Москве), а НАТО. «НАТО остаётся фундаментом американского участия в Европе и стержнем трансатлантической безопасности. Будучи гарантом европейской демократии и опорой европейской стабильности, НАТО должна играть ведущую роль в продвижении более интегрированной и безопасной Европы, готовой реагировать на новые вызовы»16.
Правда, в клинтоновской Стратегии национальной безопасности (СНБ-1997) Россия упоминалась, но лишь в контексте западной помощи «развивающимся демократиям» на постсоветском пространстве: «Мы должны продолжать руководить усилиями по мобилизации международных экономических и политических ресурсов, как это было с Россией, Украиной и другими новыми независимыми государствами»17.
Судя по СНБ-1997, американская сторона собиралась контролировать и внутриполитическое, и экономическое развитие этих стран, включая и РФ: «Мы должны предпринять решительные действия, чтобы помочь противостоять попыткам обратить демократию вспять. <…> Мы должны предоставить демократическим странам все преимущества международной экономической интеграции. <.> Мы должны помочь этим странам укрепить основы гражданского общества, поддерживая программы отправления правосудия и верховенства права, содействуя развитию демократических гражданско-военных отношений и обеспечивая подготовку в области прав человека для полицейских и сил безопасности»18. Очевидно, с получателями экономической помощи и учениками в западной школе демократии вряд ли кто-нибудь будет вести равноправный диалог.
Это несовпадение российских и американских ожиданий от развития российско-американских отношений в постбиполярном мире стало особенно заметным во второй половине 1990-х годов, когда чётко проявились различия в подходах Москвы и Вашингтона к таким международным проблемам, как расширение НАТО на восток и ситуация в бывшей Югославии. Хотя о возможности вступления РФ в НАТО Москва заявила ещё в октябре 1993 года, в Вашингтоне никогда не рассматривали это всерьёз. Так, например, президент У. Клинтон полагал, что идея членства России в Североатлантическом альянсе «витает в заоблачных высотах»: «Если и настанет день, когда Россия вступит в НАТО, очевидно, что это будет совершенно другая Россия, другая НАТО и другая Европа»19.
Во время официального визита У. Клинтона в Россию в январе 1994 года президент Б. Н. Ельцин был вынужден согласиться с неизбежностью расширения НАТО (о чём президент США заявил в ходе пресс-конференции с членами Вышеградской группы 12 января 1994 года), но при этом поставил вопрос перед своим американским гостем о том, что «Россия должна быть первой страной, вступившей в НАТО», после чего, по мнению Б. Н. Ельцина, за ней последуют другие государства Центральной и Восточной Европы. В ответном слове У. Клинтон заявил о «величии России», но о членстве России в НАТО не сказал ничего20.
Дав понять русским, что о членстве в Североатлантическом альянсе нечего и мечтать, американцы в то же время взяли курс на расширение НАТО за счёт бывших социалистических государств на востоке Европы и даже постсоветского пространства. Как говорилось в СНБ-1997, «новые демократии в Центральной и Восточной Европе также играют ключевую роль. Возможная интеграция в европейские организации безопасности и экономики, такие как НАТО и ЕС, поможет зафиксировать и сохранить впечатляющий прогресс, достигнутый этими странами в проведении демократических и рыночных экономических реформ»21.
В данном конкретном случае слова Вашингтона не разошлись с делами. Два года спустя, в ходе юбилейного саммита Североатлантического альянса в 1999 году, было принято решение о приёме в НАТО трёх стран Центральной и Восточной Европы – Польши, Венгрии и Чехии.
Это решение было воспринято в Москве крайне негативно – как нарушение обязательств о нерасширении НАТО на восток, которые были предоставлены западными лидерами ещё М. С. Горбачёву22.
На наш взгляд, лучше всего позицию тогдашнего вашингтонского истеблишмента по вопросу о необходимости расширения НАТО на восток выразил Зб. Бжезинский в своей книге «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» (The Choice: Global Domination or Global Leadership): «Расширение ЕС и НАТО является логическим и неизбежным результатом благоприятного исхода холодной войны. После исчезновения советской угрозы и освобождения Центральной Европы от советского господства сохранение НАТО в качестве оборонительного союза против уже несуществующей советской угрозы не имело бы никакого смысла. <…> У Европейского Союза и НАТО нет выбора: чтобы не утерять приобретённые в холодной войне лавры, они вынуждены расширяться». При этом, как пишет Зб. Бжезинский, «совершенно невероятно, чтобы в ближайшем будущем, например, в течение десяти лет, Россия стала членом НАТО»23.
Pulsuz fraqment bitdi.