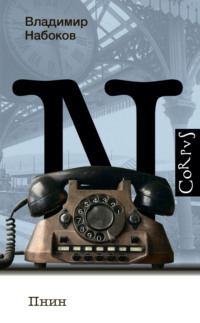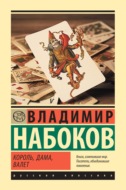«Пнин» kitabının rəyləri, səhifə 2, 67 rəylər
Американский роман Набокова о комичном русском профессоре, который вот уже в который раз вынужден поменять родину, но с одной стороны не унывает в своей жизненной суете, а с другой — копни чуть глубже, и вскрываются страшные травмы, некоторые из которых преследует Пнина и по сей день, и принципиальные проблемы эмигранта (человека, вечно неприкаянного, живущего с ощущением, что у него в итоге ничего нет).
Но всё это лишь на поверхности. Набоков не был бы Набоковым, если бы не провернул тут очень интересный финт — он вводит в повествование самого себя (в лице рассказчика N., который сам явным образом появляется в романе), а ближе к концу нам несколько раз невзначай показывают, как яростно чудаковатый Пнин протестует против версии событий N.
Дело здесь однако не в том, что N. — ненадёжный рассказчик (как Гумберт в "Лолите"), а скорее в том, что будущего не существует, настоящего тоже (мы можем воспринимать и оценивать его лишь ретроспективно, через память), нам доступно одно лишь прошлое. Но и прошлого ведь тоже не существует! В лекциях о Пушкине Набоков говорит, что если поместить нас в золотой век — мы его не узнаем. Если Пушкину показать тот образ Пушкина, который есть у каждого из нас в голове — он тоже не узнает сам себя. Даже исследователь жизни великого поэта вроде Набокова понимает, что его Пушкин — это лишь третьесортный актёришка, изображающий в провинциальной пьесе Пушкина настоящего. Однако, если мы вкладываем в своего Пушкина (а другого у нас и нет) всю ту любовь и нежность, что мы питаем к Пушкину настоящему, то, может, и ладно?
Вот этому на мой взгляд и посвящён "Пнин" — отношениям автора со своими героями, основанными на настоящих людях, но неминуемо заживших своей собственной трогательной жизнью. И более того, сам автор здесь тоже становится одним из героев, и литературный лабиринт уходит на второй круг, приглашая к богатым размышлениям о природе творчества.
Из обширного послесловия переводчика, где тот пускается в совсем уж непроходимые дебри, мне понравилось ещё одно наблюдение. В одной из глав героиня идёт ответить на телефонный звонок, и тут вдруг автор даёт странноватое отступление о жизни на турецких улочках. Отгадка находится в самом конце главы, где мельком упоминается висящая в коридоре "акварель с минаретами". Читателю здесь следует догадаться, что отступление возникло вслед за блуждающим взглядом Джоаны на пути к телефону. По-моему, запрятано это было чересчур глубоко, но вообще приём довольно красивый.
Я, кстати, начал читать оригинал, но не осилил, во второй главе задавило ощущение, что описательная часть в основном проходит мимо. С другой стороны в переводе теряется львиная доля набоковского юмора, а также (в данном случае) множество каламбуров и шуток, связанных с корявым английским титульного героя, так что выбор тут непростой. Котируется в основном доработанный к 2006 году перевод Барабтарло (на него я и перешёл), а также перевод Ильина 1993-го. Роман, впрочем, как и обычно у Набокова, явно рассчитан на перечитывания, так что заодно можно и варьировать.
самый смешной, трогательный, откровенный и сложный роман набокова, который я читала! советую сто тысяч раз!’
жизненные перипетии беззащитного и трогательного тимофея пнина – чудокаватого русского интеллигента в эмиграции, профессора русской филологии, скверно владеющий английским языком, что заводит его в баснословно забавные положения.
густое повествование, перенасыщенное деталями, коварными ловушками и авторской иронии, тематическими повторениями (казалось бы, причем здесь белки?) и сложно-сплетённой композиции, которая состоит из нескольких версий происходящих событий, изложенных и самим набоковым-рассказчиком.
набоков демонстрирует темпоральную ограниченность человека, который способен видеть только кусочек времени, но реальная взаимосвязь явлений закрыта от него. роман об ошибках, квинтэссенции человеческой боли, «отъединённости» и страданиях.
после прочтения ознакомьтесь со статьёй и лекцией. вам откроется гениальность и мастерство набокова!
Общее впечатление от книги. Бывало ли у вас ощущение, будто и не выезжал из родных пенат? После первых глав, я поняла, что окутана атмосферой дома))) Ну, с учётом, что работа второй дом.
Сюжет. Бытовой.
Герои. Автор знакомит нас с профессором русского языка. Непримечательный мужчина или все же примечательный? В разводе, живёт за границей.
Язык и стилистика. Язык Набокова сложен, многослоен, специфичен. Он увлекает в свой водоворот. В одной из рецензий я читала, что
романы, после которых ощущаю себя не то что дурой, но человеком , не умеющим связать двух слов.
Соглашусь, ибо данное произведение отпустило прям ниже плинтуса своим стилем.
Свои ощущения. Я начала знакомство с этим произведением с аудио, потом перешла на электронную версию, а потом опять вернулась к аудио. Почему именно так? Да все просто - я не понимала ЧТО Я ЗА КНИГУ ВЗЯЛА. Чуть позже я наконец-то распознала "свое родное болотце". Да, не смейтесь, все относящиеся к когорте учёных доцентов и профессоров прекрасно понимают нюансы этой научной жизни. Как говорится, все они не от мира сего. Кроме того книга, которая попала мне в руки содержала комментарии переводчика. Данные главы представляли собой подробнейший разбор всего произведения с отсылками на пояснения самого Набокова. Книга также содержит большое количество упоминаний других книг. А дискуссия по Анне Каренине просто выбила меня из коллеи:
— Право, не будем упоминать таких астрономических цифр, — сказал Болотов, подходя и заменяя травинкою палец, служивший ему закладкой. — А знаете, — продолжал он, пожимая Пнину руку, — я в седьмой раз перечитываю «Анну Каренину» и получаю такое же наслаждение, как не то что сорок, а целых шестьдесят лет тому назад, когда я был семилетним мальчиком. И каждый раз открываешь что-нибудь новое — например, теперь я замечаю, что Лёв Николаич не знает, в какой день начинается его роман. Как будто в пятницу, потому что в этот день к Облонским приходит часовщик заводить в доме часы, но может быть и в четверг, как следует из разговора Лёвина с матерью Кити на катке. — Да не все ли равно! — воскликнула Варвара. — Ну кому, скажите на милость, нужно знать точный день? — Я могу вам назвать этот день совершенно точно, — сказал Пнин, мигая от переменчивого солнца и вдыхая столь памятный острый дух северных сосен. — Действие романа открывается в начале тысяча восемьсот семьдесят второго года, именно в пятницу, двадцать третьего февраля по новому стилю. В своей утренней газете Облонский читает о том, что Бейст, по слухам, проследовал в Висбаден. Это, конечно, граф Фридрих Фердинанд фон Бейст, которого как раз назначили австрийским посланником при английском дворе. После представления верительных грамот Бейст уехал на континент на несколько затянувшиеся рождественские каникулы — провел там два месяца со своей семьей, и теперь возвращался в Лондон, где, как он пишет в своих воспоминаниях в двух томах, шли приготовления к благодарственному молебствию двадцать седьмого февраля в соборе Св. Павла по случаю выздоровления принца валлийского от тифа.
Если сам роман Вл. Набокова «Пнин» был написан на английском и, скорее всего, обдумывался по-английски, то фамилия главного героя, наверное, была связана с размышлениями именно на русском языке. Как представляется, она происходит от слова «пень», отвечающего на вопрос: «Чей?» И уже в самом названии романа заложена некая характеристика персонажа, некие его свойства, которые как бы будут раскрыты в дальнейшем повествовании. Однако это имя дано вовсе не в уничижительном смысле, а затем, похоже, чтобы обозначить присущий герою некий налет странности, тщедушного комизма, которые выделяются в этом в общем-то умном, интеллигентном человеке. И следует сказать, с каким изысканным мастерством Набоков в каждой главе, в каждом эпизоде романа пытается опровергнуть значение слова, которое невольно связывается с именем главного героя. Тема обремененного талантом человека возникала в творчестве Набокова неоднократно. Но если в «Защите Лужина» или в романе «Дар», главный герой жил как бы сам по себе, в своем замкнутом мире, воспринимая внешнюю среду исключительно исходя из собственного мировоззрения и собственных чувств, то здесь он волею обстоятельств уже должен считаться с множеством других характеров и типов людей, в той или иной степени чуждых или полезных ему. Его мысленные характеристики людей проходят красной нитью через все повествование и являются ценным материалом для восприятия самой этой необычной натуры. Вообще читать Набокова — это всегда истинное наслаждение. Блеск фантазии и бесподобные речевые выверты делают его прозу настоящим произведением искусства. В форме литературного повествования он умел соединять красоту языка (как русского, так и английского, как говорят переводчики) с неподражаемым умом, богатой палитрой интересного рассказчика. Описанные в романе якобы нудные споры о значении некоторых слов моментально включают читателя в поэзию морфологии русского языка и странную абстрагированность от того, что происходят они не в самой России, а где-то среди эмигрантских кругов, где и дела-то до измененных значений слов и правил их написания никакого в принципе не должно быть. И, погружаясь в них, даже тому небольшому количеству студентов, посещающих его курс славистики в местном университете, хочется сказать, что им несказанно повезло с таким необычным преподавателем. По поводу неоправданной усложненности художественной хронологии и синтаксиса в романе поначалу возникает ощущение, что Набоков просто-таки издевается над читателем, если не знать, что данный прием, подмеченный им у Н.В. Гоголя, писатель использовал намеренно. Переплетающиеся по времени истории, изложенные то другом Пнина по эмиграции, немцем Коккерелем, то неким сторонним наблюдателем N, то от имени собственно главного героя в конце концов складываются в единую повествовательную картину, раскрывающую мир богатого на впечатления, своеобразного, душевного, непростого, но чрезвычайно органичного человека, главным стимулом к жизни которого является природа мысли и большая любовь, истинная интернациональность поэтической и прозаической лексики. Его вечерние посиделки с коллегами по ремеслу, как бы закадровые их характеристики и элементы быта, квартирки с бесчисленными книгами насыщают роман неуемным беспокойством героя и одновременно его некой основательностью, приверженностью к чему-то русскому в этой далекой богатой стране, где он остановился и начинает устраиваться, постоянно меняя при этом место жилья. И тут же отдельной главой дается исходящая из дальних уголков воспоминаний история созревания и приезда в его «походную» эмигрантскую обитель его сына Виктора. Отношения их не сложились, да и не могли по-настоящему сложиться, поскольку по тем описаниям жизни мальчика и их скупым с отцом диалогам можно заключить, что это совершенно разные люди. Произведение наполнено легкостью и одновременно некой невразумительностью, хотя по сути своей, несмотря на относительную краткость, должно было бы претендовать на настоящий, многослойный и глубокий, роман. Но, как обычно, «порхание бабочек» Набокова, мне кажется, заняло собой всю сердцевину замысла, отчего его повествование потеряло в конкретике и детализации, но отнюдь не стало менее значительным. Наоборот, именно из-за этого оно приобрело свою утонченность, изысканность и гармонию, чем и славятся проза и стихи Владимира Набокова.
«Пнин» Владимира Набокова – университетский эмигрантский роман, в какой-то мере автобиографический. Профессор Тимофей Павлович Пнин преподаёт русский язык в провинциальном американском университете. Мы встречаем героя в неправильном поезде, куда он сел по ошибке. Ошибку Пнин совершил самостоятельно, вообразив себя продвинутым специалистом в местной логистике.
На протяжении семи глав романа Пнин совершит немало других, характерных для него промахов в житейских и профессорских делах. Очень неловкий человек. Подозреваю, что академическая среда – заповедник для многих душ, родственных этому набоковскому герою.
Мы познакомимся с остальным преподавательским составом (тоже не претенденты на «звание высокой культуры быта»). Заглянем в жизнь героя на родине до эмиграции, в молодые годы его подстерегали неурядицы личной жизни. Встретим интересного молодого человека из первого пост-эмигрантского поколения эльфов.
Истории от начала до конца здесь нет, только фрагменты, но очень выразительные. Промежутки легко заполняются в воображении. Самое интересное – переживания главного героя об отношениях с рассказчиком, Набоков вообще оставил за кадром.
Университетский городок создаёт ощущение уюта. Текст вводит в гипнотическое состояние тихого восторга и не отпускает до конца книги. Как относится к главному герою, я не определилась. Может быть он жалкий неудачник, не стоящий доброго слова, а может вполне достойный человек, с богатой внутренней жизнью)) Как тут разберешься.
Роман об эмиграции, о неудачах, неустроенности и обоюдном снобизме. Непонятно, зачем я читаю всякую ерунду другие книги, если у меня есть целый непрочитанный Набоков.
Данная книга - история преподавателя русской словесности, который пытается пустить корни в Америке. Этот роман называют самым добрым из всех произведений Набокова, и действительно Пнин создан с особой любовью. Персонаж, несмотря на все свои недостатки, промахи и неуклюжести, а скорее даже благодаря им, вызывает только теплые чувства.
Сердце сжималось от каждой рассказанной истории, от каждой несправедливой случайности, от страшно разбитой любви и от беспощадно мчащегося вперед локомотива времени, за которым не угнаться…Светлая печаль пронизывает весь этот невероятно красивый текст.
Хороший представитель университетского романа!
Как много страданий принесла вынужденная эмиграция выходцам из России и как много она принесла мировой культуре, в частности литературе. Еще одно прекрасное творение Владимира Набокова...
Роман сколь прекрасный, столь же и глубокий, многослойный, непростой. Как и непростая судьба его главного героя. Тимофей Павлович Пнин, преподаватель русского языка и литературы в американском колледже (наверное, роман несет в себе автобиографические черты самого создателя). (почему-то в моем сознании имя "Тимофей" упорно не вяжется с личностью героя, оно как-то не подходит ему...) Одинокий, часто рассеянный, не очень везучий, человек, ведущий довольно замкнутый образ жизни (в силу склада характера и в силу обстоятельств).
Драма одиночества и разобщенности. У автора на сей счет, правда, несколько иное мнение: что, мол, только в силу разобщенности, отделенности (читай: самостоятельности) человек и становится человеком, личностью, отдельной единицей. Но так то же в нормальных условиях, в нормальной привычной (адекватной) среде. Здесь же герой один. Русский язык совсем не востребован (на курс записалось всего несколько человек, да и тем он и не особо нужен...), близких приятелей у Пнина нет, нет любимой женщины, нет детей. Единственная отдушина - любимая работа, любимое дело жизни (наука, занятия языками и словесность), но и это дело хотят у него отнять (кафедру скоро расформируют)…
Печальный большей частью роман, роман о чем-то давно ушедшем, потерянном, не сложившемся (и оттого герой нет-нет да предается воспоминаниям, от которых еще больше горечи). Роман о разлуке: с Родиной, близкими, просто соотечественниками. Тяжелый разрыв, который наложил такой большой отпечаток на всю дальнейшую жизнь.
Как была прожита эта непростая жизнь, читатель убедится сам, прочтя этот замечательный роман и самостоятельно отрефлексируя чувства и переживания героя. Потому и оценка 4/5: это очень насыщенный описаниями, красивыми метафорами (интерьеры, обстановка, природа, внешность), но очень мало автор нам рассказал о внутреннем мире этого интеллигентного мужчины, мало поведал о его переживаниях. Не хватило мне в этого романе. По пять страниц сплошного текста с описанием красивой обстановки в комнате, вплоть до того какие вазы и книги стоят на этажерках и совсем ничего о том, что испытывал Пнин, глядя на все это великолепие, ничего по поводу отношения его к пасынку (детей у него не было, но был сын у любимой им некогда женщины, Лизы, которая ушла к другому мужчине; Пнин хотел его даже усыновить).
Это был очень закрытый от мира человек (как здесь потрясающе рассказывается о его занятиях наукой. посещении библиотек и проч. - мне всегда нравится это в книгах). поэтому и задача писателя, на мой взгляд, в том и состоит, чтобы явить его миру, показать этот огонь страстей, который бушевал в нем, несмотря на внешнюю сдержанность и может даже, холодность и отстраненность (что другие принимали за чудачество, высокомерие или просто странность характера). Но нет. Все читателю приходится додумывать самому. А я, наверное, из числа ленивых читателей, которые всегда ждут подсказки от автора...
я покинул родину тчк позади осталась красно-белая река революции тчк впереди земля кочевников и неизвестность тчк со мной мой каламбур зпт английский и французский зпт желание новой жизни тчк я взял с собой чемодан стилистических иллюзий и фокусов зпт вытряхну его в своем новом произведении тчк когданибудь к нему напишут большое эссе зпт в нем опишут фантастическую истину этого произведения тчк я надеюсь что телеграмма дойдет раньше и вызовет улыбку тчк читайте так как будто вы просто читаете зпт не будьте профессором или лингвистом зпт не будьте литератором тчк будьте просто читателем тчк
Увы, но навести порядок полностью, в своей жизни, данному герою, на мой взгляд, не удалось. Перед нами предстает довольно наивный интеллигент-эмигрант, который вынужден был перебраться из России в Европу, а затем и в США. О, сколько ожиданий чудес и прекрасной жизни было в его сердце!
Тимофей Пнин, со всей широтой русской души, показывает свою искренность новому окружению, преданность американскому укладу жизни, активность в социализации, но это никто не ценит, на самом деле. В США он получает довольно скромное вознаграждение от своих "щедрот": должность профессора русского языка, в провинциальном институте, стесненное жилье, в виде комнаты, в арендованном коттедже и отношение к себе как к большому, милому, но глупому ребенку или к экзотическому существу, из далекой России.
Но Пнин слеп, в переносном смысле, конечно же, он добрый человек, по сути, но недальновидный, способный рассуждать долго и много о политике, философии, копаться в поисках разгадки русской души, но по факту, он сам не может нормально доехать до места чтения лекций. Он - комнатное растение, которое выкинули с горшком, на мороз.
К сожалению, многие видят на нем эти розовые очки и пользуются его верой в лучшее. Так, им легко вертит его бывшая жена, которая финансово привязывает Пнина к своему сыну, рожденному от другого мужчины. И автор знакомит читателя с непростыми ситуациями, куда забрасывает Пнина, показывая его нелепость, но также и доброе сердце.
Это, пожалуй, один из самых странных романов Набокова, но он затягивает с первых страниц и ценители его творчества не будут разочарованы данным произведением.
Несмотря на то что при Открытии Олимпиады в видеоазбуке ценностей России на букву "Н" был Набоков, это мой первый опыт знакомства с автором, можно сказать, читательский дебют. Интуитивно я подозревал, что творчество писателя должно понравиться, и оно займет достойное место на моей читательской полке. Так и вышло.
Что нового я вынес из чтения данного произведения? Набоков несомненно обращается к русской классической традиции, но с поворотом к европейским модернистам. Начинается роман как произведение о маленьком человеке, постепенно переходящее в campus-novel. Начало напомнило мне прозу Зингера - рассказ о лекторе, путешествующем в поезде. Действие усложняется и произведение становится ироничной игрой, где марионетки автора - рассказчик-персонаж-автор и персонаж-герой. Акценты постоянно смещаются. И мне стало очевидно, что субъективная картина, рисующаяся воображением рассказчика может быть искаженной (ладно, некоторая доля понимания возникла, благодаря плодотворной дискуссии в блоге френда). Похожий прием встречал у Кадзуо Исигуро в "Художнике зыбкого мира", когда сознание героя сыграло со мной шутку и субъективная картина, нарисованная персонажем, потеряла четкость и стала "зыбкой", как ночной мир рисунков художника Исигуро. Но вернемся к моему Набокову. Набоков... Игра автора с персонажами усложняется темой двойничества, и она же отчасти доводит искажение до видимого предела. Двойничество - частая тема литературы, истоки которой можно найти в романтизме. В русской литературе я впервые столкнулся с ней в рассказе Достоевского "Двойник". Но если у Федора Михайловича произведение носит некий мистический оттенок, то у Набокова - психологический. Кто видел "Отчаяние" Фассбиндера по роману автора, а может читал другие произведения (сошлюсь на участника дискуссии, мой-то все ж первый опыт), помнит, что доппельгангер Набокова имеет иллюзорный (шизофренический?) характер. Все эти эксперименты с персонажами, смыслами, формой и есть наиболее интересная черта литературы, интересная мне. Набоков оказался тут не исключением. Viva, автор! Продолжение знакомства с творчеством писателя следует...