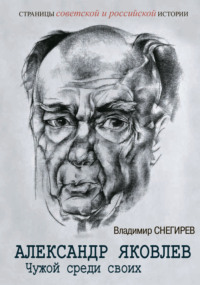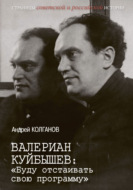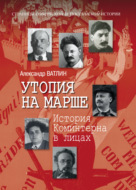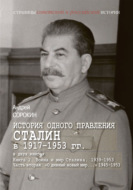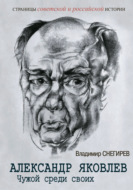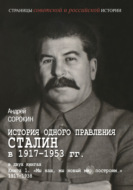Kitabı oxu: «Александр Яковлев. Чужой среди своих. Партийная жизнь «архитектора перестройки»»

© Снегирев В. Н., 2023
© Фонд поддержки социальных исследований, 2023
© Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), иллюстрации, 2023
© МИА «Россия Сегодня», иллюстрации, 2023
© Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований имени М. С. Горбачева (Горбачев-Фонд), иллюстрации, 2023
© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2023
© Российский государственный архив новейшей истории, иллюстрации, 2023
© Политическая энциклопедия, 2023
Предисловие автора
В минувшем веке два глобальных перелома сказались не только на судьбе нашей страны, но и на всем мировом историческом процессе в целом. Первый – октябрьский переворот 1917 года и последовавший за ним раздел мира на два противоборствующих лагеря. Второй – начавшаяся в середине 80-х перестройка, завершившаяся крахом социалистической системы, распадом огромного многонационального государства, окончанием холодной войны.
Если о далеких событиях революции, Гражданской войны, становления советской власти мы знаем достаточно хорошо, то этого не скажешь о тех совсем недавних годах, круто изменивших жизнь миллионов людей. Весь ход перестройки – от ее замысла, претворения в жизнь, наконец, ее неожиданного финала – содержит в себе множество тайн. Носителями этих тайн были конкретные личности, те самые руководители КПСС, которые в 1985 году позвали всех нас пробудиться от долгого летаргического сна, активно включиться в процесс ломки старых и отживших свое правил, продолжать строительство «социализма для людей».
Одним из таких деятелей, безусловно, был Александр Николаевич Яковлев. С его именем связаны едва ли не все главные завоевания и провалы перестройки. Он стал ближайшим соратником М. С. Горбачева, последовательным сторонником гласности, инициатором самых радикальных демократических реформ. Недаром его называли «архитектором» перемен, их «прорабом».
Отношение к Яковлеву и со стороны обывателя, и со стороны элит всегда было далеко не однозначным. Для одних он – светоч свободы, бескорыстный и бесстрашный борец за лучшее будущее, настоящий патриот страны, для других – разрушитель коммунистической партии, могильщик социализма, марионетка самых враждебных империалистических сил.
И каждая сторона в защиту своих версий приведет множество аргументов.
Написать биографию Александра Николаевича оказалось очень непросто. Это только на первый взгляд задача, не доставляющая особых проблем. Да, он оставил после себя целый ряд книг, в том числе автобиографического характера, и другими авторами о нем тоже много всего написано. Есть архивы, хранящие документы, связанные с его партийной, дипломатической, научной и иной деятельностью. Живы люди, близко соприкасавшиеся с ним. Но на самом деле погрузиться в его жизнь, понять логику ряда ключевых моментов этой жизни – значит обречь себя на множество забот. Ибо там сплошные загадки. И чем глубже погружаешься в эту жизнь, тем больше становится вопросов.
Хотя, повторяю, внешне все вроде бы гладко.
Родился и вырос в ярославской деревне, в семье, где отец был вначале справным крестьянином, затем, после коллективизации, стал председателем колхоза, а мать так и осталась неграмотной селянкой. Окончил деревенскую школу и ускоренное военное училище.
Фронтовик, достойно воевал на Волховском фронте в составе бригады морской пехоты, был командиром взвода, получил там тяжелое ранение, после которого всю оставшуюся жизнь хромал на левую ногу.
Стал студентом пединститута, однако оттуда был направлен в партийную школу. Но ее вскоре расформировали, поэтому уже экстерном доучивался опять на истфаке того же педагогического.
В двадцать пять лет приступил к восхождению на вершины партийной карьеры, прошел по этой лестнице все ступени – от инструктора Ярославского обкома до члена Политбюро ЦК КПСС.
Знания добирал в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС, а шлифовал их, будучи стажером престижнейшего Колумбийского университета (США). Не без оснований считался крупным ученым в области международной политики, был директором одного из ведущих академических институтов.
Дипломат, занимавший пост посла СССР в Канаде на протяжении десяти лет.
В годы перестройки – заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС, секретарь ЦК, член Политбюро. Самым активным образом включился в процесс реформирования партии, переустройства всего советского общества.
В начале 90-х – соратник новой демократической власти, которому Кремль доверил руководство «Общественным российским телевидением», работу по реабилитации жертв политических репрессий, рассекречивание архивов.
Но, повторю еще раз, почти каждый жизненный этап этой биографии вызывает вопросы.
На протяжении более чем двадцати лет Александр Яковлев делал свою партийную карьеру, причем, как свидетельствуют документы и очевидцы, проявлял при этом большое старание. А если учесть, что он всегда состоял на идеологическом направлении, то надо признать: был ортодоксальным коммунистом, верным солдатом партии и даже, как уверяют некоторые источники, большим сталинистом, чем многие окружающие. Неизменно пользовался абсолютным доверием у «серого кардинала» М. А. Суслова, привлекался к написанию самых важных речей для Л. И. Брежнева.
Даже его знаменитая статья «Против антиисторизма», которая в 1972 году стала формальным поводом для отстранения Яковлева от работы в ЦК и последующей десятилетней «ссылки» в Канаду, не содержит ни намека на отступление от марксистско-ленинских позиций.
Все это дало его критикам повод утверждать, что во второй половине 80-х Яковлев «переродился», стал предателем интересов партии и социализма, одним из главных виновников распада системы и государства. Ведь тогда именно он показал себя сначала как последовательный реформатор, а затем как откровенный антикоммунист.
Что же произошло?
Если он был честен во все предшествующие годы, то на каком этапе случилась внутренняя ломка, пересмотр отношения к идеологическим догмам? Что стало толчком к отступничеству? Какие встречи, какие книги, какие жизненные коллизии разрушили его прежние взгляды, его веру в торжество идей марксизма-ленинизма?
Или он не был честен, а два десятилетия только искусно маскировался, ждал своего часа, чтобы поквитаться с социализмом?
Или – как утверждают уж совсем ярые его недоброжелатели – он и вовсе плясал под чужую дудку, был засланным казачком, «агентом влияния», завербованным еще в пору своей стажировки в Колумбийском университете?
Обратимся теперь к деятельности нашего героя на дипломатическом поприще. Об этом известно совсем мало, но, возможно, как раз здесь и кроется ответ на главный вопрос. Посол СССР, недавний крупный партийный функционер заводит дружбу с премьер-министром Канады, принимает у себя столпов североамериканского бизнеса, ведет с ними многочасовые беседы. И при этом едва ли не брезгливо относится к работающим под крышей диппредставительства сотрудникам КГБ и ГРУ, именно при нем тех массово высылают из страны пребывания, что дает повод генсеку Ю. В. Андропову обратиться в Политбюро с просьбой отозвать совпосла как не справившегося со своей работой.
Но Яковлева не только не отзывают. В его защиту выступает сам Михаил Андреевич Суслов. А другой секретарь ЦК Михаил Сергеевич Горбачев извлекает Александра Николаевича из канадской ссылки, делает его вначале директором крупного академического института, фактически научного филиала ЦК КПСС, а затем главным партийным идеологом.
Кажется, все происходившее с ним – вопреки логике, во всяком случае вопреки тем примитивным представлениям о жизни и карьере, которыми руководствуется большинство из нас.
Или еще загадка. Именно А. Н. Яковлев рекомендовал В. А. Крючкова на пост председателя КГБ. То есть продвинул наверх того самого человека, который вскоре положит на стол генерального секретаря бумагу, содержащую обвинения Яковлева в госизмене.
Кстати, этот эпизод также слабо представлен в нашей исторической литературе и мемуаристике. Глава Лубянки исходил якобы из информации неких секретных источников, согласно которым будущий член Политбюро был завербован американцами в период прохождения аспирантской стажировки в Колумбийском университете и все последующие годы являлся «агентом влияния». Горбачев вяло отреагировал на крючковский донос, сочтя его обычной интригой, однако можно себе представить, чем бы кончилась для Яковлева эта история в случае победы ГКЧП.
Так был он завербован или не был? «Агент влияния» или раскаявшийся догматик?
Еще вопрос: отчего на каком-то этапе разошлись пути Горбачева и Яковлева? Они оба достаточно долго гребли в одну сторону, глава партии и президент СССР доверял соратнику больше, чем другим. Но вдруг случился сбой… Поверил Горбачев своему главному чекисту Крючкову, таскавшему компромат на Яковлева? Пошел на поводу у Раисы Максимовны, которая ревновала к Александру Николаевичу, считая его «слишком умным»? Или были какие-то иные причины?
По сути дела, через судьбу А. Н. Яковлева можно проследить всю новейшую историю нашей страны, включая ее самые драматические эпизоды. Например, невидимое миру, но тем не менее весьма ожесточенное подковерное сражение между «западниками» и «почвенниками», жертвой которого Александр Николаевич, видимо, стал в начале 70-х. Или жесткое противостояние линии Е. К. Лигачева в руководстве партии, выразившееся, в частности, в оперативном реагировании на нашумевшую статью Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», которую с подачи Яковлева стали называть манифестом антиперестроечных сил. Или его отношение к попыткам приватизации государственного телевидения в ту пору, когда Яковлев руководил ОРТ.
В данной книге автор сконцентрировался на том периоде жизни Яковлева, который был связан с его партийной работой, – это примерно сорок лет из биографии Александра Николаевича, от Ярославского обкома КПСС до его служения в Политбюро ЦК и Президентском совете, а затем – распада партии, государства, системы.
Книга в значительной степени основана на документах из личного архива А. Н. Яковлева и других архивов, а также на воспоминаниях людей, лично знавших «архитектора перестройки». Особую благодарность автор выражает Н. А. Косолапову, который на протяжении ряда лет был помощником секретаря ЦК, кандидата в члены Политбюро, члена Политбюро, а ранее работал вместе с Александром Николаевичем в Институте мировой экономики и международных отношений. Много важных и интересных деталей также поведали личный секретарь партийного работника – С. К. Александров, отвечавшие за его безопасность офицеры 9-го управления КГБ СССР А. Е. Смирнов и А. А. Игнатьев.
Фамилии всех лиц, любезно согласившихся дать автору интервью, перечислены в конце книги, в разделе «Список использованных источников».
К сожалению, несмотря на все старания, автору не удалось встретиться и поговорить с сыном героя книги и его дочерью, которые под разными предлогами уклонились от интервью. Безусловно, это их право. Однако сам автор относит сей факт к своему упущению.
Хронология жизни А. Н. Яковлева
Родился 2 декабря 1923 года в деревне Королево Высоковского сельсовета Ярославской области в семье крестьянина. Отец – Николай Алексеевич Яковлев. Мать – Агафья Михайловна Яковлева.
По заключению Государственного архива Ярославской области, Яковлевы происходили из крепостных крестьян ярославских помещиков Молчановых. Первое упоминание о них есть в «Ревизской сказке» XVIII века.
1941, июнь – окончил среднюю школу в дереве Красные Ткачи (Ярославская обл.).
1941, август – призван на службу в Красную армию. Первоначально был рядовым в 30-м запасном артиллерийском полку. Затем в том же году зачислен курсантом 2-го Ленинградского стрелково-пулеметного училища, эвакуированного в Глазов.
1942, февраль – присвоено звание лейтенанта. Назначен на должность командира взвода, направлен для прохождения службы в 6-ю бригаду морской пехоты Балтийского флота.
1942, август – в ходе боя получил тяжелые осколочно-пулевые ранения.
1943, февраль – демобилизован. Стал студентом исторического факультета Ярославского пединститута. Одновременно с учебой выполнял обязанности зав. кафедрой военной и физической подготовки.
1944 – вступил в ряды ВКП(б).
1945 – женился. Супруга – Нина Ивановна (в девичестве Смирнова), училась на том же факультете Ярославского пединститута.
1945–1946 – слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).
1946–1948 – инструктор Отдела пропаганды и агитации Ярославского обкома ВКП(б).
1947 – родилась дочь Наталья.
1948–1950 – зав. Отделом пропаганды марксизма-ленинизма областной газеты «Северный рабочий» (Ярославль). Старший преподаватель областной партийной школы.
1950, июль – зам. зав. Отделом пропаганды и агитации Ярославского обкома ВКП(б).
1951, июль – 1953, март – зав. Отделом школ и вузов Ярославского обкома ВКП(б)/КПСС.
1953, март – 1956, сентябрь – инструктор Отдела школ, затем Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР.
1953 – родился сын Анатолий.
1956, сентябрь – 1960, апрель – аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС.
1958, ноябрь – 1959, май – стажировка в Колумбийском университете (США).
1960 – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Критика американской буржуазной литературы по вопросу внешней политики США 1953–1957 гг.».
1960–1962 – инструктор Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам.
1962–1965 – зав. сектором Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам.
1965 – зав. сектором радио и телевидения Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС.
1965–1973 – первый зам. зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС. На протяжении последних четырех лет был «исполняющим обязанности» заведующего отделом.
1966–1973 – член редакционной коллегии журнала «Коммунист».
1967 – защитил докторскую диссертацию на тему «Политическая наука США и основные внешнеполитические доктрины американского империализма (критический анализ послевоенной политической литературы по проблемам войны, мира и международных отношений 1945–1966 гг.)».
1968, август, октябрь – был командирован в Прагу со специальной миссией – организовать пропагандистское обеспечение ввода в ЧССР войск стран Варшавского договора.
1971–1976 – член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС.
1972, ноябрь – «Литературная газета» публикует статью «Против антиисторизма», которая сыграла важную роль в последующей биографии А. Н. Яковлева.
1973, июль – 1983, май – чрезвычайный и полномочный посол СССР в Канаде.
1983, май – 1985, июль – директор Института мировой экономики и международных отношений.
1985, июль – утвержден заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС.
1986 – избран членом ЦК КПСС, назначен секретарем ЦК, курирует вопросы идеологии и пропаганды.
1987 – становится членом Политбюро ЦК КПСС, наряду с Е. К. Лигачевым отвечает в ЦК за идеологию.
1988, март – газета «Советская Россия» публикует статью Н. А. Андреевой «Не могу поступаться принципами», которую с подачи Яковлева вскоре назовут «манифестом антиперестроечных сил». Вокруг статьи развернутся горячие страсти. В апреле того же года «Правда» опубликует редакционную статью «Принципы перестройки: революционность мышления и действий» – своего рода отповедь Нине Андреевой.
1988, сентябрь – возглавляет Комиссию ЦК по вопросам международной политики. С октября того же года – председатель Комиссии Политбюро по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями 1930-х, 1940-х и начала 1950-х годов.
1989 – избран народным депутатом СССР.
1990, март – 1991, январь – член Президентского совета СССР.
1991, 15 августа – Центральная контрольная комиссия КПСС рекомендует исключить Яковлева из рядов КПСС за выступления и действия, направленные на раскол партии. 16 августа того же года Яковлев заявляет о выходе из рядов партии.
1991, 20 августа – выступает на митинге у здания Моссовета в поддержку законной власти, против ГКЧП.
1991, сентябрь – назначен советником по особым поручениям и членом Политического консультативного совета при президенте СССР.
1991, декабрь – на учредительном съезде Движения демократических реформ избран одним из сопредседателей движения. В конце декабря присутствует при передаче власти от президента СССР Михаила Горбачева президенту России Борису Ельцину.
1992, январь – вице-президент Горбачев-Фонда. В декабре того же года назначен председателем Комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий.
1993–1995 – руководитель Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, председатель Российской государственной телерадиокомпании «Останкино».
1995–1998 – председатель Совета директоров ЗАО «Общественное российское телевидение».
1995 – председатель Российской партии социальной демократии.
1998–2001 – почетный председатель Совета директоров ОАО «Общественное российское телевидение».
Скончался 18 октября 2005 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Награды: ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени (три), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Дружбы народов; ордена РПЦ и ряда зарубежных государств; медали.
Звания: с 1984 года – член-корреспондент Академии наук СССР; с 1990 года – действительный член АН СССР; почетный доктор Даремского и Экзетерского университетов (Великобритания); почетный доктор Университета Сока (Япония).
Глава 1
Его университеты
– Саша, ты? – Чубатый парень примерно одних лет с Яковлевым, одетый по-городскому – брюки-клеш, темный пиджак с ромбиком значка об институтском образовании, белая полотняная рубаха – окликнул его на волжской набережной.
Александр его сразу узнал: учились на одном курсе истфака педагогического института. Кажется, Гришей звали. Вроде комсоргом у них был. На фронт не попал по хроническому заболеванию. Не дружили, однако отношения у них тогда были ровными, этот Гриша всегда подчеркнуто уважительно относился к военному прошлому Яковлева, признавал за ним первенство.
– Конечно я. – Он остановился, с готовностью пожал протянутую руку. – Привет! Рад тебя видеть.
– И я рад! Ведь сколько лет прошло, как расстались! Ну, рассказывай, как дела? Где бросил якорь? Чем занят?
– Давай вначале ты. Вижу: высшее образование получил, значит, все в порядке?
– Да, можно и так сказать, – Григорий широко улыбнулся. – А что мы тут стоим, как не родные? Давай по пиву махнем, заодно и побеседуем.
– Давай, – обреченно махнул рукой Александр.
Зашли в павильон здесь же, на набережной, рядом с речным вокзалом, нашли свободный столик, официантка с кружевной наколкой на голове поставила перед ними две кружки с «Жигулевским».

Саша Яковлев с родителями Агафьей Михайловной и Николаем Алексеевичем
[Из архива Л. Шерстенникова]
– Я, Саша, после института по распределению попал в деревенскую школу на севере области, там два года отпахал учителем.
– Историю детишкам преподавал? – уточнил Яковлев.
– Да если бы только ее! – хохотнул собеседник. Чокнулся кружкой с Сашей. – Ты же сам знаешь, как в деревенских школах туго с учителями. Мне кроме истории навесили еще русский язык и биологию. Так что хлебнул я там педагогической практики по горло. И романтики – тоже. Жил, как постоялец, в избе с русской печкой, хозяйка у меня была справная: козу держала, кур, огород у нее был, поэтому мы не голодали. Зато полностью отдал долг государству и теперь могу двигать по жизни дальше.
– Ну и куда лыжи навострил?
– Мне, Саша, всего двадцать пять. Как и тебе, да?
Яковлев послушно кивнул.
– Так вот. Учителем быть оно, конечно, интересно, нужное дело. Но ведь жизнь впереди такая длинная, чего же сиднем сидеть на одном месте. Хочу я теперь за Урал рвануть. В Сибирь – там большие стройки затеваются, авось и пригожусь. Может быть, даже и учиться дальше пойду – на инженера, на геолога, еще не решил.

Восьмилетний Саша Яковлев (крайний справа)
Деревня Королево Ярославской области. 1931
[Из архива Л. Шерстенни-кова]
Гриша щедро отпил из своей кружки, аккуратно поставил ее на стол.
– Ну, что это я все о себе да о себе. Ты-то где? Как с третьего курса тебя отозвали, так и пропал. – Он понизил голос: – Шпионом, что ли, стал?
Яковлев улыбнулся:
– Ну каким шпионом? Отозвали меня на учебу в Москву, в Высшую партийную школу. Считай, по тому же профилю занятия шли, что и у нас на истфаке. Только все больше с идеологическим уклоном. Но через год школу закрыли, я вернулся в Ярославль, институт заканчивал уже экстерном. Так что специальность у нас с тобой одинаковая – учитель средней школы.
– Преподаешь?

Завтра многие из них уйдут на войну. И не все вернутся
[Из архива Л. Шерстенникова]
Александр внимательно посмотрел на собеседника, словно раздумывая, как лучше ответить на его вопрос.
– Нет. Как-то не сложилось у меня с этим делом.
– Постой. Дай я угадаю. Ну куда ты мог с дипломом историка устроиться? Краеведческий музей? Областной архив? Дом пионеров?
– Давай-ка мы еще по одной, – предложил Яковлев. – Я угощаю.
Он подозвал официантку, сделал заказ.
– Ладно, не мучайся. Все равно не отгадаешь. В обкоме партии работаю, инструктором Отдела пропаганды и агитации.
Гриша присвистнул:
– Ого! Далеко пойдешь!
Александр легко усмехнулся, потупил взор, вроде бы приняв комплимент. Потом поднял глаза на собеседника:
– А это уж как карта ляжет.
Больше они никогда не виделись.
Инструктором сектора печати в Ярославском обкоме КПСС он пробыл недолго, года полтора. Основная обязанность состояла в том, чтобы просматривать районные газеты, следить за их правильной линией. Случалось, приглашал в обком для проработки редакторов газет, которые были гораздо старше Яковлева. Журил их за допущенные ошибки, призывал не терять бдительности.

Курсант военного училища Александр Яковлев (третий слева в первом ряду)
Удмуртия. 1942
[Из архива Л. Шерстенникова]
Но в итоге и сам оказался в газете – только в областной, партийной, под названием «Северный рабочий». Его туда пригласил редактор Иван Лопатин, которому понравилась принципиальная позиция инструктора обкома по вопросу о т. н. социалистическом соревновании.
Это «соревнование» в течение нескольких десятилетий оставалось одним из трендов партийной жизни. Соревноваться должны были все: доярки – у кого больше надои молока, шахтеры – кто больше нарубит угля, лесорубы, рыбаки, речники, токари, пекари… На самом деле никакого соревнования, конечно, не было, оно существовало исключительно на бумаге, в отчетах. Это и обнаружил молодой инструктор обкома Яковлев, когда его командировали в один из районов Ярославской области. Вернувшись, он так и написал в своем отчете: социалистическое соревнование в данном районе на бумаге есть, однако ни одного соревнующегося в реальной жизни нет. Более того, и на бюро обкома он это озвучил, что очень не понравилось старшим товарищам, давно привыкшим к подобным лукавствам. Яковлева призвали не терять связи с низовыми партийными организациями, глубже заглядывать в их повседневную жизнь, где, конечно, по полной программе развернуто соревнование.


Выписка из зачетной ведомости А. Н. Яковлева
18 апреля 1947
[ГА РФ]
Партчиновники выступление молодого инструктора осудили, а вот редактор «Северного рабочего», напротив, отнесся к нему как здравый и честный человек. Он попросил Яковлева написать о липовом соревновании статью в газету, а после ее опубликования пригласил автора в штат редакции. Так Александр на следующие два года стал журналистом – заведующим Отделом пропаганды марксизма-ленинизма.
По тем временам такой отдел в партийной газете, конечно, был одним из самых главных, а его руководитель автоматически становился редакционным начальником «первого ряда», замыкавшимся на аналогичный отдел или сектор обкома КПСС.
Александр Николаевич, вспоминая то время, пишет, что это были полезные годы, насыщенные поездками по районам, знакомствами с разными людьми, их проблемами… Пишет, что публиковал в газете свои очерки, рецензии на кинофильмы, передовицы… Пишет, что частенько выпивали – то зарплата, то гонорар…
По поводу выпивки – это чистая правда, в редакционных коллективах тех лет – хоть провинциальных, хоть столичных – редкий день обходился без коллективных застолий. И не только потому, что «зарплата и гонорар». Выпивали словно бы по сложившейся издавна привычке, потому что так заведено, потому что «мы, журналисты, – люди свободные, творческие и никто нам не указ». Но ведь и в других коллективах тоже пили. Выпивали рабочие после заводской смены. Выпивали врачи – даром, что ли, спирт всегда под рукой и бесплатно. Выпивали конструкторы и инженеры в секретных «почтовых ящиках» (так тогда именовали в народе закрытые предприятия ВПК). В армии крепко дружили с алкоголем. Там, в наших славных вооруженных силах, смертность среди солдатиков была запредельно высокой, а все потому, что они употребляли спиртосодержащие жидкости типа тосола, фактически добровольно глотали яд.
Можно сказать: выпивка на рабочем месте была частью советского образа жизни.

Диплом А. Н. Яковлева об окончании Ярославского государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского
18 апреля 1947
[ГА РФ]

Справка о работе А. Н. Яковлева старшим преподавателем в Ярославском государственном педагогическом институте
14 ноября 1947
[Из личного архива А. Н. Яковлева]
Вышестоящие партийные комитеты, конечно, знали, что в газетах пьют, но смотрели на это сквозь пальцы, а те, кому следовало, копили на особо пьющих компромат – небось когда-нибудь пригодится.
Архивы не сохранили «очерков и рецензий» за подписью Яковлева, зато сохранили написанные им передовицы и отчеты с разного рода партийных сборищ. Судя по их заголовкам, это были на редкость скучные, банальные тексты, абсолютно выхолощенные, лишенные жизни.
Вот эти заголовки:
«Под знаменем Ленина, под водительством Сталина», «Организованно закончить учебный год в сети политпросвещения», «Политическая учеба коммунистов», «Гениальное сталинское произведение», «Командирам производства – экономические знания», «Партийный кабинет», «Выше качество лекционной пропаганды», «Выше уровень партийной учебы». И так далее, и тому подобное…
«Статьи своего времени, ничего не скажешь, – вздыхает Яковлев, вспоминая это “творчество”. – Серые, как солдатское сукно, они не выходили за рамки официальных норм, были просто “правильными”, а часто – халтурными»1.
Из таких вот «халтурных» статей и состояли на восемьдесят процентов полосы тогдашних газет.
Но и школу хорошую он прошел в редакции «Северного рабочего». Хорошую – для дальнейшей карьеры в разных партийных инстанциях, где требовалось быстро соображать, уметь грамотно излагать мысли (иногда свои, но чаще – начальственные), быть в меру циничным и исполнительным. Про цинизм он так написал: «Все это чувствовали, но никто не знал, как можно сделать по-другому. Да и не думали об этом»2.


Статьи молодого журналиста Александра Яковлева в областной газете «Северный рабочий» (Ярославль) [ГА РФ]
Отдушиной для Александра были попытки сочинять короткие рассказы или этюды – как правило, их сюжеты подсказывала сама жизнь: сделанные во время командировок наблюдения, записанные разговоры с людьми.
Вот один из таких этюдов, при всем своем художественном несовершенстве, он как раз показывает, что душа автора не зачерствела от бесконечного изготовления партийных агиток, употребления пустых и банальных слов.
В учительской3
В учительской было шумно. Одни заканчивали последние приготовления к уроку, другие делились впечатлениями, рассказывали то раздраженно, то весело о поступках ребят.
– Подумайте только, он весь урок вертелся, не слушал и все как-то ехидно улыбался во время моего объяснения. Пришлось выгнать с урока, – говорила средних лет учительница, перебирая тетради и быстро засовывая их в портфель. Длинный нос учительницы горел возмущением.
– Невозможно работать. Дети не педагогичны. Все уважение потеряли, – отрывисто выкрикивал учитель математики, писклявый голос которого плохо вязался с его довольно округлой фигурой, низким ростом и румяным лицом.
– Нет, прежде было не то. Ученики боялись учителей, уважали, – ворковала старая учительница, с трудом открывавшая потухшие глаза. – Вот я недавно так устала, что не могла просидеть на уроке. Пока ученики делали задание, я и вздремнула. И что вы думаете, открыла глаза, нет учеников, ушли. Безобразие. Нет, прежде такого не было.
В это время у дверей учительской стоял мальчишка лет двенадцати-тринадцати, понурив голову и быстро перебирая пуговицы серенького пиджачка. Молодая учительница, видимо классный руководитель, строго вопрошала:
– Чем ты вчера занимался? Почему на уроке не был?
Ученик молчал.
– Я тебя спрашиваю или нет? Будешь ты отвечать или нет? Говори, почему на уроках не был? Молчишь, лентяй! Прогульщик, – добавила учительница, отвернувшись, и бросила:
– Можешь идти домой, пока не скажешь, на уроки не пущу.
– Я братишку в больницу водил, – вдруг сказал мальчишка.
– А мать где же?
– Она тоже болеет.
– Врет он! Слушайте его! Сразу видно, что выдумывает! Как врать научились! – нервно выкрикнула рыжеволосая, растрепанная дама, лет 45, с ярко накрашенными губами и в длинном платье.
Мальчишка вскинул голову, удивленно посмотрел на говорившую и сказал спокойно и тихо:
– А вы меня врать еще не учили.
Затем повернулся и вышел из учительской. Из окна было видно, как он, снова опустив голову, медленно шел по улице. Мне показалось, что мальчик плачет.
– Вот смотрите!
– Вот как отвечать стали.
– Не место в школе таким.
– Пора дисциплину наводить.
– Довольно! Все только с учителя да с учителя!
Эти возгласы раздавались то в одном, то в другом углу учительской. Шумное возмущение было прервано звонком. Учителя, перебрасываясь отрывистыми фразами, расходились на уроки.
В следующую перемену завуч школы, бывшая свидетелем этого маленького события, как только учителя собрались, сказала им:
– Между прочим, товарищи, мальчик не лгал. Мать у него действительно больна и братишка тоже. Отец-то у них погиб на фронте. Вот он и ходил с братишкой в поликлинику. Пионервожатая сейчас пришла от них и рассказала. Вам бы, Мария Петровна, надо сходить к ним, – сказала завуч, обращаясь к учительнице, которая беседовала со школьником.
В учительской воцарилась неловкая тишина. У всех появилось дело, и было слышно, как скрипит перо, которым что-то усердно писал математик.
1949 г.
В личном архиве Александра Николаевича сохранились и другие листочки с такими же короткими рассказиками или этюдами. Про театр. Про болельщиков футбольного матча в провинциальном башкирском городке. Про войну.