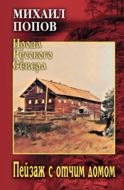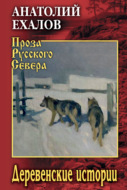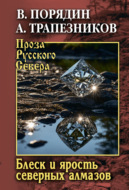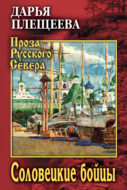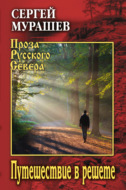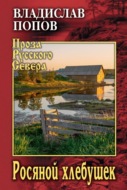Kitabı oxu: «Груманланы»
© Личутин В.В., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025
* * *
Душа – вещь непременная.
Она видит раньше глаз и слышит глубже ушей.
У воли нет границ.
Граница свободы очерчена властью государства.
Часть первая
Земля Зловещей старухи и Черного пса
1
Груманланы – поморы-промышленники и морепроходцы, «сидевшие» по берегу Ледовитого моря от Колы до Ямала, в краю суровом, таинственном и древнем, чьи страницы судьбы скрыты за временем, за семью печатями. «Для них не заказаны пути-дороги ни сушью, ни водой».
За внешней затрапезностью, убогостью и «дикостью» жизни глубоко спрятана особенная русская натура, которую и хотелось бы распечатать «чужебесам», чтобы сокрушить и повязать Русь: вот и подступаются с немилостивой затеей тысячу лет, но никак не могут окончательно сладить с Россией, обложить непокорников несносимой данью.
«Мужики-поморцы цену себе знают. У моря живут, рыбачат. Ручишши-то порато сильны. Эдаку работу проворачивают – тяжела, грязна, холод, сырость» (из разговоров).
Наверное, по сравнению с простонародной «говорей» выспренно звучат мои поклончивые признания, но за высокой оградой высокого «штиля» невольно скрывается от глаз иноземца непонятная несхожесть народа Богородицы на все иные племена, подступающие с угрозами со всех концов света; даже я, выросши на Мезени в глубине поморского племени, дожив до преклонных лет, так и не проникся вольным первобытным духом родичей, словно бы явился на свет не в северном куту приполярья, а был подброшен, как кукушонок, в чужое гнездо.
По словам историка С.В. Бахрушина, «в XVI–XVII веке известные русские – это выходцы из поморских городов и уездов, прилегающих к Печорскому пути, в первую очередь поморцы, живущие близ Белого моря, открывшие Новую Землю, Грумант, Колгуев, Вайгач, Обь, Енисей, Лену, Таймыр, Индигирку… Таков упоминаемый в мангазейских делах Мотька Кириллов, который был по морю “староходец и знатец”; пинежанин Микитка Стахеев Мохнатка, которому “морской ход за обычай”; таков и Левка Плехан, пинежанин, который ходил морем в Мангазею еще при царе Борисе. Или сын его Клементий Плехан, упоминаемый в 1633 году».
В то время, когда дневники Г. де Фера наполнены «полярными ужасами, страхом перед белыми медведями», русские поморы запросто брали белого медведя на рогатину… Спутники Баренца собирались охотиться на моржа с пушками, а наши охотники брали моржа «на затин», метая в зверя гарпун.
Своей смелостью, ловкостью и искусством охоты на белого медведя поморы так поразили полярного путешественника Барроу, что он с восхищением описал мужество русских мореходцев в своих дневниках… Именно подобных груманланов и советовал Михайло Ломоносов адмиралу Чичагову набирать в экспедицию: «Принимать в полярное плавание тех, кто бывали в зимовках, в заносах, терпели нужу и стужу; которые мастера ходить на лыжах, бывали на Новой Земле и лавливали зимою белых медведей, а также знали языки тех народов, которые живут по восточным берегам сибирским».
…И вот нынче пыщусь я, несчастный, накручиваю ожерелья слов и с досадою вижу, отстранясь от письма, как они приблизительны, мои признания, и, будто опутенки сокола-слетыша, вяжут, терзают мою душу, не дают разгореться чувствами, – и оттого понимаю, как фанфаронюсь, вдруг возлюбя себя преизлиха, теряю искренность. Когда мы отстраняемся от природы, то невольно становимся на котурны, чтобы сообщить о себе, и тогда выглядим вычурными и нелепыми в глазах других, не замечая того.
Но, главное, братцы мои, подавить растерянность, не отступиться от затеи, но, пусть и через силу, тянуть ту медовую паутинку родства через слабеющее сердце с надеждою, что разум не подведет, не покинет меня. Ведь «слово слово родит», и вместе с новым образом, может, и откроются высокие смыслы, досель скрытые от меня.
С этим чувством верховенства души над плотию, я, пожалуй, и приступлю к завещанному труду… Бог в помощь!
2
Особенной теплотою отличались тексты Бориса Викторовича Шергина. Он писал книги поклончивой душою: хотя плоть его мучилась хворями десятки лет, сердце страдало, но душа пела о Боге, которому был по-сыновьи предан до конца дней. Земные радости жизни обошли писатели стороною, но вместе с болезнями непрестанно досаждали заботы о близкой родне и хлебе насущном. Не так гнетуще бередили хвори телесные, наверное, с годами Шергин научился терпеть невзгоды, насколько было возможно, доверяя муки свои исповедальным заметкам на случайных клочках бумаги, что попадали слепому под руку: но «хлеб насущный», о котором молил Бога, появлялся в доме скудно.
Борис Викторович смиренно превозмогал нужу и стужу и невольно пространной душою своею преображался в русского «груманланина», истово преданного морю Студеному, того бывальца-сказителя прежних лет, которым так дорожили зверобои в бесконечные зимы: баюнки ублажали, крепили душу зверобоев сказаниями о жизни человеческой, давали надежду на счастливый исход промысла. И получали за свое «вранье» в дополнение к уговору еще половину артельного пая… За сказителя кормщики шли «наперебой», чтобы залучить к себе на становьё… Старинщики-былинщики высоко ценились у мезенских зверовщиков.
…Шергин в русской литературе, пожалуй, единственный волхователь, толковщик, учитель и духовник; он незримо переносил спасительный урок евангелических текстов в само суровое содержание жизни и одновременно крепил, утешал и свое шатнувшееся в надсаде сердце, когда уверял себя в тишине сиротской кельи коммунального прозябания: дескать, грешно православному быть в радости, когда весь русский народ лежит в несчастии (тогда шла война с Гитлером и решался «русский вопрос»). Вот эта немеркнущая, невидимая миру скорбь и делала душу Шергина теплой, отеческой, а строки сказаний – проникновенно-ознобными, по-христиански утешными для простеца-человека.
Но в пятидесятые годы Шергин как бы «миновал» Советскую Россию, никак не внедрился в простонародье, знать, время его еще не настало, а столичные образованцы-«чужебесы» деловито гуртовались вокруг западной культуры, с азартом дожидаясь хрущевской оттепели, открыто презирали «диревню и скобарей», все, что пахло «смазными сапогами, квашеной капустой и русским духом». После войны Шергин остался не у дел, вне национального бытия, как непонятный сказочник, «смешной юрод», прошак с зобенькой по кусочки: вот и власти зло напустились на Шергина, предали его охулке, обвиняя в искажении и порче русского языка, перестали издавать, и писатель на долгие десять лет погрузился в тьму нищеты и забвения, откуда обычно уже не выбираются на белый свет, и слух о Шергине как необычном литераторе едва сочился сквозь книжные завалы «соцреализма». То ли уже преставился пропащий человеченко, то ли где-то тащится чудом по бездорожице, по дикому засторонку.
…А нынче многие из господ-письменников (бобровых шуб), кто прежде чурался, боясь угодить в черные списки иль брезговал даже руку подать поморскому сказителю, вычеркнуты из людской памяти: но имя Бориса Шергина в поклончивых святцах у земляков, да и в Москве писатель совсем не чужой, а в Архангельске ему выставлен памятник на поклонение.
Каким-то чудом, по чьей-то подсказке в 1968 году я, начинающий архангельский журналист, разыскал Шергина в столичной убогой коммуналке на Рождественском бульваре и был неожиданно очарован его светлым радостным ликом и ничего скорбного не нашел в слепом человеке: и этот образ волхва, помора-груманлана, храню на сердце до сей поры как драгоценный дар судьбы, вспоминаю постоянно, удивляясь мужеству и терпению истинно поморской натуры, с достоинством пронесшей свой крест страстей. Вот почему, затеяв работу о груманланах, я в первый ряд синодика подвижников, русских полярников (неожиданно для себя) вдруг подверстал Бориса Шергина, отец которого ходил капитаном по северам, а вот сын его, художник и сказитель, ни разу не плавал на лодье по Ледовитому океану и не зимовал на Груманте и Матке.
Вернувшись в Архангельск, написал газетную зарисовку о чудесном вещем старце, потом не однажды перепечатывал, ничего не добавляя, но лет через пять, когда вдруг занялся литературою и поморская история притянула к себе, я и наткнулся на эту быль – легенду Бориса Викторовича Шергина «Для увеселения», ныне вошедшую в русскую литературную классику…
Речь идет о мезенских поморах – братьях Личутиных, по божьей воле угодивших в печальную историю в канун Семена-летопроводца. Ловили они рыбу невдали от Канина носа, а промышляли со своей тони, с каменной корги, крохотного островка, где сидели не первый год. Взяли рыбы, сколько попало в рюжи, заторопились – пришло время бежать домой. Как-то скоро заосенело, заподували ветра, и тишинка стала в редкость. Сносили промысел в карбасок, потрапезничали отвальное и повалились перед дорогой отдохнуть. Да и заснули. Ничто вроде бы не предвещало беды, море едва колыбалось, слабый дождь-ситничек сеялся. Карбас стоял на якоре в берегу меж каменьев. Уснули у костерка, христовенькие, в добрых душах, не ведая несчастья. А оно приходит, обычно, когда не ждешь. И тут засвистел с протягом полуночник, загремел, разбойник, налетел вихорем и сорвал карбасишко с якоря, унес в голомень. Братья спохватились, только всплеснули руками, посунулись к воде, окатило взводнем, сбило пену с гребней волн, понесло водяную пыль по ветру, кинуло в лицо. В миг пропало суденко в дождевой бухтарме вместе с промыслом, кладью и съестным припасом. Сохранился на каменном островке лишь телдос – доска от днища, на которой чистили улов, горка рыбьих костей от жарехи да ножики-клепики у опояски.
И как пишет дальше Шергин: «Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика, мезенские мещане, были вдохновенными художниками по призванью. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска, выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме. Изображался олень и орел, и феникс, и лев, а также кумирические боги античной мифологии… Вот такое художество было доверено братьям Личутиным… Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков…»
В силу каких-то семейных обстоятельств вернулись в Мезень, занялись морским промыслом. На Канине у них была становая изба. Отсюда и напускались в море на заветный корг.
Тут и прилучилась беда страшная, непоправимая. Каменный островок лежал в стороне от морских путей, да и по осени неоткуда было ждать спасения. И братья рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских. Если на свете не станет нас, мезенских мещан, от того белому свету перемененья не будет».
«…Не крик, не проклятие судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешня вдруг превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля…»
«Чудное дело! – царапает слепой Шергин карандашом на клочке обертки, омываясь слезами, представляет родные стены, родителей за столом, покрытым белой скатертью: свет керосиновой лампы выхватывает из забвения милые, вечно живые лица. – Смерть наступила на остров, смерть взмахнула косой, братья видят ее и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах».
«…Ондреян, младший брат, прожил на острове шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.
Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано… Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса. Посредине доски письмена – эпитафия – делано высокой резьбой. По сторонам резана рама-обнос с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и несгорающая. Стали читать эпитафию:
«Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.
Осенью 1857 года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своей оплошкой
Карбас утерялся со снастями и припасом,
И нам, братьям досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.
Чтобы ум отманивать от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки!
Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья,
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенски мещане.
И помните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана…»
…Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова – «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел: «На долгий отдых повалились».
* * *
Стоит, наверное, подробнее рассказать о Личутиных, в старинные годы появившихся в Окладниковой слободе, когда в устье реки Мезени, где стояло зимовье сокольников-помытчиков «Сокольня Нова», в конце XV века появился новгородец Окладников с пятью сыновьями, с иконой Спаса нерукотворного, и зарубил слободку. Икона долгое время кочевала по семьям, потом попала в староверческую пустынь в устье реки Хорговки в келью отшельника, а в 1663 году ее перенесли в Спасскую церковь Кузнецовой слободки.
Окладникова слобода за шестьдесят лет выросла, заселилась народом, несмотря на голодные годы, бесхлебицу: поморы покидали слободу, порою надолго, укореняясь в Сибири, некоторые возвращались обратно. При царе Алексее Михайловиче в слободу на Мезень доставили протопопа Аввакума. Он не прекращал борьбы за истинную веру и много поморов вовлек в беспоповщину. Через три года ссылки неистового протопопа отвезли на оленях в Пустозерский острожек, посадили в полуземлянку на хлеб и воду, а жена Аввакума с детьми стала дожидаться мужа в Мезени.
И чем беспощаднее прижимали затворника в юзах, тем суровее, яростнее к противникам Христа становилась его душа, призывая под свою руку тысячи сторонников по всей Руси. Тогда и возникло поморское согласие, живет и поныне, как напоминание о былой мужественной русской натуре, а чем заканчивается отступление от истинной веры-правоверия, мы хорошо помним по русской истории. Шатания в вере обычно кончаются разбродом в государстве, народной смутою и угасанием внутреннего духа, цементирующего народ. И если протестанты, «лутеры, папежники и кальвинисты давно сдались под власть «денежной куклы», не испытывая особых волнений, то русское племя по-прежнему живет в состоянии духовного поиска.
В царской грамоте 1552 года упоминается «Сокольня слободка Окладникова». В жалованной грамоте Ивана Грозного 1562 года она присутствует как «Окладникова слободка».
Никто тогда и не помышлял, что новое становище на берегу Ледяного моря-океана станет кормильцем русского племени, сыграет огромную роль в становлении русского государства. Что все московские государи с Ивана Калиты будут держать это украйное богатое промышленное место под крепким неусыпным доглядом, ибо из мрака ночи забытых Богом морей и тундр в русскую казну потекут неиссякаемые золотые ручьи (соболей, песцов, моржовой кости, сала кож, мамонтовых бивней (заморная кость). С годами род Окладниковых расширился до окраин Сибири, наверное, поутратил, призабыл нити родства, а слободка при правлении любвеобильной пышнотелой немки Екатерины II получила звание и герб города Мезени, хотя внешне ничего в ней не переменилось.
Вот и в соседях у нас, прижавшись к нашему огороду, стоял дом Окладниковых, обитали в нем тетя Маня, портниха, военная вдова с детишками: мы жили мирно, а приятелем по улице был ее сын Вовка по прозвищу Манькин (ныне покойный). Был он добродушный, щекастый, губастый, смекалистый, с вечно улыбчивой, какой-то счастливой физиономией, – хороший такой друг, не привереда. По фамилии в нашем околотке никто не звал, просто Вовка Манькин. Только в верхнем конце, наверное, пять семейств Окладниковых, но никогда в общении не вспоминали, что городишко Мезень затеял их предок, боярин из Великого Новгорода. Никакого отсвета от знаменитой фамилии, отлички, особого почета, похвальбы даже в хмельном угаре, когда после очередного стакана браги гулеван «выпадал в осадок» и готов был догуливать под столом… В такие вот минуты и развязывается язык.
Но тогда русской древней истории не чтили даже после победы «над немчурою». Это считалось дикой блажью, ибо вся русская земля от Бреста до Амура еще в достопамятные времена была нашей, хотя и заселена издревле «якобы» уграми и финнами так полагали ученые, опираясь на летописи. Какая русская история? Рыбьих потрошков объелись? Угорели? Беленой отравились, шуты гороховые? Своей славы возжелали, непутние бестолочи? – внушают нам ежедень. Дескать, протрите зенки, несчастные, гляньте окрест, и вы увидите, что ничего нет русского, каждая болотинка, павна, озерцо, горушка и ворга издревле освоены финнами и уграми, а значит, и жили вы столетиями в чужом месте и теперь пора съезжать. Так вопят оборотни со всех углов.
В моем детстве никто ничего не делил, одна мысль жила в народе: вот оборонились, положили нехристя на лопатки, провалиться бы ему к чертям в тартары, а теперь как бы до утра протянуть и не околеть с голодухи. Хлеба бы только наестись досыта, слава Богу, сломали войну, одолели ворога. Чудо-то какое, Господи! Не передать словами этой душевной радости.
На безжалостной терке истирали наше национальное сознание, неистово задували даже случайные малейшие искры «мерзопакостного» русского национализма, этого горячего бессознательного охранительного чувства, поселяющегося в груди еще в младенчестве с молоком матери, с ним и выстраивается характер, поклончивый родине. Нет, оно не потухает, его не подавить никакими бедами, оно не отпускает души до преклонных лет, пока бьется горячее сердце. Но как бы становится стыдно восклицать о любви к родине, гордиться ею вслух, и тогда оно прячется в груди до времени или остывает навсегда. Но упертые потаковники дурному и временщики постоянно притравливают народ, цепляют за живое, стыдят и упрекают, не дают спокоя, впрыскивают в душу корпускулы яда и сомнения, неверия в нашу самобытность, словно бы ты чужими речами говоришь и грызешь чужую корку. Истирая самобытность, гордость за Россию, любовь к родимой земле, что начинается сразу за порогом и уходит в окоем, а оттуда в райские пажити к самому Иисусу Христу – и это все мое, просит поклона и защиты… невыразимые в словах. Оттого, что их невозможно ладно и цельно высказать, они не уменьшаются в своей необходимости и силе. Но словесная немота и излишняя деликатность выкраивали русского человека порою излишне неловким в поступках, нелепым в словах, скромным в житейских благах, над чем беззастенчивые мародеры и потешались. Душу загружала растерянность, постоянно беспокоил вопрос, а по-божески ли живешь, не забрал ли чего чужого, не вырвал ли кусок изо рта, не брякнул ли в застолье лишнего, и, оглядываясь на глум, робкий нерешительный человек постепенно теряет врожденные качества, становится покорным и жалким, потерявшим природную гордость. И прежняя уверенность в своей силе сходит на нет, и пропадает жертвенная решимость вскинуть голову за други своя, трусость окончательно покоряет, и ты кончаешься, как Христов воин.
Когда помор обреченно, с тоскою встречает невзгоды, значит, в душе его умер груманланин и он теряет желание жить; другое дело, когда человек встречает беду смиренно, как христов урок, который надо вырешить, не глядя на выпавшие на твою долю неимоверные тягости; он не скулит, не плачется понуро в жилетку, не складывает вину на плечи другого, и не только сам побарывает лихо, усевшееся на горбину, но и побуждает к этому усилию и других. В этом урок сказа Шергина «Для увеселения».
Откуда и когда явились в Поморье Личутины, теперь трудно сказать, но уже при Петре Первом один из Личутиных был ратманом Окладниковой слободы, имел лодью и коч, ходил на Грумант и Матку; Когда Ломоносов собирал поморцев в экспедицию адмирала Чичагова 1765 года, то кормщиком на бриг «Панов» был приглашен мезенец Яков Дмитриевич Личутин как особенно сведущий в морских делах, опытный зверовщик, бывалец на Груманте, Матке, Вайгаче и Шарапах (Шараповы Кошки). А в первую русскую экспедицию выбирал сам Михайло Ломоносов, расспрашивал, чтобы не ошибиться в человеке, заранее разглядеть его характер и способности, чтобы не угодить впросак в серьезном государственном замысле, ибо от кормщика зависела не только судьба всего похода, но и участь моряков; Ломоносов выбирал из лучших груманланов, приглашенных в Петербург, не только знающих Ледовитый океан, но зимовавших на островах, умеющих ладить с аборигенами и даже знающих «самояцкий язык».
В 1792 году в зимовке на Новой Земле скончались от цинги 42 мезенца, среди них четверо Окладниковых и четверо Личутиных. Тяжелые были те годы для груманланов; тогда же погиб и кормщик Михайло Личутин, его именем назвали гранитный остров возле западного берега Новой Земли, покрытый мхом, лишайником и крохотными желтыми маками. На этом острове однажды пережидал внезапную метель мой друг белорус Роман Мороз: строитель, водолаз и страстный путешественник, на крохотном самодельном паруснике ходивший не только на Матку, но и к Аляске, на Диомидовых островах поставил «оветный» православный крест, дошел до Сан-Франциско и там тоже воздвиг двухсаженный русский крест – памятник отважным русским поморам-груманланам, открывшим Америку в XVII веке.
Есть предположение историков, что два коча из девяти из отряда Дежнёва – Попова разбило в проливе Аниан (Берингов) и выкинуло (в 1648 г.) на острова к «зубатым» эскимосам ниже легендарного мыса Табин (теперь на этой гранитной скале стоит памятник моему земляку с реки Пинеги Семену Ивановичу Дежнёву). Поморы Скифского океана, – среди них были мезенцы, и пинежане, – срубили зимовье и стали жить, дожидаясь белых голубоглазых гостей. Лишь через сто лет после открытия пролива между Азией и Америкой приплыли отважные поморы, привели эскимосов под русскую корону, срубили острожек и открыли торговую факторию. Северная Америка на сто лет стала русской землею.
Мореходы Личутины происходили от родов: Лазаревичи, Тазуи, Назаровичи и Боюшковы. Лазаревичи и Назаровичи жили в Окладниковой слободе, а Тазуи и Боюшковыч – в Кузнецовой. Самоеды из Тазовской губы однажды напали на Окладникову слободу и увезли с собой ребенка: он вырос в чуме, женился на самодинке и с детьми вернулся на родину. От него, по преданию, и пошли Личутины-Тазуи. Михаил и Василий Личутины, погибшие в 1790 году на Матке, жили в Кузнецовой слободке и были из Тазуевых, к этому роду принадлежал погибший в ту же зиму 1790 года Никита Сидорович Личутин, а скончавшийся от цинги кормщик Семен Никифорович Личутин жил в Окладниковой слободе. А всего в ту зиму отдали Богу душу 42 промышленника, и рукой священника Киприянова записано: «Были погребены в 1790 году без надлежащего надгробного священнического отпевания, будучи на Новой Земле за промыслом оставшимися своими сотоварищами». Но погибшие числились в раскольниках-беспоповцах поморского согласия, в «никонову антихристову церкву» к исповеди не ходили уже многие годы, и покрученников, воздвигших помянный крест над могилою на гранитном берегу, это нисколько не удручало (острову было дано имя сорокалетнего кормщика Михайлы Личутина, только что оштрафованного архангельским архиепископом на 24 рубля; наверное, этот Михайла Личутин пользовался уважением в среде мезенских мещан не только как знаток Ледяного моря, но и как старообрядческий начетчик).
Из того похода на Матку вернулись домой 46 промышленников и рассказали о случившейся трагедии. Можно представить, какой горестный прощальный воп плачеи разлился тогда над Мезенью.
Богатую жатву собрала цинготная «старуха-маруха» со своими юными сестрами.
По преданию, на месте становища Сокольня Нова новгородец Окладников с сыновьями в устье реки Мезени зарубили в середине XVI века выселок, чтобы заняться зверобойкой. Прежде чем съехать в Заволочье, Окладников заручился от царя Ивана Грозного грамотой на владение лукоморьем. Ему давалось право «копить на великого государя слободы и с песков, и рыбных ловищ, и сокольих и кречатьих садбищ, давати с году на год государю оброки». Так на месте зимовья, где погодно жили помытчики и сокольники, ловившие птицу на Канской земле для царской охоты, появилась Окладникова слобода как начало грядущего города Мезени. Но, наверное, промышленное становье появились в устье реки гораздо раньше, еще во времена великого князя Московского Ивана Калиты, отобравшего земли Великой Перми и Печоры у Великого Новгорода. А коли дорога за Камень шла по Мезени и притоку ее Пёзе, через наволок в Усть-Цильму, где стояли кушные избы и лошади, чтобы перетаскивать из Пёзы на Цильму карбасы, легкие кочи и грузы для промыслу, если еще в те старопрежние времена кречеты и соколы от Ледовитого моря были в особой цене и шли в подарок от русского двора в Персию, Бухару, Хорезм и Египет, то уже в те годы сидели в устье реки Мезени помытчики со своими семьями и отлавливали на Канине соколов-слетышей и приваживали их к руке, чтобы в берестяных плетухах, обернутых в рогозы, доставить лошадьми по зимнему пути в столицу к московскому князю Ивану Даниловичу Калите на потешный двор…
Еремей Степанович Окладников, купец-старовер, судовладелец из Окладниковой слободы, неустанными рисковыми трудами нажил на звериных охотах приличного капиталу, в середине XVIII века имел «в услужении три семьи самоедов, 15 душ канинских и мезенских ненцев. В 1743 году Еремей Степанович снарядил свою лодью на сальный промысел на Грумант. Судно было затерто и раздавлено торосами, а спасшиеся четыре груманлана прозимовали на арктическом острове Малые Буруны (о. Эдж) шесть лет и три месяца. Их приключения, напоминающие бедствие Робинзона Крузо на необитаемом тропическом острове, получили по всей Европе широкую огласку неповторимым мужеством и силой духа русского помора (об этом позже). Чтобы закончить страничку о возникновении города Мезени, припомню, что позднее в двух верстах от Окладниковой слободы на высоком угоре возле Большого Шара, выпадающего из реки, возник выселок Кузнецова слободка. Укоренились на моховой бережине промышленники Сопочкины. Фамилия коренная, поморская, произошла от понятия «сопец» – руль судна. Сопочкины имели кочи и лодьи, ходили для звериного промыслу на Матку и Грумант. Афанасий Сопочкин, как и Михайло Личутин (оба известные полярные походники), погибли на Новой Земле в 1790 году.
Именным указом Екатерины II от 5 января 1780 года Окладникова и Кузнецова слободы слились в приполярный город Мезень и получили государственный герб: по золотому полю бежит рыжая лисица.
Сначала Сокольня, где жили помытчики, стояла верстах в пятнадцати по Мезени, называлась Лампоженская слободка, выстроилась при Иване Калите на речном заливном острове: почему ставили заимку в столь незавидном месте, нам неведомо и никогда не узнать. Только лет через двести государеву сокольню перетащили на новое место – к устью Мезени. Может, там (в Лампасне) было безопаснее вываживать соколов-слетышей, ставить на крыло, менее было у сокола возможностей при напуске на птицу, поднявшись в небесный аер, вернуться в родное гнездовье на Канин, Вайгач, на Матку. Но когда московский князь Калита, собирая казну, с молодым задором забрал под себя Печору, устье Оби, обложил данью Пермь, чтобы купцы везли в московскую казну чудское серебро и скифское золото – река Мезень и Пинега обрели особое значение для государевой казны. Две приполярные реки вдруг выпятились на всеобщее посмотрение и заставили говорить о себе в приказах Кремля как о неиссякаемых угодьях московского двора, богатство которых невозможно измерить. О великом будущем Поморского края еще мало кто задумывался, вся история Скифской Руси была в тумане, события двигались осторожно, на ощупь, но вот сел на престол первый царь Иван Васильевич Грозный и, прозорливо взглянув на Сибири, невольно понудил русских поморов зашевелиться. И с великой охотою ринулись мои предки на неведомый Восток, где, по сказкам лихих «людишек», сулился «золотой дождь» и счастливая жизнь…
«Около 1326 года новгородцы и двиняне опять ходили в Скандинавию. Они тогда уже владели морской дорогою от Скандинавии до Печоры». Видоки, новгородцы и дети архиепископа Василия в 1316 году прошли из Колы к Мурманскому Носу (Нордкапу) обогнули его, побывали в Галогаланде и были отнесены жестоким штормом к северо-западу. В 1347 году Моислав Новгородец и сын его Яков ходили на северо-восток на трех судах. «И всех их было три юмы, и одна из них погибла, а две их потом долго носило ветром и принесло к высоким горам». Так описывает то путешествие архиепископ Василий. – «И свет был в месте том самосиянен, яко не мощи человеку исповедати: и пребыша не видеша, но свет был многочасный светящийся паче солнца. Моислав и Яков трижды посылали своих спутников на высокую гору видети свет. Один из новгородцев умер. Моислав и Яков побегоша вспять, ибо им не дано было дале того видети светлости, тоя неизреченные».
Картину северного сияния можно считать древнейшим описанием этого явления.
В 1328 году новгородский наместник печорской стороны Михаил Фрязин выходил на судах в Ледовитый океан добывать моржовую кость и тюленей.
Высокие горы, упомянутые архиепископом Василием напоминают Новую Землю. «Послание Василия Новгородского» содержит достоверные сведения о приключениях новгородских мореходов, покорявших «Дышующее море» до Соколиных гор Югры. Василий Новгородский соорудил в Софийском соборе Новгорода медные вызолоченные Царские ворота и огромные паникадила, на которых были отлиты из бронзы и покрыты золотом сказочные полузвери китоврасы. Кентавр, увенчанный зубчатой короной, украшал медные зеркала (медали), что были обнаружены в Поморье в разных местах. Этих китоврасов лепила из глины каргопольская игрушечница Ульяна Бабкина: зеркало с китоврасом обнаружили на Таймыре в поклаже безымянных поморцев, потерпевших аварию в начале XVII века. Знак китовраса сопровождал древнерусских мореходцев. Как мне помнится, мифического полузверя китовраса вышивали мезенские женщины на полотенцах и подзорах, вывязывали на рукавицах и шерстяных носках.
Письменные упоминания Ледовитого моря начинаются с начала второго тысячелетия, а куда же деть первое тысячелетие, когда апостол Андрей Первозванный пришел крестить Русь еще при жизни Иисуса Христа и по возвращении на родину, совершив путешествие вокруг Европы, был распят на косом кресте. Об этом летописцы отчего-то умалчивают, не вспоминает ни церковь, ни русская история о великом подвиге апостола, открывшем монастырь на Вааламе и крестившего население Киева, Полоцка, Словенска, народы по Дону и Днепру. Андрея Первозванного высоко чтил великий царь и первый император Иоанн Васильевич Грозный, которого чужебесные поклонники Петра I сронили и стоптали в беспамятство.