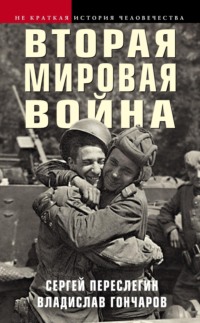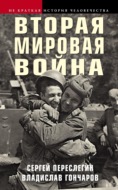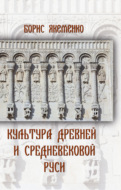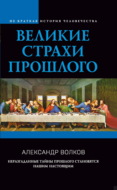Kitabı oxu: «Вторая мировая война»
© Переслегин С. Б., Гончаров В. Л., 2024
© ООО «Яуза-каталог», 2024
Памяти Руслана Исмаилова.
Предисловие авторов
9 мая 1945 года Вторая мировая война ушла в историю. В течение нескольких последующих лет она превратилась в средство конструирования этой истории, в инструмент для создания мифов – и остается им до сих пор.
Мифом стала даже дата окончания войны. Дело в том, что первый раз капитуляция Германии была подписана 7 мая 1945 года в городе Реймсе – с условием, что боевые действия будут прекращены к утру 9 мая. Помимо представителей США и Великобритании, документ подписал и советский представитель при союзном командовании генерал Суслопаров (правда, сделал он это без санкции из Москвы, на свой страх и риск).
Однако Сталин заявил протест, и Реймсская капитуляция была официально объявлена «предварительной» – какой она фактически и являлась по сути своих условий. После этого в ночь с 8 на 9 мая в Берлине состоялась официальная церемония подписания безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Только теперь сопротивление прекращалось немедленно (то есть тогда же, когда это и было предусмотрено в Реймсе). Подписи под актом были поставлены в 23:30 по берлинскому (то есть среднеевропейскому) времени. В Москве, находящейся значительно восточнее Берлина, стрелка часов уже миновала полночь, и наступило утро 9 мая. В этой связи Европа празднует День Победы 8 мая, а Россия и страны бывшего Советского Союза – 9-го, по своему поясному времени.
Настоящая книга отличается от многих тысяч работ о самой великой мировой войне только в одном: авторы признают неразрывное единство «документа» и «мифа» – и анализируют прошлое, опираясь на это единство.
Нет, речь идет не о том, чтобы уравнять документ и легенду, факты и мифологию либо же заменить историю одним из мифов. Цель этой книги в другом: рассмотреть сопровождающие войну мифы как неизбежный и неотъемлемый элемент ее истории, понять их происхождение и – что гораздо важнее – степень обратного воздейстивия мифов на историю войны. Мы подробно разберем некоторые мифы, проверим их «на прочность» по документам и даже поэкспериментируем с их созданием.
Важно понимать, что миф невозможно создать на пустом месте. Для его возникновения всегда должны существовать какие-то предпосылки – иногда настолько веские, что миф следует рассматривать как альтернативную версию истории и изучать его содержание настолько же тщательно, насколько мы пытаемся вскрыть ход событий по документам. Авторам знакомы случаи, когда попытка на основе реальных событий и фактов создать заведомый «фейк», имеющий целью исключительно умственный эксперимент (или розыгрыш), приводила к неожиданному открытию: придуманные события имели место в действительности!
Более того, бывало, что заведомо конспирологическая теория внезапно получала документальное подтверждение: не что было именно так – но что действительно происходило нечто подобное… а главное – столь же невероятное в общепринятом восприятии. Наиболее известным примером такого «сбывшегося мифа» является провокация японского нападения на Перл-Харбор, которую мы разберем в соответствующей главе.
Наконец, не является секретом, что история – это в первую очередь интерпретация. Один и тот же набор фактов можно уложить по-разному, создав разные трактовки и сделав из них противоположные выводы. Историки, в первую очередь военные, знают это особенно хорошо. Еще в начале 1950-х адмирал Исаков в предисловии к переводу американского сборника документов «Война на Тихом океане» отмечал парадоксальный на первый взгляд факт: «В наши дни под большое сомнение ставится общепринятое утверждение о „проверке временем“, согласно которому с течением лет исторические исследования все более приближаются к истине по мере накопления новых данных… Во многих случаях более ранние научные публикации по Второй мировой войне относительно объективнее освещают события» – ибо содержат более свежий взгляд, не подверженный последующим трактовкам и искажениям.
Кроме того, ценность самых ранних публикаций еще и в том, что они излагают ту картину, которая виделась участникам событий, – то есть наиболее адекватно отражают Реальность, в которой эти люди существовали. А без максимально полной реконструкции Реальности невозможно понять причины решений и действий людей, в ней существовавших…
Ни для кого не секрет, что история не только «сюжетна», но и «личностна». Любые исторические события не только образуют стройную цепь причинно-следственных связей – они неотделимы от характеров людей, которые эту историю творили. Зачастую суть тех или иных событий невозможно понять, не создав психологического портрета их ключевых участников. При этом крайне опасно оперировать предубеждениями, «заглядывая в конец учебника» и отталкиваясь в своих оценках от уже известного финала событий.
Так, быстрое падение британской крепости Сингапур в феврале 1942 года было в немалой степени обусловлено неудачными действиями командира 22-й австралийской бригады Гарольда Тейлора, который под натиском японцев раз за разом отводил свои батальоны без приказа и регулярно терял управление войсками. Возникает соблазн представить его безответственным и некомпетентным трусом, уверенным, что чин бригадира спасет его от трибунала.
Среди британцев такие командиры действительно были – достаточно вспомнить бригадира Никольсона, в мае 1940 года после лишь двух дней сопротивления сдавшего в Кале свежую 30-ю пехотную бригаду, или же кэптена Бойер-Смита, который в апреле 1941 года прямо нарушил приказ адмирала Каннингема: со своими крейсерами двигаться в греческий порт Каламата для эвакуации отошедших туда британских войске. Но кэптен повернул обратно, мотивировав это наличием в море итальянских линкоров – которые в это время на самом деле отстаивались в Таранто. Единственным наказанием ему стало списание на береговую должность до конца войны. Бригадир Никольсон, напротив, был объявлен героем, – ибо в период поражений стране требовались герои. Он наказал себя сам, покончив самоубийством в немецком плену: выбросился из окна.
Однако вернемся к бригадиру Тейлору. Обращение к его биографии рисует совершенно иной портрет. Ученыйхимик, доктор наук, крупный специалист в области судебной медицины, в годы Первой мировой он проявил себя храбрым офицером – но в 1942-м оказался непригоден к командованию боевым соединением в экстремальной обстановке, где требовались железные нервы… либо изрядная доля равнодушия к людям и ситуации. Зато в японском плену, в условиях куда более экстремальных, но не требующих быстрого принятия решений, Тейлор проявил себя с самой лучшей стороны: организованная им школа помогла пленным солдатам мобилизовать свои внутренние силы и перенести тяготы жизни за колючей проволокой…
Итак, любое историческое событие можно трактовать едва ли не противоположным образом: нерешительность принять за трусость, трусость превратить в героизм, а героя обвинить в трусости. И созданная один раз трактовка впечатывается надолго, чтобы подвергнуть ее сомнению, приходится прикладывать неизмеримо большие усилия.
* * *
Мы не ставим перед собой задачи рассказать в одной сравнительно небольшой книге обо всей Второй мировой войне. Сделать это невозможно, а немногочисленные попытки как-то «уложить» всю войну под одну обложку, в том числе и предпринятые такими профессионалами, как Курт Типпельскирх и сэр Бэзил Генри Лиддел Гарт, привели лишь к появлению неудобочитаемых томов энциклопедического формата.
Представляемая вашему вниманию книга представляет собой набор очерков, в которых события 1939-1945 годов рассматриваются как «приключения стратегии»1. Для очередного издания текст книги был кардинально переработан и существенно дополнен. В ней появилось несколько новых глав, были добавлены иллюстрации и карты, полностью изменилась структура и концепция Приложений. Однако главная ее задача осталась той же: показать историю войны как набор связанных друг с другом сюжетов, каждый из которых мог иметь свои альтернативные варианты. Вдобавок большинство из этих сюжетов к настоящему времени обросло мифами, предубеждениями и просто неверными или предвзятыми трактовками, затеняющими суть событий. Разобраться в этой сути, распутав цепочку событий, – занятие, вполне достойное Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро или Ниро Вульфа.
Книга рассчитана в первую очередь на читателя, лишь в общих чертах знакомого с военной историей вообще и «эпохой тоталитарных войн» в частности. Да, конечно, Вторая мировая входит в школьный курс истории, про нее пишутся романы и снимаются фильмы – и хорошие, и плохие. Вспомним советский «Караван PQ-17»: в огромной зале идет совещание высших руководителей Третьего Рейха.
Присутствуют Гитлер, Геринг, Редер и Шнивинд. И все! Ни стенографистов, ни адъютантов, ни порученцев. «Рейхсмаршал, включите, пожалуйста свет. А гросс-адмирал пусть пойдет и нарежет бутерброды!»…
Впрочем, этот фильм, снятый по роману Валентина Пикуля, в свою очередь написанному по мотивам известного исследования Дэвида Ирвинга, – далеко не худший вариант. «Перл-Харбор» и «Спасение рядового Райана» также претендуют на роль аутентичных пособий по истории Второй мировой войны. Как и более старое «Средиземноморье в огне», где английский эсминец уходит, «изрядно пощипанный, но не побежденный», получив столько прямых бомбовых попаданий, сколько хватило бы, чтобы три раза пустить ко дну весь британский Средиземноморской флот. Что это, как не мифы, – или, если угодно, альтернативная история, при этом принимаемая большинством как абсолютно реальное прошлое.
И тут мы впрямую подходим к спорам вокруг недавнего фильма «Двадцать восемь панфиловцев» – о правомерности изображения в художественном произведении событий, заведомо противоречащих документально подтвержденным фактам. Казалось бы: художественный кинофильм не обязан следовать документам! Однако очень многие восприняли показанное на широком экране как равноправную альтернативу, которая способна заместить изложение реальных событий и едва ли не попасть в учебники истории. И нельзя сказать, что такое опасение совсем не имеет под собой оснований…
Впрочем, мы смеем надеяться, что даже искушенный знаток Второй мировой, старательно обозначающий самолеты «Мессершмитт» буквенным индексом «Bf» и знающий, каким шагом вперед была замена танка Pz. IIIG на Pz. IIIJ, также сможет найти в наших очерках немало пищи для размышлений.
Авторы исходят из того, что история принципиально альтернативна. Далеко не всегда Текущая Реальность складывается из самых вероятных событий. Неосуществленные варианты, возможности, не ставшие явью, продолжают существовать – образуя «подсознание» исторического процесса, «дерево вариантов» того Настоящего, в котором мы живем. В ходе событий это «историческое подсознание» неизбежно воздействует на его участников, подталкивая их к принятию тех или иных решений. Именно поэтому максима «история не имеет сослагательного наклонения» не только бессмысленна, но и глупа. Живая история всегда сослагательна, вероятностна – ибо любой ее актор обладает свободой воли и всегда делает выбор лишь одной из набора доступных ему альтернатив. Но он действует под воздействием той картины событий, которая стоит перед ним в момент выбора, а не видится просвещенному историку много лет спустя.
Но и сейчас все неосуществленные возможности продолжают воздействовать на нас, образуя контекст – а может, и бэкграунд окружающего нас мира. И, конечно, невозможно понять суть стратегии, а тем более разобраться в ее приключениях – или злоключениях? – оставаясь вне контекста, в котором существовала мысль полководца – причем еще тогда, когда наше Настоящее было лишь одним из альтернативных вариантов Будущего.
В некоторых случаях нам придется, следуя примеру шахматистов, вести анализ сразу на двух стратегических «досках», сличая Текущую Реальность с той, которая возникла бы, если…
Часть первая. Европейский пролог
Сюжет первый: кто и почему?
Век – это не обязательно сто лет. Принято считать, что XIX столетие началось в 1789 году, а закончилось в 1914-м, залпами Первой мировой войны. Следующий век, XX, занял всего 77 лет – до падения Советского Союза, рожденного Первой мировой войной. Но в этот исторически короткий период уместились три мировые войны, две научно-технические и несколько социальных революций, выход человечества в космос и овладение ядерным оружием.
Период, иногда называемый «веком тоталитарных войн», – это расцвет индустриальной фазы развития цивилизации, а также начало ее гибели. Индустриальное производство всегда кредитно: деньги на строительство завода расходуются раньше, чем этот завод даст (а тем более продаст) свою продукцию. Поэтому индустриальная экономика не знает «застойных» равновесных решений: она либо расширяется, либо сталкивается с катастрофическим кризисом неплатежей – что мы можем наблюдать сейчас. Вот почему индустриальные государства непрерывно борются – сначала за рынки сбыта, потом (желая сократить производственные издержки) – за источники сырья.
Если мир поделен, первоочередной задачей является вовсе не его новый передел – хотя в рамках национальных государств проблема контроля над рынками стоит достаточно остро. Но важнее другое: поиск экономического пространства, пока свободного от индустриальных отношений. Такое пространство необходимо мировой экономике для того, чтобы сделать очередной шаг развития.
«Эпоха тоталитарных войн» стала разрешением нестерпимого противоречия между конечностью земной поверхности и постоянным расширением мировой экономики. Каждая из войн позволяла «на законных основаниях» поглотить и уничтожить огромный объем индустриальной продукции.
Глобальная война сама по себе явилась хотя и негативным, но огромным рынком. Умело играя на нем, Соединенные Штаты Америки за четыре года превратились из должника в мирового кредитора. Глобальная война приносила огромные разрушения, причем не только в физическом, но и в информационном пространстве: промышленная продукция не только расходовалась (боеприпасы) или уничтожалась (сооружения), но и стремительно устаревала морально.
Тотальные войны играли роль высокотехнологичного дезинтегратора промышленности.2 Эти войны в значительной мере способствовали прогрессу – и не только «негативному» – в производстве вооружений. Значительно повысив связность мира3, они поставили под сомнение такую форму организации общества, как национальное государство. Если Первая мировая вызвала подъем национальных государств Европы (а заодно и вспышку злокачественного национализма), то Вторая как минимум внешне обозначила противостояние между группой националистических государств и союзом «интернационалистических» держав, стремящихся распространять свои ценности и свое влияние далеко за пределы государственных границ и национальных ареалов.4
Второй составляющей конфликта стало столкновение цивилизаций, а по сути – форм структурирования общества и управления им. Великобритания и США, материалистические, рациональные, демократические, меняя политические конфигурации, воюют то с оккультной, магической цивилизацией Германии (по М. Бержье, «нацизм – это магия плюс танковые дивизии»), то с коммунистическим Советским Союзом, взявшимся из подручных материалов строить «царство Божие на Земле», то с синтоистской Японией, опирающейся на лозунг «Дух сильнее плоти» и бросающей против лучшей в мире противовоздушной обороны отряды «камикадзе». Рационализм как форма бытия сражался с иррационализмом, комфорт – с воинской славой. Когда американский авианосец «Йорктаун» было необходимо срочно отремонтировать, чтобы бросить его в решающее сражение, то среди поврежденного оборудования, замена которого была признана жизненно необходимой, оказался автомат по производству газированной воды.
Можно найти и еще одну составляющую – столкновение стратегий.
Сражались морские державы против сухопутных. Сражался советско-германский стиль ведения войны, с его акцентом на красоту операции, с англо-саксонским, опирающимся на превосходство в ресурсах и высшую «большую стратегию», искусство выигрывать мир.
«Эту картинку можно раскрашивать в разные цвета».5 Не нужно только искать в тоталитарных войнах XX столетия борьбу добра против зла, цивилизации против варварства, безоружных демократических государств против готовых к войне безжалостных агрессоров.
В современной картине мира Второй мировой войне отводится роль «наглядного урока», рассказывающего о неизбежности поражения бесчеловечной фашистской Германии, дерзнувшей поднять руку на «свободные народы». Этакий Дж. Р. Р. Толкиен в голливудско-новозеландской проекции.
Увы, все обстоит гораздо сложнее. По сути, все три цивилизации, сражавшиеся между собой во Второй мировой войне, одинаково неприемлемы для современного человека.
Гитлеровская Германия – это национализм и антисемитизм в самых грубых, первобытных формах, это борьба с университетской культурой и костры из книг, войны и расстрелы заложников.
Сталинский Советский Союз представляется системой, отрицающей гуманизм ради цели и тяготеющей к средневековым социальным импринтам (вплоть до инквизиции и крепостного права).
Для демократического Запада, «владеющего морем, мировой торговлей, богатствами Земли и ею самой», типичны отвратительное самодовольство, национальный и социальный расизм6, абсолютизация частной собственности, стремление к остановке времени и замыканию исторической спирали в кольцо.
С другой стороны, Рейх – это гордый вызов, брошенный побежденным торжествующему победителю, квинтэссенция научно-технического прогресса, открытая дорога человечества к звездам. СССР – уникальный эксперимент по созданию социальной системы с убывающей энтропией, вершина двухтысячелетней христианской традиции, первая попытка создать общество, ориентированное на заботу о людях и их личностном росте. Наконец, Запад вошел в историю как форпост безусловной индивидуальной свободы – материальной и духовной.
Безоговорочный успех одной из этих цивилизаций является бедой для человечества, гибель любой из них – невосполнимая потеря. И, анализируя события Второй мировой войны, надлежит всегда об этом помнить.7
Победа антигитлеровских сил опиралась на неоспоримое материально-техническое превосходство на поле боя в сочетании с количественным перевесом – и это обстоятельство вытекало из самой логики Второй мировой войны как конфликта цивилизаций. Завершающая стадия войны стала первым, но не последним примером применения на практике «доктрины Дуэ», предусматривающей отказ от борьбы армий (где всегда «возможны варианты») в пользу методичного и совершенно безопасного для сильнейшей стороны уничтожения городов. Города Европы по сей день не до конца залечили раны, нанесенные бомбардировками и обстрелами 1943-1945 годов.8
С чистыми руками в этой войне не воевал никто.
Захватывая города и земли, гитлеровцы устанавливали режим жесточайшего террора и немедленно разворачивали программу уничтожения евреев, цыган, душевнобольных (поголовно) и всех остальных (выборочно). Советские войска принесли в Европу марксизм в сталинской интерпретации, борьбу с «врагами народа», массовые депортации и грабеж собственности в невиданных пределах. Англичане и американцы несли освобожденным народам «дивный новый мир», густо замешанный на двоемыслии, уничтожающий любую «цветущую сложность», в котором последним аргументом всегда оказывалось насилие – в том числе культурное и экономическое. Пожалуй, один лишь Д. Маршалл, начальник штаба американской армии, не справившийся со своими военными обязанностями, оказался на высоте положения – как политик, разглядев в мертвой Франции и истекающей кровью Германии будущих архитекторов единой Европы.
Сюжет второй: от Версаля до Глейвица
Короны на мостовых
Первая мировая война завершилась масштабной социальной и культурной катастрофой. Австро-Венгрия прекратила свое существование. Оттоманская империя распалась, была оккупирована и раздергана на куски. Германия лишалась восточных провинций, Эльзаса и Лотарингии, выдала победителям флот, уничтожила авиацию, ликвидировала военное производство. Россия утратила социальную целостность, на ее просторах бушевала революция. Франция была полностью обескровлена, Великобритания потеряла финансовую независимость. Даже Соединенные Штаты, сравнительно слабо пострадавшие от войны, оказались неготовыми к неизбежному послевоенному экономическому кризису: их ждали голодные «марши ветеранов» на Вашингтон.
Европа голодала. Пришедшая из Юго-Восточной Азии эпидемия гриппа-испанки унесла новые миллионы человеческих жизней. Все происходило буквально по предсказанию Энгельса: «Крах такой, что короны дюжинами валяются по мостовым, и нет никого, чтобы поднять эти короны…»
В этой ситуации все зависело от того, смогут ли правящие элиты предложить своим народам внятный формат существования, объяснив, во имя чего были принесены военные жертвы, и какая есть гарантия того, что глобальная война не повторится.
Первый «ход» был за союзниками. В Версале, Сен-Жермене, Трианоне, Нейи и Севре были заложены основы нового демократического миропорядка, основанного на идее демократии, суверенитета народов и права наций на самоопределение. Много писали и сейчас пишут о грабительском характере Версальского мира, – но ирония судьбы заключается в том, что державы-победительницы и их лидеры действительно стремились к справедливому миру. Увы, Европа издревле представляла собой кипящий «котел народов», структурируемый наднациональными империями. Провести в ней этнически обоснованные границы было невозможно. Необходимость как-то учитывать императивы военной и экономической безопасности вновь создаваемых государств «возводила эту невозможность в квадрат». Руководство союзников сплошь и рядом отступало от принципов справедливости, руководствуясь своими симпатиями и антипатиями, – а зачастую и обыкновенной местью. Как ни странно, это скорее пошло на пользу делу: в совсем справедливо устроенной Европе новая глобальная война вспыхнула бы уже в середине 1920-х.9
Советская Россия оказалась вне Версальского миропорядка. Она не стала ни победителем, ни проигравшим, она вообще оказалась вне пространства привычной политической игры. Плохо ли, хорошо ли, но правительство Ленина претворило итоги Великой войны в грандиозное революционное строительство: создавался не режим, даже не государство, а совершенно новая культура. Эта культура, основанная на глубочайшем социальном перемешивании, «включении в историю» тех социальных слоев, которые испокон веку существовали вне мировых событийных потоков, придании едва ли не эсхатологического смысла человеческой деятельности, была в начале XX века, в эпоху «революции масс» (по Ортеге-и-Гассету), очень и очень притягательна для многих.
Германия была разбита на полях сражений, но предпочла этого не заметить. Версия об «ударе в спину» – со стороны собственной социал-демократии или трусливых австрийцев болгар и турок – появилась еще до окончания Парижской конференции. Подписывая Версальский договор, немцы не скрывали, что делают это, лишь подчиняясь силе. Было очевидно, что рано или поздно, но одна из величайших культур Европы найдет возможность противопоставить этой силе свою.
Наконец, на политическую арену Европы вышли Соединенные Штаты, впервые проявившие в годы войны свои возможности. Версальский мир был подписан под диктовку Великобритании, – но американский истеблишмент, отказавшись ратифицировать систему мирных договоров, сразу же дал понять, что старый миропорядок будет пересмотрен.
По крайней мере две державы (Италия и Япония), формально отнесенные к категории победительниц, не получили в Версале того, на что они рассчитывали, и перешли в категорию «обиженных». Изначально нежизнеспособным образованием стала Югославия: власть в этой многонациональной и мультикультурной «мини-империи» союзники передали сербскому правящему дому, проигнорировав интересы и остальных наций, включая хорватов, которые эту Югославию первоначально и создавали. Румыния и Венгрия с самого начала имели взаимные территориальные претензии. Польша, пользуясь благоволением победителей (в первую очередь Франции), сразу же захватила обширные территории Литвы, Украины и Белоруссии, в процессе их колонизации предвосхитив те методы, которые позднее будут использованы нацистами на территории самой Польши… Даже Чехословакия, изначально имевшая репутацию мирной и неагрессивной (хотя в 1918-1919 годах ее войска успели всласть пограбить на территории России), получила населенную немцами Судетскую область – что было залогом неизбежного будущего столкновения с Германией. Одновременно она втянулась в вооруженный конфликт с Польшей из-за Тешинского горнорудного района.
Если до войны Европа была «рабочим пространством» одного, хотя и очень серьезного взаимного конфликта10, то теперь очагов войны оказалось несколько десятков.
С сугубо формальной точки зрения наименее разрешимой была проблема Восточной Пруссии. Отделенная от остальной территории Германии Данцигским (или Польским) «коридором», эта область обладала отрицательной связностью. Германия не могла ни отказаться от данной территории, ни защищать ее в рамках «позиционной игры на мировой шахматной доске». «Данцигская проблема» стала гарантией будущей европейской войны.
При этом викторианская Англия демонстрирует нам высоты и технического, и культурного прогресса, до сих пор завораживая воображение имперской эстетикой, строгой и утонченной одновременно. Оборотной стороной этого прогресса стала рационализация жестокости: «за ломку машины ломаются кости и ценятся жизни дешевле чулка» (лорд Байрон). Лишь усилия великого Дизраэли привели к ликвидации глубочайшего культурного раскола внутри самой страны, когда элита империи перестала рассматривать простолюдинов как недочеловеков, признав за ними право принадлежности к высшей нации. За пределами же своей метрополии Британия оставляла за собой расстрелянные с моря города и разрушенные экономики, мало заботясь о законности своих действий и вполне заслуженно снискав ненависть во всех концах мира.