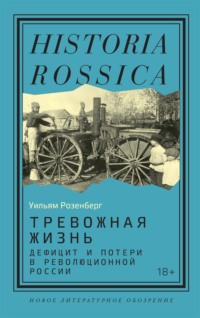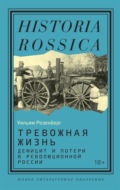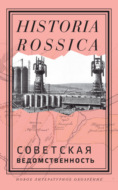Kitabı oxu: «Тревожная жизнь: дефицит и потери в революционной России»
William G. Rosenberg
States of Anxiety
Scarcity and Loss in Revolutionary Russia
Oxford University Press 2023
Редакционная коллегия серии HISTORIA ROSSICA С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман Редактор серии И. Мартынюк Научный редактор В. Семигин Перевод с английского Н. Эдельман
На обложке: Красноармейцы готовят обед в полевой кухне на глазах у деревенских детей. 1919 год. Из фондов ЦГАКФФД СПб.
© William G. Rosenberg, 2025
© Н. Эдельман, перевод с английского, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *
Моим российским коллегам всех поколений, отважно стремящимся к пониманию истории в ее полноте
Предисловие к русскому изданию
Исторический труд невозможно написать в одиночку. Учителя и ученики автора, его коллеги и их многочисленные статьи и монографии неизбежно оказывают влияние на концепции, точку зрения и природу восприятия источников. Это в особенности справедливо по отношению к событиям, процессам и значимым персонажам русской истории конца XIX – начала XX века, в совокупности составляющим то, что я понимаю под «революционной Россией».
В ходе моих рабочих поездок в Россию, особенно после того как перестройка отворила многие двери, я пользовался содействием со стороны историков и архивистов – сперва моих сверстников, а затем и наших с ними учеников. Это содействие было критическим в обоих смыслах, имеющихся у этого слова в английском языке: и необходимым, и бросавшим аналитический вызов. Мне очень дорога память о совместной работе с увлеченными и отзывчивыми русскими коллегами и в бурные 1990-е годы, и в годы последующих перемен.
Большое значение для меня, как для историка, имели совместные публикации и международные коллоквиумы. В 1998–2000 годах два сборника документов о протестах рабочих в Советской России стали плодом международного сотрудничества ученых1. Среди публикаций можно выделить и «Критический словарь Русской революции». Он вышел сперва в Великобритании и США, а затем – в России. Вместе со мной его соредакторами были Эдвард Актон, профессор Новой истории Европы Университета Восточной Англии, и Владимир Юрьевич Черняев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. А над созданием тома работали лучшие специалисты по русской истории из Великобритании, Израиля, Италии, Канады, России и США2.
Международные исторические конференции позволяли собраться за одним столом самым неожиданным личностям. На одной из первых таких конференций, в 1987 году, московский историк Владимир Булдаков представил меня академику Исааку Израилевичу Минцу. Почтенный академик сразу же вспомнил мое имя. Он заявил, что читал мою книгу о русских либералах3, и выразил удовольствие от личной встречи с «буржуазным фальсификатором». По инициативе Бориса Ананьича, Павла Волобуева, Валентина Дякина и Леопольда Хеймсона с 1990 года в Петербурге проходил коллоквиум, посвященный ключевым аспектам российского революционного опыта до, во время и после 1917 года. Итогом петербургских встреч стали русскоязычные издания с лучшими (и нередко противоречащими друг другу) образцами современных исторических исследований4.
Памятен мне и годичный семинар при Мичиганском университете, где собирались выдающиеся русские историки и архивисты и их коллеги со всего мира. Мичиганский семинар был площадкой для разговора об архивах, документах и институтах социальной памяти. Борис Ананьич, например, в своем интересном докладе сравнил источники и этику процесса над декабристами с источниками и этикой процесса по «Академическому делу» 1928 года. А Владимир Лапин рассказал о том, как историки цитируют архивные материалы, и о том, как предубеждения ученых могут повлиять на их восприятие источников5.
За долгие годы сотрудничества с учеными из разных стран я научился любить и ценить коллегиальность, коллективную научную работу. Я благодарен российским коллегам – преданным своему делу архивистам и историкам – за теплый прием и постоянную поддержку. Я признателен Игорю Мартынюку из «Нового литературного обозрения» за помощь и поддержку в более сложные времена и Валерию Семигину за кропотливую и трудоемкую работу научного редактора, а также Николаю Эдельману, который превосходно перевел мою книгу на русский язык. Кроме того, я благодарен Борису Колоницкому, моему коллеге и давнему другу, за то, что он взял на себя труд прочитать перевод моей книги и дополнил его конструктивными замечаниями и уточнениями. Любые оставшиеся ошибки, конечно, исключительно на моей ответственности. Все фотографии для книги предоставлены Центральным государственным архивом кинофотодокументов в Санкт-Петербурге (ЦГА КФФД СПб). Я выражаю огромную признательность Алевтине Сергеевне Загорец и Оксане Игоревне Морозан за помощь в их отборе и подготовке к публикации.
Мое посвящение к русскому изданию книги – всего лишь ничтожная попытка выразить мою огромную благодарность коллегам – архивистам и историкам – в России.
Предисловие к английскому изданию
Данная работа, долго вызревавшая, отражает еще более давний интерес к революционной России, пробудившийся у меня задолго до того, как Ричард Пайпс подал мне идею изучить дилеммы и трудности, с которыми столкнулись в те дни либералы из числа конституционных демократов. Будучи молодым и наивным, поначалу я считал этот период временем их надежд и ожиданий, равно как еще больших разочарований, последовавших за тем, как проблемы революционных изменений взяли верх над наилучшими намерениями. В те давние годы в наших представлениях о революционных событиях главенствовали политика, партии и политические идеологии. С ними же была связана и большая часть доступных фактов. (Моя армейская карьера покатилась под откос, когда я не пожелал отказываться от подписки на «Правду».) Наибольшие возможности для доступа к советским материалам мне давала тема «кризиса верхов». Обилием материалов по этой теме отличались Ленинская библиотека в Москве и библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Архивы за этот и последующие периоды были заперты на замок. Хорошо помню московскую библиотекаршу, которая не желала выдавать мне номера журнала, издававшегося в 1917 году кадетской партией, пока не прочтет их сама. Дело было вовсе не в цензуре, а в любопытстве и восторге открытия.
Став гораздо старше (хотя и не обязательно гораздо умнее), я по-прежнему восхищаюсь теми поразительными и прогрессивными изменениями, которых в эту революционную эпоху добились в таких сферах, как уголовная теория и право, гражданский брак, получение женщинами независимости от церкви и от своих мужей и даже (или даже особенно) литература, театр, искусство и архитектура. Некоторые утопические идеи этого первого, весьма недолгого этапа русской и большевистской культурной революции однозначно заслуживают восхищения. Одну из стен моего жилища до сих пор украшает репродукция картины К. С. Малевича «Крестьянки». (На другой висит одна из поразительно душевных русских фотографий Джека Колмена.) Сущность и масштабы личной и коллективной катастрофы данного периода сделались невыразимым фоновым шумом, феноменом, распознаваемым статистически, но не поддающимся полноценному описанию из-за недоступности нужных фактов. Над нашим мышлением продолжала довлеть политика, особенно в 1960-е годы, когда в фокусе антивоенных протестов находились преимущественно политические изменения, в то время как социальные и культурные аспекты в целом сохраняли маргинальное значение.
Мое собственное мышление начало меняться, когда я попытался вникнуть в дилеммы русских либералов той эпохи в надежде, что они могут пролить некий свет на тогдашние потрясения. Вывод, к которому я пришел, написав в 1974 году книгу «Либералы в русской революции», состоит не в том, что усилия кадетов по построению демократического политического строя и институционализации таких ценностей, как гражданские права и свободы, не были достойны восхищения, – а в том, что их политика чем дальше, тем сильнее расходилась как с социально-экономическими реалиями русского революционного движения, так и с тем влиянием, которое самая опустошительная война в истории могла оказать на революционную культуру насилия. По этой причине я проникся интересом к неформальному кружку Чарльза Тилли в Мичиганском университете и к плодотворной деятельности Леопольда Хеймсона и его семинарам в Колумбийском университете. Вступив в ряды все более обширного (и все более проницательного) отряда, я приступил к серьезному изучению российского рабочего движения вместе с Дайаной Коенкер. К моменту публикации нашей книги «Забастовки и революция» в 1989 году в Советской России снова развернулась полноценная политическая революция, хотя, как и в 1914–1922 годах, ее социальные, экономические и культурные аспекты – и особенно текущие и будущие последствия лишений и потерь – были еще не вполне понятны.
Понятно, что в данной работе отразилось влияние огромного числа учителей, исследователей и студентов, слишком многочисленных, чтобы указывать их всех поименно. При том что в библиографии указаны только цитируемые источники, на мой образ мысли, безусловно, повлияло множество других первоклассных книг и статей. На протяжении почти полувека большим стимулом для меня служили идеи и критические замечания моих студентов в Мичиганском университете. Многие из них впоследствии сами сделали блестящую карьеру, опубликовав (по последним подсчетам) около сорока книг. Мне отрадно думать, что моя работа с ними не создавала мне препятствий, каких я порой опасался. Ежемесячный междисциплинарный семинар, проводившийся на протяжении 1990-х годов небольшой группой сотрудников факультета, позволял мне быть в курсе различных концепций и теорий социальных изменений. Серия выдающихся коллоквиумов, организованных Леопольдом Хеймсоном в Санкт-Петербургском университете истории, дала мне возможность познакомиться со множеством блестящих исследователей из России и других стран, с тем, над чем они работали, и с их нередко спорными интерпретациями. Я очень благодарен моим коллегам как из старшего, так и из нынешнего поколения, прилагавшим все усилия к тому, чтобы каждые три года проводить этот семинар, затрагивающий темы, интересные широкому кругу историков.
Леопольд Хеймсон на протяжении многих лет был для меня постоянным источником идей, критических замечаний и дружбы. Моя верность двум совершенно разным историческим школам, сложившимся при Колумбийском и Гарвардском университетах, возможно, покажется кому-то удивительной, однако дружба и солидарность, проявленная сотрудниками и моими коллегами из обоих университетов, сделали мое мышление более масштабным, несмотря на различие между точками зрения (а может быть, благодаря ему). Этому же способствовало и то, чему меня научил Фрэнсис Блоуин по части изучения архивов и их содержимого. На международный семинар в Анн-Арборе в 2004–2005 годах съезжались ведущие ученые и архивисты как постсоветского пространства, так и многих других стран. С уверенностью утверждаю, что сборник статей и материалов семинара, любезно выпущенный издательством University of Michigan Press, представляет собой огромную ценность и для историков, и для архивистов. В ходе юбилейных мероприятий 2017 года я имел возможность ознакомить с фрагментами данной работы своих коллег из английского Кембриджа, а также из Кембриджа в штате Массачусетс, Парижа, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Принстона, Уэллсли и Кеннановского института в Вашингтоне. Я благодарен им за отзывы и критические замечания, ко многим из которых я отнесся со всей серьезностью. Все фотографии для данной книги были предоставлены Центральным государственным архивом кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб).
Дэн Орловский ознакомился со всей моей книгой, Хизер Хоган – с главами, посвященными 1917 году. Серьезную помощь и ценные советы я получил от Бориса Колоницкого и Альфреда Рибера, а также от анонимных рецензентов из Oxford University Press. Мой редактор Нэнси Тофф из Oxford уже на первых порах понукала меня дополнить этой книгой обширную литературу по данной теме. В ее лице я имел замечательный источник поддержки при работе как над этим проектом, так и над предыдущей книгой об авторитете в истории и в архивном деле, которой открывается оксфордская серия «История и архивы». Кроме того, большую помощь на всех этапах издания книги мне оказывал Брент Мэтени из Oxford University Press, за что я ему очень благодарен. Моя книга, несомненно, заметно выиграла от всех этих утомительных трудов и понуканий.
Как часто бывает с историками, изучающими далекие края, моей семье приходилось мириться с моей поглощенностью данным проектом, моими частыми отлучками с целью сбора материалов и тревогами, знакомыми большинству евреев, эмигрировавших из этой страны. (Моя теща всякий раз радовалась, что меня не «посадили».) Все мои уверения, что переход через улицу – дело куда более опасное, были тщетными. К моему счастью, моя чудесная жена Элинор на протяжении более шестидесяти лет упорно сопротивлялась моим попыткам вовлечь ее в русистику несмотря на ее пятерки по русскому языку. Ее здравомыслие в этом и во многих других отношениях позволило нам избрать для себя два совершенно разных, но в равной мере плодотворных дела, сильно обогативших нашу жизнь и снабдивших если не нас обоих, то хотя бы меня рядом важных тем и вопросов, заслуживающих внимательного рассмотрения. Я нахожусь перед ней в глубоком долгу.

Европейская часть Российской империи (по состоянию на октябрь 1917 года)
Введение
«За рамками Больших сюжетов» российских войн и революций
Столетие русской революции осталось в 2017 году практически никем не замеченным. Из печати вышло несколько новых удачных обобщающих работ, в ведущих институтах и университетах был проведен ряд научных конференций и лекций, а к нашим представлениям об этом событии, до сих пор имеющем репутацию ключевого узла в истории XX века, добавилось несколько новых и не очень новых подробностей. В отличие от семидесятилетия революции, отмечавшегося в 1987 году, на этот раз дело обошлось без оживленных дискуссий о его историческом значении. Также не прозвучало никаких новых аргументов о его последствиях в глобальных масштабах и отмечались в лучшем случае лишь случайные указания на его значение в плане понимания современного мира. Стоит ли удивляться, что в первую очередь это было характерно для Российской Федерации. Тело Владимира Ленина до сих пор лежит у кремлевской стены на Красной площади, сохраняемое и выставленное на обозрение в качестве исторической диковины, но более не связываемое каким-либо четко обозначенным образом с исторической памятью. Проходящие мимо него посетители слабо, а то и вовсе не осведомлены в отношении десяти дней, которые якобы потрясли мир. Внеисторический режим В. В. Путина насаждает церемониальные связи главным образом с воображаемым величием Российской империи, нежели с реальным миром потерпевших фиаско советских богов.
С другой стороны, юбилейные торжества 1987 года пришлись на ключевой момент советской истории. Затеянная Михаилом Горбачевым перестройка была отмечена доселе небывалым уровнем открытости (гласности), которая быстро начала подрывать формальную монополию партии на власть, прописанную в пресловутой 6-й статье Советской конституции. Сам по себе юбилей 1987 года в этом отношении был знаменательным не как чествование свершенного Коммунистической партией за семьдесят лет, а как ровно противоположное. Связь между политической монополией партии и ее легитимностью в принципе носила исторический характер, опираясь на официально бесспорные представления о предопределенности исторического прогресса. Советский социализм был спланирован и построен последователями Ленина, однако власть партии была предписана и узаконена историей в качестве необходимого и неизбежного этапа на пути к построению коммунизма во всем мире. Большой сюжет о триумфах большевизма в буквальном смысле представлял собой прескриптивные знания, самым очевидным образом переставшие действовать. Более того, не будет большой натяжкой сказать, что крах исторического эссенциализма в Большом советском сюжете был и причиной, и следствием крушения СССР как функционального государства. Причиной – потому что формальная законность права партии на власть опиралась на истины, вытекающие из конкретного понимания истории и ее предполагаемых законов, которые чем дальше, тем больше представлялись ложными. Следствием – потому что сам этот сюжет, утратив смысл в качестве орудия легитимизации, был сочтен лишенным какой-либо исторической ценности.
Истоки Большого советского сюжета предшествовали революции, увековечившей его: хорошо известные идеологические и политические корни этого сюжета восходят к радикальному российскому народничеству XIX века и нараставшей волне европейского марксизма. То же самое верно и для второго Большого сюжета, тоже оказавшегося под ударом в 1980-е годы, на этот раз в связи с отмечавшимся в 1989 году двухсотлетием Французской революции. В данном случае в нападках участвовали ведущие французские консерваторы, включая таких видных историков, как бывший коммунист Франсуа Фюре. Консерваторы усматривали в революционной Франции не фундамент демократического социализма, а источник кровавого авторитаризма, отразившегося во французском большом терроре6. Среди прочих к Фюре вскоре присоединился выдающийся принстонский историк Арно Майер. В книге «Фурии» он возводил французский и советский террор к их общим революционным истокам7. Немецкий исследователь фашизма Эрнст Нольте и Ричард Пайпс из Гарварда, только что закончивший свой собственный монументальный труд о русской революции, пошли еще дальше, обозначив большевизм в качестве важнейшего источника нацизма и Холокоста8. Когда на юбилейные торжества 1989 года в Париж в качестве представителя монархии прибыла английская королева Елизавета II, газета «Фигаро» призвала Францию расстаться с революционными иллюзиями. «Французская революция кончилась, – писал редактор издания, – левое дело мертво»9.
Идея о том, что революция способна построить демократический социализм и выполнить несбывшиеся обещания 1789 года, служила Большим сюжетом и для многих ведущих фигур в революционной России. Ее решительно продвигали социал-демократ Н. С. Чхеидзе, возглавлявший умеренную меньшевистскую фракцию имперской Государственной думы, а с февраля по сентябрь 1917 года руководивший Петроградским советом; его коллега И. Г. Церетели, видный грузинский меньшевик и главный рупор партии в 1917 году, участник первого состава Временного правительства; и А. Ф. Керенский, в 1917 году ставший военным министром, а затем министром-председателем, самая известная фигура революции после В. И. Ленина. В глазах российских демократических социалистов гегельянские и марксистские концепции причинности, коренившиеся в социально-экономических классовых интересах и отношениях, в то же время структурировали оптимистическую логику исторического будущего Российской империи, хотя, вопреки представлениям большевиков, едва ли определяли его. Прогрессивное будущее демократических социалистов было предсказуемым в «нормальные» времена, но его без труда могли изменить такие чрезвычайные обстоятельства, как Первая мировая война. Таким образом, за Большим сюжетом демократических социалистов скрывался куда больший пессимизм в отношении того, каким путем на самом деле (а не согласно логике) может пойти история. Такая великая катастрофа, как война, могла спровоцировать революционный взрыв прежде достижения социальной и культурной зрелости, необходимой для построения социализма на демократической политической основе. С точки зрения многих российских демократических социалистов, именно в этом заключалась главная беда 1789 года, который в конечном счете принес политические свободы и возможность равенства после бурного и жестокого периода бедствий, с наследием которого так и не было вполне покончено.
После исчезновения Советского Союза в 1991 году уцелел только один Большой сюжет о русской революции – сюжет о возможности либерального общественного прогресса в России, связанной с ответственной представительной политикой и полноценными гражданскими свободами. Этот нарратив тоже глубоко коренился в российском прошлом. Хотя российский либерализм так и не получил массовой народной поддержки, его различные течения после Великих реформ Александра II 1861–1874 годов получили развитие в рамках представительных сельских институтов (земств) и городских дум, и в еще большей степени – в ходе становления юридической профессии и модернизации ведущих российских университетов. Когда в России во время революционных событий 1905 года возникли политические партии, центральное место ненадолго заняли либералы из числа кадетов – членов Конституционно-демократической партии. Их лидером был видный историк П. Н. Милюков, хорошо известный в мире благодаря своим трудам о реформах Петра Великого и сформулированной им «этатистской» позиции в русской историографии, согласно которой ключевую роль в процессах социально-экономической модернизации и политических реформ играло само государство.
П. Н. Милюкова окружали другие светила, отражавшие различные течения либерального движения: передовой врач, специалист по финансам и знаток сельского хозяйства А. И. Шингарев, в 1890-е годы потрясший Россию своей книгой «Вымирающая деревня»; консервативный юрист и блестящий оратор В. А. Маклаков, брат царского министра внутренних дел; провинциальный эксперт по железным дорогам Н. В. Некрасов; и А. А. Мануйлов, экономист и ректор Московского университета. Все они в 1917 году стали министрами. В число членов кадетского ЦК входил и В. Д. Набоков, отец знаменитого писателя, а также М. М. Винавер и С. В. Панина. Первый был ведущим защитником прав евреев, в 1906 году вместе с прочими изгнанный из новой Государственной думы после протеста против ее роспуска, оглашенного в финском Выборге. Вторая – прославленной общественной деятельницей и основательницей Народного дома в Петербурге. После прихода большевиков к власти С. В. Панина была обвинена в антисоветской подрывной деятельности, но оправдана в ходе захватывающего публичного процесса. Основу кадетской программы составляли требования всеобщих гражданских прав, более демократически избранных представительных собраний, полноценного решения злободневного вопроса о землепользовании и землевладении и устранения препятствий к промышленному развитию и экономической модернизации. Их разделяли либеральные промышленники и прочие члены так называемой Прогрессивной партии, во главе которой стоял московский текстильный фабрикант А. И. Коновалов, и более консервативной либеральной партии октябристов, основанной А. И. Гучковым, которые поддерживали царскую конституционную реформу 1905 года в качестве важного шага в верном направлении. В 1917 году Коновалов стал первым российским демократическим министром торговли и промышленности, а Гучков – первым военным министром.
Большой либеральный сюжет, снова набравший популярность в ходе крушения советского строя в 1980–1990-х годах, отражал этатизм П. Н. Милюкова и общую либеральную приверженность гражданским свободам. Имея прочную опору в виде прав частной собственности, социального значения экономического роста и неограниченного индивидуализма, Большой либеральный сюжет подчеркивал историческую необходимость насаждения равных прав и социально-экономических возможностей сильным государством, выступающим против прочно окопавшегося земельного дворянства, отстаивающего свои привилегии. В более сконцентрированной «неолиберальной» форме этого сюжета, укоренившегося в России в 1990-х годах, даже умеренный демократическо-социалистический нарратив не был лишен изъянов вследствие его идеи о возможности справедливого распределения экономических благ и социальных услуг путем регулирования рыночного обмена и установления пределов к накоплению личного богатства.
Русская революция и в этом отношении не только посеяла семена советского авторитаризма, но и определила судьбу политических свобод и демократических прав в условиях социального взрыва при отсутствии сильного государства, которое могло бы их защитить. Как внутри России, так и за ее пределами эти неолиберальные посягательства после 1991 года оформились как Большой сюжет о политическом заговоре, безжалостных политических амбициях и личных трагедиях, не дававший ни малейшего повода для восторгов. В работах, написанных и внутри, и вне России, тропы власти, заговора, насилия и жестокости, долгое время имевшие антисоциалистическую направленность, были вскоре переработаны в элементы старого консервативного нарратива о самой революции. В рамках этого старого/нового подхода все социально-политические революции снова превратились в сомнительные по самой своей природе. Великие революции стали скорее ужасными, чем великими. При этом утверждается, что определяющий эффект материальных условий или социально-культурного менталитета и эмоционального состояния неспособен сопротивляться воздействию со стороны человека, то есть идеологически обусловленной политике. Всюду, где бы ни происходили революции, их творцами были эгоистичные, властолюбивые, движимые идеологией революционеры, чьи поступки подтверждают знаменитые слова Ханны Арендт о том, что «свобода лучше сохранилась в странах, где никогда не было революций, какими бы возмутительными ни были обстоятельства, связанные с властью»10.
В своих более свежих формах разновидности трех Больших сюжетов о 1917 годе в то же время являются упражнениями в исторической апроприации, представляющей собой изучение прошлого сквозь объектив презентизма и наделение его смыслом в презентистских целях. Большинство подобных «переоценок», за исключением тех, что тщательно подкреплены новыми фактами, ошибочно предполагают, что такие текущие события, как крах Советского Союза, каким-то образом изменяют контекстуализованный смысл прежних событий – в данном случае обширные и болезненные неурядицы 1914–1922 годов, когда ленинский режим временно отложил цель построения коммунизма на пепелище мировой и гражданской войн. Сознательно или нет, но большинство больших нарративов вплетают такой контекстуализованный смысл в предзаданные телеологии. Они создают и воссоздают социальную память о прошлом, которая нередко более важна как порождение современной политической культуры, нежели как точка доступа к реальному живому опыту. Иными словами, на первый план выходит нарратив, излагающий сам себя, а не его эмпирические основы. Переоценки исходят из того, что историки прежних дней ошибались. Согласно большим нарративам, общую картину можно понять лишь путем указания ее (больших) политических причин и (как правило, еще более больших) политических последствий, то есть путем ее помещения в телеологические рамки.
Беда этих переоценок и апроприаций – не их презентизм per se и не их зачастую неприкрытое морализаторство. Любой хороший историк старается не допустить ошибок в своем сюжете отчасти для того, чтобы верно оценить его значение для настоящего. На самом деле беда в том, как именно презентистские подходы ставят сложную реальность живого опыта в зависимость от нарратива преднамеренных политических либо идеологических задач. Хорошо известные исследователям российской истории различия между интерпретациями Ричарда Пайпса (выстраивающего свои представления об этом периоде вокруг темы политического заговора) и Мартина Малиа (ставящего во главу угла марксистско-ленинскую идеологию), собственно говоря, являются неотъемлемой частью того же самого (или очень похожего) подхода. Хотя лишь немногие станут отрицать, что русская революция 1917 года занимает серьезное место в истории XX века, само признание того, что наши французские коллеги назвали бы ее événementiel значением, ставит сложные процессы его выстраивания на одну доску с упрощающими обобщениями. Великие события потворствуют Большим нарративам. Те же обычно делают упор на политике и идеологии отчасти потому, что их легче всего вычленить из хитросплетений момента, легче всего описать и задокументировать и проще всего связать с последствиями. При этом личный и коллективный социальный, культурный и эмоциональный опыт объявляется несущественным или, по крайней мере, относительно несущественным с точки зрения исторических последствий11.
Самим по себе интересным историческим обстоятельством в этой связи выглядит то, что крушение Большого советского сюжета совпало с моментом невероятного взлета постмодернистской критической теории. Особо тщательному рассмотрению подверглась сноска как исследовательский инструмент, так же как и процессы структурирования самими историческими архивами сюжетов, запечатленных в архивных документах, посредством их сбора, каталогизации и изучения. Наряду с прочими сложностями, при этом под сомнение ставится сама ценность нарративной истории как объективного рассказа о прошлом, «каким оно было на самом деле». По мнению таких видных американских историков, как Гертруда Химмельфарб и Лоуренс Стоун, критическая историческая теория способна убить саму профессию историка12.
Важный, хотя и не столь заметный вклад в эту дискуссию в 1990-х годах внесла работа Роберта Беркхофера «За рамками Большого сюжета», аллюзией на которую служит подзаголовок данного введения. Откликаясь на вызов, брошенный постмодернизмом устоявшемуся пониманию «исторической репрезентации и правдивости», Беркхофер развивает идеи Хайдена Уайта и других авторов о роли нарратива, риторики и контекстуализации как неявных исторических методологий. Особое внимание он уделяет переходу «от риторики к политике посредством роли голоса и точки зрения в истории»13.
Хотя Беркхофер никак этого не подчеркивает, иллюстрацией к этому моменту служит сама по себе конфигурация исторических архивов. Центральный государственный архив Октябрьской революции в Москве стал новым национальным архивом Советского Союза, диктуя своим клиентам представления о том, каким образом из самой революции проистекало все дальнейшее, обладающее историческим значением. Любой документ с упоминанием В. И. Ленина или И. В. Сталина был помечен как «исключительно важный». Когда в США в 1930-х годах состоялось формальное основание Национального архива, Герберт Гувер посвятил его новое здание «романтике истории, [которая] будет жить здесь в написанном государственными деятелями, солдатами и всеми прочими, и мужчинами и женщинами, выстроившими великое здание нашей национальной жизни». Таким образом, и там и там Большие национальные сюжеты выстраивались вокруг ключевых фигур, политических партий и их документов, а также институтов, на которые они опирались14.