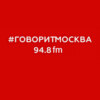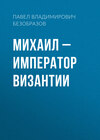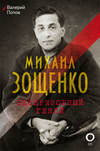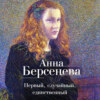Kitabı oxu: «Звук натянутой струны. Артист театра «Красный факел» Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами»
© Яна Колесинская, 2021
ISBN 978-5-4483-4730-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Автор и герой, 2016 г. Фото Валерия Панова.
Автор благодарен Олегу Колесинскому за создание идеальных условий для работы над этой книгой.
Автор не претендует на точность и объективность изложения.
Автор заранее просит прощения, если его мнение расходится с общепринятым, или если о ком-то из действующих лиц сказано меньше, чем следовало бы, или не так уважительно, как он того заслуживает.
Автор предупреждает, что в книге содержатся антирелигиозные высказывания, и рекомендует соответствующей категории лиц воздержаться от чтения, дабы не травмировать свои чувства.
На обложке – фото автора.
Вместо предисловия
Любовь к театру автором книги заявлена с первых же слов. Причём к театру – вполне определённому, отдельно взятому. Интонация самоиронии, однако, ведёт эту линию в сторону крутого виража – и первое лицо повествователя уходит в тень. Ангел превращенья уносит его из открытого пространства диалога с читателем во внутренний монолог героя – артиста Владимира Лемешонка, спешащего на спектакль.
Происходит чисто театральный прецедент: перевоплощаясь в иносказание, авторская интонация обретает полную свободу полёта. Эта органичная метафора преображает пространство и время героя, жизнь его близких и далёких, атрибутику его провалов и побед. Хладнокровие этого закона не знает, рассудку чужды эти экскурсы в детство и юность, эти жизнеописания отцов и детей, друзей и подружек, одиночества и неповиновения в школе, армейских страданий и профессиональных терзаний. Но ведь мы и на спектакль нередко приходим равнодушными, а уходим – воспламенёнными. Если режиссёр своих персонажей любит, он их не только оживит, но и тебя как зрителя втянет в свою игру – и ты не сможешь сопротивляться, ты тоже окажешься внутри и увлечёшься не только героями, но и их владениями.
Как человек театра, прослуживший ему большую часть своей жизни, я почувствовала эту авторскую завороженность театром с первых страниц. Я жила и училась в Новосибирске, потом я там бывала по личным и служебным делам. Мне казалось, что я знаю Владимира Лемешонка: я видела его в самых разных спектаклях. Стройный красавец с умным и чуть насмешливым лицом, вполне самоуверенный премьер – кто ж его не знает! А вот, поди ж ты, это мне только казалось. Вряд ли кто догадывается, сколько было ухабов на его пути к освоению профессии, сколько сегодня горечи и сомнений роится на дне его души, сколько беспощадного самоконтроля и тайн внутри и вокруг каждой роли!
Автора книги ведёт вдохновенный импульс исследователя. Точкой отсчёта становится своего рода парадокс: это какой же путь должен был пройти артист, чтобы роль Афанасия Казарина в спектакле «Маскарад» – роль второго плана – стала в его исполнении блистательной ролью рокового вершителя человеческих судеб. Автор явно взыскует правды. Той самой правды чувств, без которой не только полноты театра нет, но и полноты жизни. Лирика внутреннего монолога артиста то и дело прерывается эпосом – рассказом о событиях его жизни. И это тоже своего рода театральная уловка – эффект остранения ради свежести читательского восприятия, когда герой тебе и слышится, и видится словно бы от первого лица, хотя явлено – третье. К тому же, у новосибирского зрителя (и читателя) есть дополнительные дивиденды: пойти в театр и сверить свои впечатления от облика Владимира Лемешонка в книге с образом его персонажа в спектакле. В книге Яны Колесинской представлена исчерпывающая галерея таких персонажей – можно выбирать. И читатель (он же зритель) наверняка будет вознаграждён.
Написать книгу об известном актёре, человеке публичной профессии – это ещё и огромный риск. У каждого зрителя он свой, и автор с первых страниц рискует вызвать если не неприязнь к себе, то ревность к герою. И всё это необходимо преодолеть, чтобы завоевать читательское доверие. Я уж не говорю о восприятии своего жизнеописания самим героем – положительные примеры крайне редки. Однако язык автора вполне непринуждённый, книга свободно читается, легко воспринимается, чем и подкупает. К тому же, беспристрастную позицию рассказчика обогащает неподдельная искренность, так что едва уловимый отзвук натянутой струны мы слышим не только в биографии героя, но и в подтексте самой книги.
Галина Ганеева, завлит Прокопьевского театра драмы
От автора
Уже не помню, как я начала писать эту книгу (вру, конечно). Но помню, что после журфака много лет работала в новосибирских СМИ, постепенно и неуклонно перемещаясь в сторону театра. За всё это время, к сожалению, я так и не научилась делать заказуху, и это смешно. Никто не вмешивался в процесс, не надиктовывал мне правильную точку зрения, не назначал дедлайнов, не выплачивал гонораров, не вручал грантов. Никто не объяснял мне, что первое издание, вышедшее в конце 2016 года, надо кардинально переделать и дополнить, воспользовавшись возможностью писать в режиме онлайн, являясь не расспрашивателем и вспоминателем, а непосредственным наблюдателем или даже участником событий.
Данное обстоятельство позволило мне напевать по утрам: «Каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить». Вернее, за отсутствием слуха я повадилась слушать Окуджаву онлайн. Эта песня периодически звучит в тексте, так как не только я ее люблю. В общем, книга написалась, а затем переписалась сама собой, вне каких-то организационных и дисциплинарных усилий. Однако на создание окончательной версии ушло в десять раз больше времени, чем первой.
Предмет моих изысканий – то, что меня влечет, радует, волнует, удручает, возмущает, отвращает и бесит, то есть театр. Сначала для меня понятие «театр» включало драматический театр вообще, но со временем произошел естественный отбор, и остался один «Красный факел». Убежденный атеист, я верю в Дух театра и знаю, что он обитает в «Красном факеле». Именно там мне снесло крышу – в глубоком детстве на спектакле «Аленький цветочек». Или нет, это было раньше, когда я впервые попала за кулисы – моя бабушка работала в «Красном факеле» вахтершей и приводила меня туда по ночам. В кромешной тьме, мерцающей зелененькими огоньками, я выбралась на сцену – и поняла, что существует другое измерение, мне неведомое.
Вот его-то мне и хотелось передать через героя, которому удалось приблизиться к чуду настолько, чтобы черпануть из этого громадного незримого бездонного колодца. Хотя он сам полагает, что его жизнь лишена чудес и не представляет никакой ценности – ни для него, ни для кого бы то ни было. Она, как кажется ему, забита такой пылью, такой рутиной, такой беспросветной безнадегой, что влачить ее тяжело и бессмысленно. Уныние, считающееся у кого-то главным грехом, утвердилось как фоновое состояние художника. Мне же как автору биографической саги безмерно интересны и дороги слагаемые этого уныния – не только процесс собственно творчества, но и то, что к нему ведет, что ему предшествует, мешает, питает и слагает. Здесь я созвучна с Евгением Водолазкиным в «Брисбене»: «Не в музыке дело. Не музыку нужно описывать, а жизненный опыт музыканта. Это он потом становится музыкой или, там, литературой».
Поэтому для меня удивительны самые, на первый взгляд, обычные подробности трудовых и праздных будней, которых не хватило в первой версии книги. Важно попристальнее всмотреться в людей (родных, друзей, врагов, коллег, зрителей и просто знакомых), пространство (его притяжение или отторжение), предметы (включая марки алкоголя, модель смартфона, цвет и форму портфеля), в события – во все эти детские дерганья и капризы, подростковые протесты и метания, студенческие заморочки и обретения, пьяные выходки и трезвые выходы. Хотя бы приблизительно представить, как, из чего, откуда, почему и зачем личность получается именно такова – и, как говорится, больше никакова.
Если не мерить глубь и ширь, то наше мировоззрение родственно, но по большому счету мы не совпадаем в главном: во взгляде на него самого. Как истинный гений, он себя таковым не считает, и это логично, потому что таковым себя считает только непризнанный гений. Мое же призвание в том, чтобы почувствовать, распознать и воспеть гениальность. Никакого другого таланта у меня нет.
При этом я прекрасно понимаю, что гений не поддается исследованию, и вторю нашему любимому писателю: «Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого…? Уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, неизбежно ее искажает. Всё это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем».
Особенно это трудновыполнимо, если биограф спохватывается только после смерти Себастьяна Найта. Будто бы на похоронах включается условный рефлекс почитания и преклонения, а при жизни масштаб личности был незаметен. Но никакими воспоминаниями и заклинаниями не воссоздать химическую формулу света, излучаемого художником. Никакое видео не передаст особый состав атмосферы, окутывавшей фигуру творца. Театральное искусство сиюминутно, текуче, истончаемо, не воспроизводимо – театрального актера нужно ценить при жизни, идя за ним по горячим следам, а то и след в след. Человека вообще нужно ценить при жизни, а не наверстывать упущенное запоздалыми молитвами, выходящими за рамки некролога.
1. На рубеже
27 февраля 2016 года народному артисту Сибири Владимиру Евгеньевичу Лемешонку исполнялось 60 лет. Владимир Евгеньевич спешил в театр «Красный факел» играть спектакль «Маскарад». Скользя по гололеду, размахивая руками и чертыхаясь, Владимир мечтал о глотке коньяка. Плечо оттягивал битком набитый желтый портфель на потертом ремне. Вечерело.
Вот жизнь! – размышлял Володя, с трудом удерживая равновесие. Яркая обрывается на взлете, тусклая длится до конца. В этом возрасте, полагал Лем, лучше всего заснуть и не проснуться. Да куда там – даже заснуть стало проблемой. Накатывает полоса бессонницы, опрокидывающей в утреннюю тоску. И где-то в ее мутной метельной мгле маячит махина юбилейного вечера, который, хочешь ты того или нет, обозначит рубеж. Рубеж между стремительно промчавшейся творческой жизнью и полосой мучительного завершения с неотвратимостью ухода со сцены. Желательно добровольно. Поздравляю: вот ты и стал пенсионером.
Самый подходящий для бенефиса спектакль – «Маскарад», он и заявлен в афишу на 27 февраля. Красивая, эффектная, аншлаговая постановка знаменита закаленным в боях дуэтом Владимир Лемешонок-Игорь Белозёров. Сюжет Казарина и Арбенина рифмуется с их личными историями, давней дружбой и суровой конфронтацией, комфортным партнерством и болезненным соперничеством, общими тропами и разными мировоззренческими позициями.
Но закон подлости неусыпен. Именно сейчас Москва забрала Белаза в жюри «Золотой маски», и в роли Арбенина выйдет не он. Поэтому Юбилейный вечер перенесен на 3 марта, а это значит еще неделя сплошной нервотрепки. Отвечать на звонки, давать интервью, составлять политически корректный список гостей, и ведь не получится позвать всех, кто уверен, что достоин получить приглашение в первую очередь. Наверняка, как обычно после премьеры, при встрече на тебя посмотрят с укоризной, покачают головой, намекнут: я к тебе со всей душой, а ты! И ведь не будешь объяснять, что до сих пор невозможно переступить через свои комплексы, ощущение никомуненужности, липкий страх провала. Разобраться с официозом поможет супруга Ирина Георгиевна, а вообще скорее бы всё закончилось. В праздники от тебя всегда чего-то ждут и ничего не получают.
Каждый день он ходит по этому маршруту: отрезок улицы Димитрова вдоль административных зданий, промежуток между театром кукол и Коброй, переход через проезжую часть улицы Ленина к колоннам сияющего дворца, над которым нависла туша сбербанка, вытеснившая с этого участка бутафорский цех. Виток по улице Революции, неприметный служебный вход с низким козырьком. Темнеет рано. Ветер лезет за ворот. Крыльцо покрыто льдом.
Когда-то на вахте сидела уютная гардеробщица с вишневыми глазами. Принимая его тужурку, вся сияла, спрашивала, как погода, метет небось, метет по всей земле, во все пределы? Гардероб на вахте давно упразднен, и непроницаемый охранник в черной униформе сурово кивает в ответ на приветствие. Навстречу по коридору выбегает отбившийся от родителей шустрый отпрыск, чуть ли не врезается тебе в живот, и удивляешься, что вроде еще вчера малыша привозили сюда в коляске. Сын Женя тоже шастал по закоулкам закулисья, тоже врезался, и вот вымахал в театрального художника…
Как там у Тургенева, думает он, поднимаясь на второй этаж в свою гримерку. Веселитесь, растите, молодые силы, у вас всё впереди. А мне остается отдать вам последний поклон – сказать: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!».
Но он еще сыграет «Маскарад», еще проживет эту драму жестокого и бессмысленного успеха. Через пять минут одевальщица принесет пальто с каракулевым воротником, цилиндр и трость, которые весьма к лицу Афанасию Палычу Казарину, этому респектабельному господину с фальшивым сердцем. Он ударит тростью о подмостки, и всё произойдет так, как он того пожелает.
Гримерка Владимира Лемешонка – ближайшая к сцене. Всего несколько шагов отделяет от пространства, где время течет по-другому. И раньше, будучи начинающим актером, и теперь, став мастером с сорокалетним стажем, он робеет, переступая черту. Миг телепортации из темноты кулис на сияющие подмостки летуч и неуловим, но от этого зависит, как он сыграет сегодня спектакль, в каком самочувствии уйдет домой – объятый презрением к себе или в перемирии с собственной персоной хотя бы ненадолго.
Казалось бы, уже не надо никаких усилий, чтобы заявлять о себе. Его считают одним из сильнейших актеров российского театра, он многократный лауреат, номинант и фигурант. Сие позволяет остановиться, успокоиться, делиться опытом с молодняком. Его ученица Евгения Туркова, первая исполнительница роли Нины в «Маскараде», уехала работать в Москву, и вот адресовала юбиляру 15-минутный телефонный монолог о значении учителя в своем становлении. А тот опять задался риторическим вопросом: что я могу им передать, кроме бесконечных разочарований в самом себе?

2015 год. Фото автора
Гоголь попал в точку, которая мерцает холодным светом где-то в недостижимой вышине: «Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью». Не бывает так, как мечталось, даже если мечты сбываются. Сбывшаяся мечта отличается от мечты бесплотной так же, как явь от алкогольной эйфории. «Настоящее – это сомнения и надежды, что по-прежнему мечутся и скандалят где-то в гулких лабиринтах души», – писал Лем полжизни назад, в пору буйного расцвета таланта и бешеной популярности, кудрявой гривы и пышных усов, любовного сумасшествия женщин и тихой зависти коллег. Писал, «сидя у берега жизни на венском стуле и попивая вино личных чувств».
Нынешнее настоящее – это больничная палата для надежд-доходяг, которым больше не с чем и незачем скандалить, ибо они умирают. И умирают последними. «Будущее – я весь им набит, как мягкая игрушка ватой, – писал он тогда. – Отними у меня будущее – и большой, зеленый, ушастый лягушонок, как звали меня в детстве, превратится в тряпку. Зачем же все это, если не наступит завтра, где я извлеку из себя звук, который сам назову безупречно чистым?».
Звучать нечему, устало признает Лем. Но ведь вся его жизнь на сцене и есть этот звук, звук разного тембра, высоты и тональности, но всегда безупречно чистый – звук струны, натянутой до предела. Находиться в состоянии натяжения неудобно, больно, трудно, почти невыносимо. Но, по условиям негласного договора с Судьбой, в каждодневном душевном сумраке и самоистязании только и возможно черпать энергию творчества.
2. Шарада для игроков
Договориться с Судьбой по большому счету невозможно. Всё решено еще до твоего рождения, стезя уготована без твоего на то согласия. Уготована и твоя сущность – материал, из которого она сработана, замене не подлежит. Оставаться самим собой – безапелляционный приговор; твоя собственная оболочка – пожизненная тюрьма; амнистии не предусмотрено.
Характер, выданный при рождении, его категорически не устраивает. Бесит отсутствие самых необходимых качеств, не хватает таланта, который поднимал бы ввысь и не позволял свергаться наземь. Именно в этом заключается его главная претензия небесам. Но на сцене он проживает другие жизни, озаряя своих героев светом далеких звезд, вдыхая в них сердечное тепло, присваивая себе их болевые точки, чувства, мысли.
Недюжинной силой духа Владимир Лемешонок наделил Казарина в «Маскараде» – шараде в трех действиях, как обозначил жанр спектакля молодой режиссер Тимофей Кулябин. Вряд ли еще более молодой Лермонтов вкладывал во второстепенного персонажа такую мощь – в списке действующих лиц Афанасий Павлович Казарин значится пятым. Но в спектакле «Красного факела» он – первый.
На бытовом уровне сюжета можно воспринимать Казарина всего лишь как профессионального шулера. Он – владелец игорного заведения, где бизнес движется по накатанной колее, система взаимоотношений с клиентурой отлажена, персонал вышколен, натаскан. Сотрудники банкуют, раскидывают карты, подчиняясь тайным знакам хозяина, – взмаху, удару об пол или падению его трости. Запустив колесо очередной аферы, Казарин молча стоит на авансцене, исполненный собственного достоинства с налетом самодовольства. Во всём его облике читается спокойствие сильной личности.

Перед спектаклем «Маскарад», 2011 г. Фото автора
А кровь бурлит в жилах! Предвкушая большую игру, с упоением выплескивает себе в лицо стакан воды. Игра пойдет на равных, Казарин умело сканирует противника: «Глядит ягненочком, а, право, тот же зверь». Какой уж вам ягненочек, это Афанасий Палыч так шутит. Поначалу может показаться, что властелин положения – Арбенин. Держится победителем, с мелкотой не церемонится, с Казариным на дружеской ноге. Демонический взгляд, зычный голос. Не так-то просто его обломать. Он сам обломает кого угодно. Как безжалостно и вместе с тем изящно он уничтожает князя Звездича! Как жестко запугивает баронессу Штраль! Но это пиррова победа. Поражение пустозвона обернется Арбенину крахом всей жизни, а светская львица высокомерно посмеется над этим. Он расплатится за свой нрав, и поделом ему, поделом.
Подавая Нине отравленное мороженое, Арбенин уверен, что это его собственное решение. На самом деле мир, крутящийся вокруг него вихрем карнавальных масок, только этого и ждет. Проглоту нужна пища; Арбенин – лакомый кусок; Казарин всё сделает его руками.
Вернувшись из любовного заточения в общество манекенов, Арбенин забыл, как это общество устроено. Искусный игрок, он не заметил другой игры, куда более коварной. Не учел, что сам может оказаться картой в чужой колоде, что его могут элементарно развести, как лоха, а он до последнего не будет догадываться об этом.
Казарин рассчитал комбинацию задолго до начала интриги. Дабы заполучить Арбенина, он решил сыграть на самых тонких струнах души – и своей, и товарища. Он настраивает себя на высокий регистр, ведь не бесчувственный же он монстр, ведь не бездушный же он механизм. «Женька!» – устремляется Афанасий Палыч навстречу Арбенину после многих лет разлуки, и его глаза лучатся счастьем.
Романтический эпизод снегопада во втором акте не то что Арбенина, а и зрителя заставляет забыть, что у Афанасия Палыча включен хладный ум. Он мастерски изображает мечтателя. Сама интонация Казарина, использующего тончайшие модуляции голоса, действует гипнотически: «И если победишь противника уменьем, Судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем. Тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок и смешон!». Казарин произносит монолог в напевном ритме, в мажорной тональности, на взлете вдохновения, на апогее одержимости, серпантином посылает его в небеса и превращает в созвездие. Осыпанные снежными блестками, облитые сиянием фонарей, парящие на сотканной из серебряных кружев воздушной галерее, эти двое уносятся в иное измерение, в потусторонний мерцающий свет, где они были теми, кем хотели, и с теми, с кем хотели.
Преграды устранены, цель достигнута, представление окончено. Совершенно другой Казарин совершенно другим тоном, обмениваясь с залом взглядом заговорщика, бросает отрывистую реплику в сторону: «Теперь он мой!». Так медиум-аферист, закончив обработку клиента, сбрасывает маску профессионального благодетеля – и довольно потирает руки.
Казарин руководствуется принципом, который транслируется в американских блокбастерах: бизнес, и ничего личного. Тасует людей, как карты, раскидывает пасьянс из судеб, заранее планируя, кого оставить в дураках. В пьесе ведь всё написано: «Что ни толкуй Вольтер или Декарт, Мир для меня – колода карт».
Но никакой он не предатель, у него свой кодекс чести. Арбенин наказан за самоуверенность, высокомерие, «адское презренье ко всему». Перед тем как окончательно уничтожить Арбенина, Казарин снисходительно и слегка насмешливо раскрывает карты: «Мы с тобой актеры». В организованных им финальных аплодисментах у гроба убиенной Нины слышится не только благодарность за развлечение, а еще и циничная издевка над проигравшим. Автор шарады искренне аплодирует вместе со всеми. Аплодирует и себе тоже…

В костюме Казарина с сыном Евгением Лемешонком и актрисами Ириной Кривонос и Викторией Левченко на открытии фестиваля «Ново-Сибирский транзит-2010». Фото автора.
Аплодирует отборная театральная аудитория. Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит-2010» наградил дипломами лауреатов художника спектакля «Маскарад» Олега Головко за лучшую сценографию и актера Игоря Белозёрова за лучшую мужскую роль. А через полгода жюри театральной премии «Парадиз» Новосибирского отделения СТД того же ранга, но в другом составе объявило лауреатом в номинации «лучшая мужская роль» Владимира Лемешонка за роль Казарина. Критики оценили особенность мастера самостоятельно сочинять образ, превращать второстепенную роль в главную, укрупнять ее объем, открывать в ней глубинный смысл.
Фигурант на торжественную церемонию не явился, несмотря на звонок ему лично. Скептическое отношение к призам и наградам, ничего общего не имеющим с сутью вещей, передалось и его сыну. В следующем году Женя поступит точно так же. Зато его отец с удовольствием поднимется на сцену «Парадиза», чтобы получить награду Евгения Лемешонка – за лучшую работу художника-сценографа в спектакле «Толстая тетрадь» театра «Глобус».
Вскоре к нему придет признание на более высоком уровне. Лемешонок Третий выступит еще и художником по костюмам, его раз за разом станут выдвигать на высшую национальную театральную премию России «Золотая маска». Он оформляет постановки по всей стране, но главной точкой на карте остается Новосибирск.