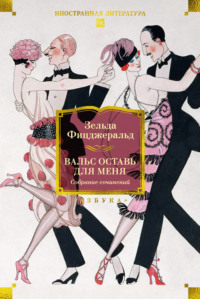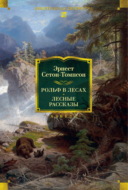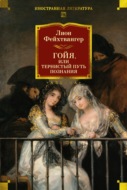Kitabı oxu: «Вальс оставь для меня. Собрание сочинений»
Zelda Fitzgerald
SAVE ME THE WALTZ: Collected Writings
© Е. С. Петрова, перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Вальс оставь для меня
Роман
Стонали Фивы, как в предсмертных снах.
Шторма и грозы – это было лишь начало.
Молились мы, чтоб мир был в тех стенах
И чтоб лазурь небес ничто не омрачало.
Царь Эдип1
Часть первая2
I
– Эти девицы, – говорили окружающие, – привыкли думать, будто могут вытворять что угодно – и притом безнаказанно.
А все потому, что при таком отце они были как за каменной стеной. Он служил им живым оплотом. Люди в большинстве своем высекают для себя зубчатые жизненные стены из компромиссов, возводя неприступные твердыни из благоразумного непротивления, сооружая философские подъемные мосты из укрощения чувств и поливая мародеров кипящим маслом из косточек винограда, который еще зелен. Судья Беггс в молодые годы окопался в траншеях своей цельности; его башни и храмы вырастали на интеллектуальных фундаментах. Насколько было известно его ближнему кругу, он не оставил на подступах к своей крепости ни одной горной тропы – ни для добродушного козопаса, ни для воинственного барона. На фоне его одаренности это высокомерие оказалось, по всей видимости, тем изъяном, который не позволил ему стать видным политическим деятелем. Штат смотрел на заносчивость судьи сквозь пальцы, и это избавило его детей от тех усилий, какие требуются юным для возведения собственных твердынь.
Один сильный мужчина стоит многих, если ради своей породы выбирает удобные принципы натурфилософии, дабы придать своей семье видимость целеобусловленности. К тому сроку, когда потомки Беггсов научились считаться с изменчивыми требованиями своего времени, их всех уже подмял под себя дьявол. Искалеченные, они долго цеплялись за феодальные сторожевые башни предков, оберегая свое духовное наследие, которое могло бы оказаться еще богаче, подготовь они загодя надежное хранилище.
Некая школьная подруга Милли Беггс признавалась, что в жизни не видела более несносного выводка, чем те детишки в нежном возрасте. Если они чего-нибудь требовали, Милли старалась предоставить им все, что в ее силах, а в противном случае вызывала врача для усмирения жестокостей этого мира – плохо приспособленного, разумеется, для таких необыкновенных малюток. Остин Беггс, который многого недополучил от родного отца, день и ночь возделывал ниву умственного труда, чтобы наилучшим образом обеспечивать своих чад. Милли предусмотрительно и с готовностью будила детей в три часа ночи, трясла погремушками и тихонько напевала, чтобы к утру от детского рева из головы супруга не вылетело происхождение Кодекса Наполеона. А супруг без тени юмора приговаривал: «Выстрою цепь укреплений, охраняемых диким зверьем, по верху пущу колючую проволоку – и отгорожусь от этих безобразий».
Остин любил детишек, рожденных Милли, с отстраненной нежностью и рефлексией, какие проявляются у серьезного мужчины при соприкосновении с некоторыми рудиментами юности, с некоторыми воспоминаниями той поры, когда он еще предпочитал быть результатом житейского опыта, а не его инструментом. Если хотите прочувствовать, что здесь имеется в виду, услышьте доброту в звучании «Весенней сонаты» Бетховена. У Остина, вероятно, могли бы сложиться более тесные отношения с родными, не потеряй он своего единственного сына, умершего в младенчестве. Чтобы исцелиться от этой утраты, судья в ожесточении предавался тревогам. Поскольку единственная тревога, в равной степени понятная мужчинам и женщинам, лежит в сфере финансов, он разделил эту тревогу с Милли. Швырнув ей счет за похороны младенца, он издал душераздирающий крик:
– Во имя всего святого: как я, по-твоему, должен это оплачивать?
Милли, никогда не отличавшаяся прочным чувством реальности, не смогла до конца примириться с такой жестокостью со стороны мужчины, в чьем характере ей виделись благородство и справедливость. После того случая она и вовсе утратила способность разбираться в людях, взяв за правило приспосабливаться к их несуразностям, и продолжала в том же духе, пока не достигла чуть ли не безупречной гармонии за счет фиксации своей преданности.
– Если у меня скверные дети, – ответила она подруге, – то я этого ни разу не замечала.
Вместе взятые, экскурсы в непримиримость людского темперамента научили ее, помимо всего прочего, методу переноса3, который позволил ей справиться с рождением последнего ребенка. Когда Остин, разъяренный загниванием цивилизации, обрушивал на ее терпеливую голову свои угасающие надежды на человечество вкупе с денежными затруднениями, она переносила инстинктивную досаду на повышенную температуру Джоан или вывихнутую лодыжку Дикси, преодолевая житейские беды с блаженной скорбью древнегреческого хора. Столкнувшись с реалиями безденежья, она всем своим существом погрузилась в неизменно стоический оптимизм и сделала себя непроницаемой для тех особых печалей, которые преследовали ее до конца.
В терпкой атмосфере мистических верований чернокожих нянюшек семья прирастала девочками. По мере их взросления судья, с которым прежде связывались монетки на карманные расходы, трамвайные поездки в аккуратные предместья, пригоршни мятных леденцов, превращался в карательный орган, неумолимый рок, воплощение законности, порядка и строгой дисциплины. Юность и зрелость: гидравлический фуникулер, где зрелость, чьи вагонетки требуют меньше вод убеждения, стремится уравновесить балласт юности. Приобретая атрибуты женственности, девочки искали у матери отсрочки от статуса барышень, словно укрываясь от слепящих лучей под сенью спасительной рощи.
На террасе дома Остина поскрипывают цепи подвесной скамьи, над веткой клематиса снует глянцевый жук, мошкара слетается на самосожжение в холл, к золотистой лампе. Южную ночь обмахивают тени, будто тяжелые, пропитанные влагой швабры, сметающие ночное забвение в сторону той черной жары, чьим порождением и сделалась сама ночь. По темным, пористым толстинкам веревочных трельяжных сеток ползут меланхоличные лунные лозы.
– Расскажи, как я была маленькая, – требует самая младшая из девочек.
Она льнет к матери в попытке настоящего родственного сближения.
– Ты была умничкой.
Эта девочка не обременена самопознанием: у своих родителей она появилась очень поздно, когда человечность уже отделилась от их внутреннего мира, а понятие «детство» стало более емким, нежели понятие «дитя». Ей хочется услышать хоть что-нибудь о себе, поскольку в таком возрасте трудно понять, что пока еще она представляет собой лишь пустой скелет и будет наполняться содержанием за счет того, что источает сама, подобно тому, как полководец воссоздает картину сражения при помощи цветных булавочных головок уже после прорывов и отступлений своих войск. Она не знает, что ей предстоит сформировать свою личность собственными усилиями. Лишь много позже эта малышка, Алабама, поняла, что отцовский прах способен указать только на пределы ее возможностей.
– А бывало так, что я по ночам плакала, безобразничала, и вы с папой хотели, чтобы я умерла?
– Откуда такие мысли?! Все мои детки были – чистое золото.
– И бабушкины тоже?
– Думаю, да.
– Тогда почему она выгнала из дому дядю Кэла, когда он вернулся с Гражданской войны?
– Твоя бабушка была со странностями.
– И Кэл тоже?
– И Кэл. Когда он пришел с войны, бабушка тут же написала Флоренс Фезер, что та, как видно, ждет ее смерти, чтобы выйти за Кэла, так вот: пусть, мол, передаст своей родне, что все Беггсы – долгожители.
– Она такая богатая была?
– Нет. Дело не в богатстве. Флоренс ответила, что с матерью Кэла уживется разве что сам дьявол.
– Выходит, Кэл так и не женился?
– Вот именно… бабушки всегда своего добьются.
Мать смеется – это смех барышника, который хвалится проявлениями своих деловых качеств и при этом будто бы извиняется, что с годами они только крепнут; это смех ликующего клана, который в нескончаемой борьбе за верховенство нанес поражение другому победоносному клану.
– Я бы на месте дяди Кэла возмутилась, – воинственно заявляет девчушка. – Я бы сама решила, как мне быть с мисс Фезер.
Глубокий, ровный отцовский голос подчиняет себе тьму заключительным диминуэндо, которое в семействе Беггсов знаменует время отхода ко сну.
– К чему ворошить эту историю? – рассудительно произносит отец.
Закрывая ставни, он убирает с глаз долой особенности этого дома: тяготение к свету, солнечные лучи, что пронизывают оборки гардин; теперь складки цветочного ситца колышутся неухоженными садовыми бордюрами. Сумрак не оставляет у него в комнате ни теней, ни причудливых контуров, а просто переносит их целиком в более размытые, более серые миры. Зимой и весной дом похож на чудесную сверкающую обитель, выписанную красками на зеркале. Пусть кресла уже разваливаются, а ковры протерлись до дыр – это никак не влияет на яркость изображения. Дом – это вакуум, где культивируется цельность натуры Остина Беггса. На ночь дом погружается в сон, как сверкающий меч, что погружается в ножны усталого отцовского благородства.
Кровельное железо потрескивает от жары; в домашнем воздухе словно бы веет затхлостью старого сундука. С площадки второго этажа из-под притолоки уже не пробивается свет.
– А Дикси где? – вопрошает отец.
– Пошла прогуляться с друзьями.
От такой уклончивости девочка настороженно подается вперед, проникаясь важным чувством сопричастности к делам семейным.
«У нас всякое случается, – думает она. – Как здорово, что мы – одна семья».
– Милли, – продолжает отец, – если Дикси опять дефилирует по городу с Рэндольфом Макинтошем, пусть лучше не возвращается в мой дом.
У него гневно трясется голова; от поругания благопристойности сползают очки. Мать неслышно шагает по теплым коврикам детской, и крошка-дочь остается лежать в темноте, безропотно и даже гордо подчиняясь законам клана. Отец в камчатом шлафроке спускается в холл и там ждет.
Из фруктового сада, что через дорогу, над детской кроватью плывет аромат спелых груш. Где-то вдалеке оркестрик разучивает вальсы. Темноту нарушают размытые пятна белизны – гроздья белых цветов и каменная брусчатка. Месяц, отражаясь в оконном стекле, устремляется в сторону палисадника и, подобно серебряному веслу, поднимает рябь на сочных испарениях земли. Мир сейчас моложе обычного, а девчушка видится себе неизмеримо старше: умудренная опытом, она не отмахивается ни от каких сложностей, но борется с ними так, словно они обрушились на нее одну, а не укоренились в наследуемых ценностях белой расы. Все сущее подернуто яркостью и глянцем; она уверенно исследует жизнь, будто шагая через сад, который по ее велению произрастает на самых что ни на есть скудных почвах. У нее уже вызывают презрение регулярные парки и крепнет вера в садовода-волшебника, который добьется, чтобы ароматные цветы распускались на каменных склонах, чтобы ночные вьюнки благоухали на бесплодных пустошах, чтобы дыханье сумерек приносило свои плоды, а златоцветами чтобы можно было расплачиваться в магазинах. Ей хочется, чтобы жизнь текла легко и полнилась событиями, которые приятно вспомнить.
Эти раздумья навевают ей романтичный образ поклонника сестры. У Рэндольфа шевелюра – что перламутровая раковина изобилия, откуда льются солнечные зайчики, которые составляют его лицо. Ей грезится, что внутри она и сама такова, ей грезится, что это ночное смятение чувств – ее отклик на красоту. О Дикси она думает с волнением, как о взрослой копии самой себя, но отчужденной преображениями возраста – так загорелая до черноты рука может почудиться тебе незнакомой, если не уследишь за постепенными изменениями. Алабама примеряет на себя любовную историю сестры. От умственных усилий ее клонит в сон. Напряжением своих затухающих мечтаний она отстранилась от себя самой. И теперь засыпает. Месяц благосклонно подставляет сгиб своего локтя под ее загорелое личико. Во сне она взрослеет. Настанет день, когда, проснувшись, она увидит, что в альпийских садах растут большей частью лишайники, которые нетребовательны к почвам, что белые гроздья, чьими ароматами напитан ночной воздух, останавливаются в росте на стадии эмбрионов, а сама она, повзрослев, будет с горечью бродить геометрически правильными аллеями Ле-Нотра, а не загадочными тропками, петляющими средь грушевых деревьев и златоцветов ее детства.
Алабама так и не смогла определить, что же будит ее по утрам, когда она лежит в постели, озираясь и сознавая только, что лицо ее лишено всякого выражения, словно его накрыли мокрым ковриком для ванной. Но она делала над собой усилие. Живые глазенки пушистой лесной зверушки, угодившей в силки, таращились на скептическом, напряженном, как натянутая сеть, личике; лимонно-желтые волосы липли к спине. Одеваясь перед уходом в школу, она картинно жестикулировала и без нужды склонялась вперед, наблюдая за движениями своего тела. В неподвижных испарениях Юга звонок, напоминавший о скором начале учебного дня, оказывался пустым сотрясением воздуха, как завывание бакена среди приглушающей всякие звуки необъятности моря. На цыпочках Алабама пробиралась в комнату Дикси и наводила густой румянец с помощью косметических принадлежностей сестры.
Когда ей говорили: «Алабама, ты же нарумянилась», она отвечала попросту: «Да я только потерла щеки брусочком для ногтей».
Дикси в глазах младшей сестры была абсолютно состоявшейся личностью; комната ее ломилась от всяких сокровищ; повсюду валялись шелковые вещицы. На каминной полке статуэтка, изображающая трех обезьян, хранила спички для курения. От одного гипсового «Мыслителя» до другого тянулась полочка, на которой выстроились «Темный цветок», «Гранатовый домик», «Свет погас», «Сирано де Бержерак» и «Рубаи»4 – иллюстрированное издание. Алабама знала, что в верхнем ящике комода спрятан «Декамерон»: она прочла все рискованные эпизоды. Над книгами гибсоновская девушка5 с лупой колола мужчину шляпной булавкой; на подголовнике белого кресла-качалки блаженствовали два плюшевых медвежонка. Среди сокровищ Дикси выделялись прелестная розовая шляпка, и брошь с аметистом, и электрические щипцы для завивки. Дикси стукнуло двадцать пять лет. Алабаме в два часа ночи четырнадцатого июля исполнялось четырнадцать. Средней сестричке Беггс, Джоан, было двадцать три. Джоан жила в другом городе; впрочем, при благонравии средней сестры ее присутствие в доме ни на что не влияло.
Алабама с надеждой скатилась по перилам. Иногда ей снилось, как она падает в лестничный пролет, но внизу приземляется верхом на широкие перила и тем самым спасает себе жизнь: скользя вниз, она репетировала чувства, пережитые во сне.
Дикси уже сидела за столом, отгородившись от мира тайным вызовом. Подбородок у нее покраснел от слез, а на лбу выступили красные полосы. Под кожей лица бугрились и опадали желваки – то в одном месте, то в другом, как пузыри в кипящем котелке.
– Я не просилась рождаться, – выговорила она.
– Не забывай, Остин: она уже взрослая.
– Этот тип – никчемный хлыщ и отъявленный бездельник. Он даже не потрудился развестись.
– Я сама зарабатываю себе на жизнь и буду поступать по своему разумению.
– Милли, ноги его больше не будет в моем доме.
Алабама замерла в ожидании какого-нибудь эффектного всплеска протеста против отцовского вмешательства в любовную историю. Но единственным событием так и осталась ее собственная детская неподвижность.
Солнце на серебристых листах папоротника, и серебряный кувшин для воды, и шаги уходящего на службу судьи Беггса по сине-белым плитам отмерили столько-то времени, столько-то пространства – и ничего более. Она слышала, как на углу под кронами катальпы остановился трамвай, который увез судью. В его отсутствие даже игра света на листьях папоротника сбивалась с ритма; по его воле дом пребывал в подвешенном состоянии.
Алабама разглядывала плети трубкоцвета, вьющиеся по дворовому забору: они напоминали нитки рубленных кораллов, намотанные на голый шест. Хрупкостью и надменностью утренняя тень под персидской сиренью уподобилась солнечному свету.
– Мама, не хочу я больше ходить в школу, – задумчиво произнесла Алабама.
– Это еще почему?
– Получается, что я все уже знаю.
Мать посмотрела на нее в упор с еле заметным враждебным удивлением; но дочь раздумала вдаваться в подробности и, чтобы не сделать себе хуже, перевела разговор на сестру.
– Как отец, по-твоему, поступит с Дикси?
– Ох, я тебя умоляю! Об этом не тревожься, не забивай без надобности свою милую головку такими вопросами.
– Я бы на месте Дикси ни за что его бы не послушалась. Мне нравится Дольф.
– В этом мире не так-то просто заполучить всё, что хочется. А теперь беги – в школу опоздаешь.
Классная комната, вспыхнув жарким, трепетным румянцем щек, отпрянула от больших квадратных окон и встала на якорь под сумрачной литографией, изображавшей сцену подписания Декларации независимости. На далекой грифельной доске медлительные июньские дни один за другим сплетались в узел солнечного света. В воздухе пылью витали мельчайшие белые катышки от стирательных ластиков. Волосы, плотная зимняя саржа, заскорузлый налет в чернильницах душили это мягкое раннее лето, которое прокладывало белые туннели под уличными деревьями и обдавало окна сладковато-болезненным жаром. Средь этого затишья кружили скорбные, почти негритянские интонации.
– Берите помидоры, спелые, сладкие помидоры! А вот зелень, зелень в пучках.
На мальчиках были длинные зимние гетры, черные, но отливающие на солнце зеленым.
Под иллюстрацией «Дебаты в Ареопаге» Алабама написала: «Рэндольф Макинтош». Обведя карандашом фразу «Все мужчины были незамедлительно казнены, а женщины и дети проданы в рабство», она раскрасила губы Алкивиада6 и на этом преобразовании захлопнула том «Истории древнего мира» Мейера. Мысли ее беспорядочно перескакивали с одного на другое. Как это Дикси ухитряется быть такой взбалмошной, такой бойкой? Алабама считала, что сама никогда и ничего не добьется с первой попытки – никогда не научится жить в постоянной готовности к непредвиденному. В глазах Алабамы старшая сестра представляла собой идеальный инструмент для жизни.
Дикси работала в городской газете – вела колонку светской хроники. Стоило ей вернуться из редакции, как в доме начинал трезвонить телефон и не унимался до самого вечера. Не умолкал и ее голосок, воркующий, жеманный, чувствительный к собственным вибрациям. «Прямо сейчас точно сказать не могу…» А потом – сплошное тягучее журчанье, словно из ванны вода переливалась через край.
– Хорошо, я сообщу, когда будет возможность увидеться. Нет, сейчас неудобно разговаривать.
Лежа на спартанской железной койке, судья Беггс перебирал желтеющие листы предзакатного часа. Его туловище опавшей листвой укрывали тома в сафьяновых переплетах: «Анналы английского права» и «Комментарии к случаям из судебной практики». Телефон не давал ему сосредоточиться.
Звонки Рэндольфа судья распознавал безошибочно. Вытерпев с полчаса, он ворвался в холл и, с трудом сдерживая дрожь в голосе, бросил:
– Послушай, если тебе неудобно разговаривать, к чему столько времени висеть на телефоне?
Судья Беггс бесцеремонно вырвал у дочери трубку. Его интонации с беспощадной точностью воспроизвели движения рук таксидермиста:
– Попрошу вас никогда больше сюда не звонить и не искать встречи с моей дочерью.
Дикси заперлась у себя комнате и просидела там двое суток, отказываясь от еды. Алабама купалась в своей причастности к этому акту неповиновения.
– «Приглашаю Алабаму выступить в паре со мною на благотворительном балу», – телеграфировал Рэндольф.
Дочерние слезы всегда задевали мать за живое.
– К чему бесить отца? Обо всем можно договориться вне этих стен, – увещевала она.
Не знающее ни границ, ни уложений великодушие матери год за годом подпитывалось необходимостью мириться с железной логикой отточенного судейского ума. Существование, при котором женская терпимость не играет никакой роли, несовместимо с материнскими чувствами, а потому Милли Беггс к сорока пяти годам сделалась анархисткой во всем, что касалось душевных сфер. Таким способом она доказывала себе необходимость личного выживания. Сама ее непоследовательность как будто позволяла ей возвыситься над уловками – стоило только пожелать. Нельзя же было допустить, чтобы в преддверии осенних судейских выборов Остин занемог или, хуже того, умер, коль скоро в семье трое детей, вечная нехватка денег, а страховка и образ жизни строго соответствуют букве закона; но сама Милли, не столь прочная нить в общем узоре, ощущала, что для нее лично допустимо и первое, и второе.
Алабама отнесла на почту письмо, которое Дикси написала по совету матери, и встреча с Рэндольфом состоялась в кафе «Тип-Топ».
Барахтаясь в водовороте отчаянной решимости отрочества, Алабама интуитивно не доверяла «замыслам», соединявшим ее сестру и Рэндольфа.
Рэндольф подвизался репортером в той же газете, где служила Дикси. Дочурку Рэндольфа забрала к себе его мать, живущая в некрашеном домике на южной границе штата, близ густых тростниковых зарослей. Черты его лица и разрез глаз были неподвластны настроению, будто самым поразительным впечатлением всей жизни оставалось для него телесное существование как таковое. Он преподавал в вечерней школе бальных танцев, и Дикси исправно поставляла ему клиентуру – равно как и галстуки, и, к слову сказать, все остальное, что требовало тщательного отбора.
– Милый, когда не пользуешься ножом, его принято класть на тарелку, – сказала Дикси, переплавляя его личность в горниле своих светских навыков.
Никто не смог бы определить, услышаны им ее слова или нет, хотя всем своим видом он изображал внимание – не иначе как надеялся уловить желанную серенаду эльфов или фантастический, сверхъестественный намек на свое особое место в солнечной системе.
– Я буду фаршированный помидор, и картофельный гратен, и початок отварной кукурузы, и маффины, и шоколадное мороженое, – нетерпеливо вклинилась Алабама.
– Боже!.. Так вот, Алабама: мы с тобой исполним «Танец часов»7: я надену трико арлекина, а ты – балетную пачку и треуголку. Успеешь придумать номер за три недели?
– Конечно, успею. Я запомнила кое-какие па из прошлогоднего карнавала. Это будет выглядеть вот так, смотрите. – Алабама двумя пальцами изобразила на столике невразумительные шаги. Крепко прижимая один палец к столу, чтобы обозначить точку на сцене, она растопырила пальцы обеих рук и начала сызнова. – …А дальше вот так… И напоследок – фр…рр… рр… хоп! – объяснила она.
Рэндольф и Дикси наблюдали с некоторым сомнением.
– Очень мило, – нерешительно изрекла Дикси, дрогнув от энтузиазма сестренки.
– Можете озаботиться костюмами, – в ореоле новоявленной собственницы заключила Алабама.
Перетягивая летучие восторги на свою сторону, она не гнушалась никакой добычей, оказавшейся под рукой, будь то родные сестры и их возлюбленные, сценические выступления и боевые доспехи. Неуемная девчоночья переменчивость приобретала у нее черты импровизации.
Что ни день Алабама и Рэндольф до сумерек репетировали в старом зрительном зале, покуда уличные деревья, будто после дождя, не начинали поблескивать влажно-зеленым, как на полотнах Веронезе. Из этого зала в свое время уходил на Гражданскую войну первый алабамский полк. Узкий балкон провис между винтовыми железными столбиками, пол прохудился. По прилегающим склонам сбегали пологие лестницы, которые пересекали городские рынки, оставляя позади кур-пеструшек в клетках, рыбу, колотый лед из мясной лавки, гирлянды негритянских башмаков и армейские шинели в дверных проемах. Раскрасневшись от волнения, девочка на время погружалась в придуманный мир профессиональной атрибутики.
– Алабама унаследовала от матери бесподобный цвет лица, – отмечали авторитетные зрители, наблюдая за кружением ее фигурки.
– Я потерла щеки брусочком для ногтей! – вопила она со сцены.
Такой ответ, не всегда точный и уместный, сам собой слетал у Алабамы с языка, если речь заходила о ее румянце.
– У девочки талант, – говорили окружающие, – нужно его холить и лелеять.
– Я сама поставила этот номер, – сообщала она, слегка покривив душой.
Когда после этого живописного финала дали занавес, она услышала аплодисменты, подобные мощному рокоту городского транспорта. На балу играли два оркестра; парад-алле возглавил сам губернатор. После исполнения танца Алабама замерла в темном коридоре на пути в гримерную.
– В одном месте я сбилась, – прошептала она выжидающе.
Скрытая лихорадка выступления теперь становилась явной.
– Ты была безупречна, – рассмеялся Рэндольф.
От этих слов она затрепетала, словно еще не обновленная мантия. Рэндольф снисходительно взял за локотки по-детски длинные руки и скользнул губами по девчоночьим губам, как моряк скользит взглядом по горизонту, высматривая мачты других каравелл. Для Алабамы такое свидетельство ее взросления было равносильно ордену за отвагу, который она потом ощущала не один день, особенно в минуты волнения.
– Ты у нас почти взрослая, правда? – спросил Рэндольф.
Алабама не позволяла себе рассматривать такие произвольные отзывы, которые касались схождения тех граней ее характера, что маркировали ее как женщину после того поцелуя. Примерять на себя эту роль за спиной у Рэндольфа было бы подобно нарушению своих тайных убеждений. Ей было страшно: казалось, будто сердце не находит себе места. Так оно и было. Да и все одновременно сорвались со своих мест. Представление закончилось.
– Алабама, почему ты не идешь танцевать?
– Я никогда не танцевала. Мне боязно.
– С меня доллар, если ты согласишься потанцевать с молодым человеком, который тебя поджидает.
– Ну ладно; а вдруг я упаду или он об меня споткнется?
Рэндольф представил ее по всем правилам. У них получалось вполне сносно, если не считать тех моментов, когда ее кавалер откалывал какие-нибудь несусветные коленца.
– Вы – само очарование, – сказал он. – Мне даже подумалось, что вы, скорее всего, не из наших мест.
Алабама сказала, что он может как-нибудь прийти к ней в гости, а затем повторила то же самое дюжине других кавалеров и пообещала рыжеволосому джентльмену, который скользил по паркету так, будто снимал пенки с молока, поехать с ним в загородный клуб. Прежде она даже вообразить не могла, как назначают свидание.
Наутро она расстроилась: при умывании с ее лица сошел весь грим. Оставалось рассчитывать только на румяна Дикси, чтобы приукрасить себя в преддверии намеченных встреч.
За чашкой утреннего кофе, сложив газету «Джорнал», судья читал обзор благотворительного бала. «Одаренная мисс Дикси Беггс, старшая дочь судьи Беггса и миссис Остин Беггс, – писала газета, – немало способствовала успеху этого мероприятия, взяв на себя обязанности импресарио своей не менее талантливой сестры, мисс Алабамы Беггс, и заручившись поддержкой м-ра Рэндольфа Макинтоша. Хореография отличалась удивительной красотой; исполнение удалось на славу».
– Если Дикси возомнила, что ей дозволено насаждать в моем доме манеры проститутки, она мне больше не дочь. Прописана черным по белому рядом с моральным уродом! Дочери должны уважать мое имя. Это единственная ценность, которая при них останется, – кипятился судья.
Никогда еще отец столько не говорил при Алабаме о том, чего от них требует. Отгородившись своим уникальным складом ума от общения с себе подобными, судья держался обособленно, довольствуясь лишь туманными, незлобивыми пикировками в судейских кругах и не требуя за свою сдержанность ничего, кроме должного уважения.
Итак, в послеобеденный час пришел Рэндольф, чтобы попрощаться.
Скамья-качалка поскрипывала, плетистые розы сорта «Дороти Перкинс» пожухли от пыли и солнца. Сидя на ступенях крыльца, Алабама поливала лужайку из горячего резинового шланга. Наконечник подтекал, несусветно увлажняя девичье платье. В последнее время Алабама тосковала о Рэндольфе и не оставляла надежды на новый поцелуй. Но как бы там ни было, говорила она, тот поцелуй надо по мере сил хранить в памяти долгие годы.
Глаза Дикси следили за движениями мужских рук, будто она ожидала, что дорожка его пальцев уведет ее на край земли.
– Быть может, после развода ты вернешься, – донесся до Алабамы дрожащий голос сестры.
На фоне розовых плетей веки Рэндольфа отяжелели от окончательности его решения. Четкий голос, как слышалось Алабаме, звучал внятно и бесстрастно.
– Дикси, – проговорил Рэндольф, – ты научила меня пользоваться ножом и вилкой, танцевать и выбирать костюмы, но, случись мне забыть, как молиться Господу, я даже за этой наукой не приду больше в дом твоего отца. Ему не угодить.
Как и следовало ожидать, он там больше не появился. Алабама по опыту знала: если в разговоре поминают Всевышнего, добра не жди. Вкус первого поцелуя улетучился вместе с надеждой на его повторение.
Яркий лак на ногтях Дикси пожелтел, а румяна приобрели следы небрежности. Работу в газете она бросила и устроилась в банк. Розовая шляпка перешла в собственность Алабамы, а брошь с аметистом раздавил чей-то каблук. В комнате царила такая запущенность, что Джоан, вернувшись домой, перенесла всю свою одежду к Алабаме. Дикси копила деньги: за целый год она потратилась только на репродукцию центрального фрагмента боттичеллиевой «Весны» и немецкой работы литографию «Сентябрьского утра»8.
Чтобы отец не прознал о ее ночных бодрствованиях, Дикси заклеила оконце над дверью листом картона. К ней захаживали подруги. Лора как-то осталась на ночь, и родные испугались, как бы не подхватить туберкулез; у лучезарной златовласки Паулы отец был судим по обвинению в убийстве; красотка Маршалл отличалась злобным нравом, большим количеством врагов и дурной репутацией; а Джесси, когда нагрянула из Нью-Йорка – не ближний свет – и остановилась у них в доме, отправляла свои чулки в химчистку. Во всех этих проявлениях Остин Беггс усматривал нечто аморальное.
– Понять не могу, – говорил он, – почему моя дочь выбирает себе компанию из всякой грязи.
– Это как посмотреть, – возражала Милли. – Грязь бывает целебной.
Подруги Дикси увлекались чтением вслух. Алабама, устроившись в маленьком белом кресле-качалке, не отвлекалась ни на миг, заимствовала у них эффектные жесты и брала на заметку диапазон вежливых, отрывистых смешков, которые они перенимали одна у другой.
– До нее не дойдет, – повторяли они, бросая на девочку им одним понятные англосаксонские взгляды.
– Что не дойдет? – переспрашивала Алабама.
Зима задыхалась в девичьих рюшах. Когда кто-нибудь из мужчин упрашивал Дикси о свидании, она плакала. Весной пронесся слух о смерти Рэндольфа.
Наш край дорогойВ тот год роковойТы вывел из бедствийНа правильный путь, —Так будь же и нынеНам кормчим благим! (Здесь и далее примеч. перев.)