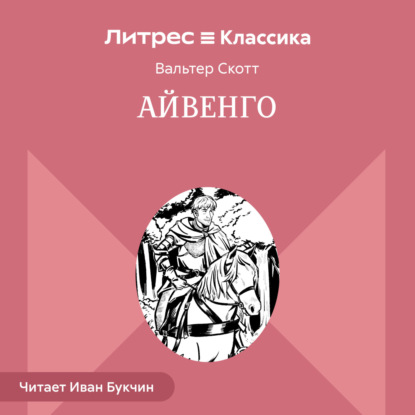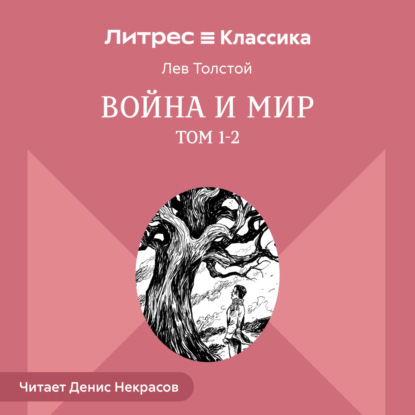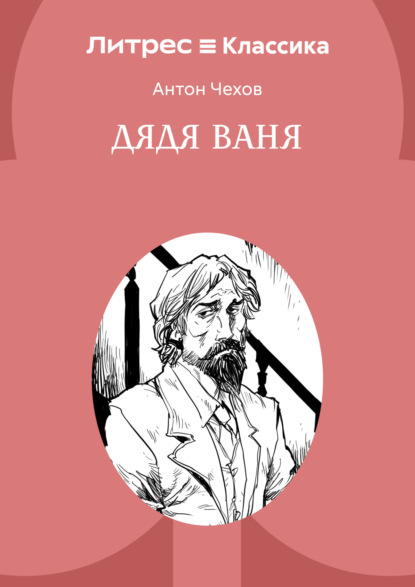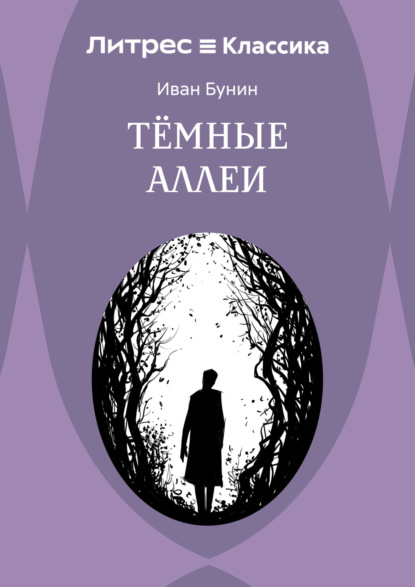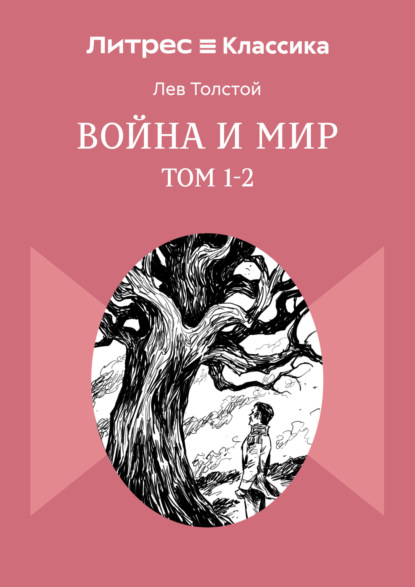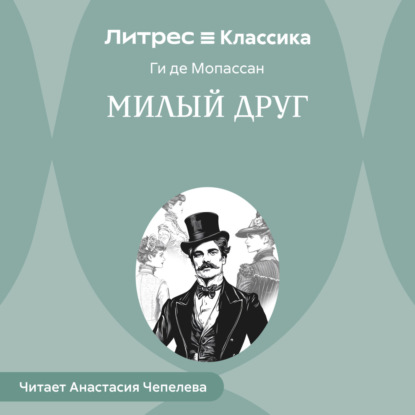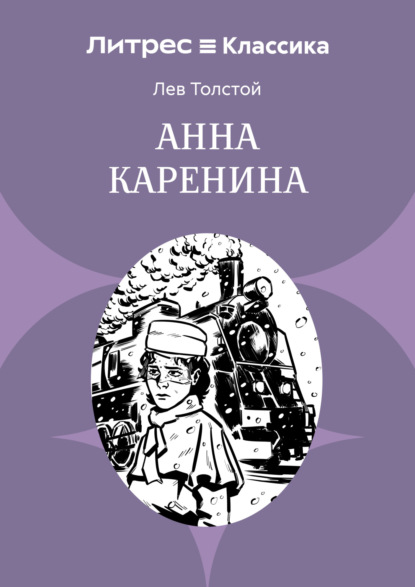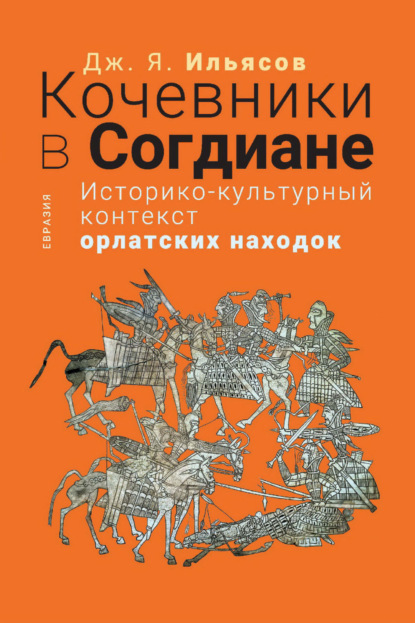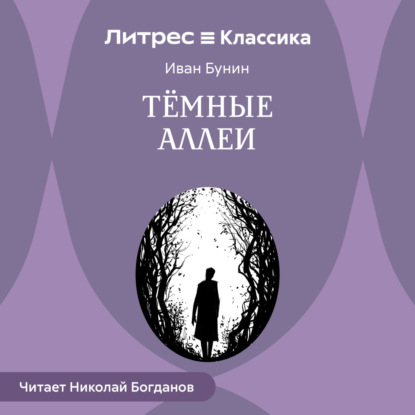Егор Кончаловский: «Снять “Авиатора” было для меня вызовом»
Текст: Марина Зельцер
Егор Кончаловский – давно признанный режиссёр, хотя по образованию он искусствовед, занимавшийся средневековой английской живописью. Снимать кино он начал в 90-е годы неожиданно для самого себя, пройдя через организованную им рекламную студию, потом крупнейшее агентство. С того времени сделано много успешных фильмов, завоевавших зрительскую любовь. Так, название «Антикиллер» слышали, наверное, даже те, кто не смотрел эту ленту.
Сегодня внимание приковано к выходу на большой экран картины «Авиатор», снятой по известнейшему роману Евгения Водолазкина. О проекте заговорили ещё до начала съёмок, и его считают одной из самых ожидаемых премьер 2025 года. Говорить с Егором Кончаловским невероятно интересно, так как он разносторонне образованный человек, по крайней мере в вопросах искусства и литературы. К тому же по воле судьбы – рождения в такой семье, жизнь сталкивала его с удивительными людьми.
Мы приоткрыли завесу над некоторыми моментами создания полнометражного фильма, поговорили о том, что волнует самого режиссёра в романе, а также об ощущении счастья в разные моменты жизни и, конечно, о том, какие книги волновали и впечатляли его в детстве и молодости и что в литературе интересует и удивляет его сейчас.

Егор, до того как вам предложили снимать «Авиатора», вы, как я знаю, не читали роман. А слышали ли о нём и хотели ли в принципе прочесть?
Нет, я, признаюсь, не слышал о романе и вообще должен сказать, что с современной российской литературой не так хорошо знаком, потому что читаю очень много всего, связанного с моей профессией. И сценариев, и литературы вокруг того, о чём делаю фильм. Например, предыдущий сериал «Большой дом» снимался на основе нескольких уголовных дел ФСБ, и действие там происходит в блокадном Ленинграде. Я москвич, а блокадный Ленинград – вообще отдельная планета. Поэтому чтобы прочувствовать то время, пришлось читать несколько документальных книг с письмами людей и дневниками. Человеку, не знакомому с этим, очень легко снять недостоверное кино, о котором блокадники, я имею в виду даже их детей или внуков, скажут потом, что это «клюква», чего у нас, к счастью, не случилось.
Естественно, я слышал про Евгения Водолазкина, но не читал тогда и «Лавра», которого сейчас читаю. Сергей Катышев, генеральный продюсер проекта, дал мне сценарий «Авиатора», он был написан Юрием Арабовым, классиком российской и советской кинодраматургии. Сценарий я нашёл интересным и следом прочитал роман, что, естественно, и так сделал бы. После этого понял, что хочу очень глубоко поработать со сценарием, потому что у каждого читателя романа есть свои важные темы, те, что трогают его, откликаются в нём. Вот для Арабова это были определённые вещи. А для меня, скорее всего, история любви, относительность времени и ещё несколько других тем, потому что роман – это огромное произведение, там много смыслов, идей и линий. И мы стали с моим товарищем, кинодраматургом и поэтом Мирославом Станковичем адаптировать сценарий уже под меня.
Какие у вас ощущения от «Лавра»?
Мне нравятся оба романа, но «Лавр» как литература ближе, чем «Авиатор». Но «Авиатор» более кинематографичен, хотя многие говорили, что его невозможно экранизировать. Но вот как-то мы сняли же (улыбается). Понимаете, что бы я ни читал, это уже такая профессиональная привычка или деформация, я воспринимаю через призму экрана – сразу начинаю снимать своё кино. А вообще я считаю, что художественная литература важнее, чем кино. Кино – это более доступный вид искусства, зрелище, да и театр – тоже. А актёры в Средние века были «последними», низшими элементами общества, хуже крепостных. Так вот когда ты читаешь книгу, как, например, я в детстве «Трёх мушкетёров» (потом я к ним ещё раза два возвращался), то для меня Д'Артаньян, Атос, Портос, Арамис, капитан де Тревиль и все остальные – это мои герои. А если бы я сначала посмотрел «Три мушкетёра» Юнгвальда-Хилькевича, то Д'Артаньян навсегда был бы для меня с лицом нашего замечательного артиста Михаила Боярского.

Когда вам продюсер Сергей Катышев предложил взяться за «Авиатора», вы обрадовались, удивились или что испытали?
Я не удивился и не обрадовался. Это был вызов для меня, потому что «Авиатор» – большой серьёзный роман, было интересно отправиться в это неизведанное путешествие. Меня уже поздно проверять, но это такой тест на режиссёрскую зрелость. Было интересно, потому что сложно. А вот, например, «Мой папа – вождь» мне было неинтересно снимать. Я не хотел простаивать, зарабатывал деньги. С «Авиатором», поскольку это бестселлер, было интересно, насколько я испорчу роман (улыбается), или наоборот.

Вы волнуетесь перед премьерой или нет? В принципе, провалиться уже опытным режиссёром и с очень ожидаемым фильмом страшнее, чем в начале пути?
Нет, это не так, и провал – вещь относительная. То есть могут унизить и отругать твою работу, но если ты сам искренне считаешь, что это хорошо, достойно, конечно, когда ты уже зрелый человек, то твоя уверенность сильнее. Например, фильмы Гайдая тогда многие кинематографисты считали чем-то несерьёзным, какой-то фигнёй. Когда он снимал свои картины, все отмахивались от него. Я помню это время: «Ой, да Гайдай какой-то...» А Гайдай – серьёзнейший, талантливейший человек. И сейчас все понимают, что он гений. Поэтому ты уже гораздо спокойнее относишься к тому, что фильм не приняли, или не поняли, или он провалился в прокате, если у тебя есть уверенность в том, что у тебя получилось.
Опять же взять фильм «Мой папа – вождь»: он тоже очень профессионально сделан, имеет вполне высокий рейтинг, висит уже три года на всех платформах, но я к нему несерьёзно отношусь. Это была поделка, проходная штука, чтобы не терять форму. А вот фильмом «На Луне», который вообще в прокате почти не шёл, тогда пандемия началась, я остался доволен, потому что это честная работа во всех смыслах. Так что с возрастом тебе не сносит голову от успеха и ты не впадаешь в отчаяние от того, что другие могут назвать неуспехом.
А что для вас сейчас всё-таки успех, кроме личной оценки своей работы?
Не скажу ничего необычного. Естественно, хорошо, когда фильм собирает большую кассу, потому что это количество зрителей, которые его увидели. Здорово, когда и дураки, и умники положительно отзываются о твоём произведении, а не только дураки или только умники. Прекрасно, когда фильм успешен у зрителя и у критиков и долго живёт. Вот «Побег» показывают по несколько раз в год разные каналы, а тогда он прошёл довольно тихо, потому что в него не вложили денег.

Вы перенесли годы, в которые размораживают главного героя из 90-х в наши дни. Знаю, что не хотели множить разруху на экране. Но, если бы роман выходил тогда или немного позже, понятно, что там было бы то время, а автор, поместив героя в 90-е, видимо, сделал это целенаправленно.
Да, нам не хотелось к разрухе 20-х годов добавлять ещё разруху 90-х. Хотелось контраста в картинке, во-первых. А во-вторых, всё-таки современность даёт нам определённую надежду. То есть мы в какой-то степени обратили наконец-то взор внутрь нашей страны, а Москва вообще невероятна сегодня, хотя и Петербург развивается с огромной скоростью. И хотелось какой-то футуристичности, лёгкой хайтековости, чтобы одно время контрастировало с другим, и красоты – с эстетической точки зрения, потому что девяностые годы привлекательные, но в них обычно смакуют как раз разруху: старые машины, преступность, несчастных людей.
Тогда же, как и в 20-е, у многих были разрушены судьбы. И учёные в 20-е и в 90-е годы находились в униженном положении. Вообще разрушилась картина мира. Даже богатые люди в 90-е годы были довольно уродливыми созданиями. А нам хотелось нашего миллиардера сделать симпатичным человеком. И эти аргументы Евгений Германович, а он адекватный, слушающий и воспринимающий человек, принял. Он понял, что читать – это одно, у каждого же своя картинка 90-х, и другое – когда тебе предлагают визуальный образ мира. Может быть, он скрывает от меня недовольство, но вряд ли. Зачем ему это делать?!

То, что произошло, и некоторое изменение с доктором Гейгером, в том числе финал истории, как я поняла, связано с масштабом личности Константина Хабенского, играющего его. Это предложили вы или он?
Мы сделали финал фактически немного другим, но по сути концептуально не изменили его. Мне кажется, мы добавили оптимистичности к высказыванию. Но ещё раз повторю, что Евгений Германович Водолазкин понимал, что мы создаём на основе его произведения новое произведение, кинематографическое. Всё-таки это не калька романа. Поэтому определённый люфт, определённая свобода у нас были. А Хабенский лояльно относился ко всему, он очень способен к диалогу, понимает, зачем что-то делается. В какой-то момент я с ним советовался относительно одного сюжетного поворота, потому что у нас имелись разные варианты развития событий. Мне было важно, чтобы для Константина это было интересно с точки зрения эмоциональной сложности и противоречивости роли.
А вы чувствовали, что у вас на площадке тоже лидер и человек с режиссёрскими мозгами и уже некой такой практикой?
Да, это чувствовалось, но мне совершенно не мешало, ведь Евгений Стычкин – тоже режиссёр. Вот сейчас мы снимали короткометражку о войне для детей в Подмосковье. И там был молодой режиссёр. Но если человек понимает, что такое режиссёрская профессия, то он не станет тянуть одеяло на себя или влезать в процесс, потому что понимает: всё-таки у процесса есть один кукловод, один дирижёр. И мне кажется, что тогда то, о чём вы говорите, помогает, а не мешает.
Как вы рассказывали, Александр Горбатов пробовался раз десять с разными партнёршами. Он тогда уже был утверждён или ещё не совсем? И пробовали ли вы ещё кого-то на роль главного героя?
У нас изначально было в замысле немало очень хороших артистов, например тот же Илья Коробко, который сыграл Севу, пробовался на Платонова. Некоторых из них я обязательно буду снимать в будущем, в главных ролях скорее всего. Но в процессе определённого количества встреч с Сашей Горбатовым и разминания сцен мы пришли к пониманию, что Платонов – это именно Горбатов.
Вы упомянули, что слышали о его непростом характере, но сами этого ни разу не почувствовали. А слышали от людей в группе или от актёров, режиссёров, не называя имен?
Я не наводил справки про Сашу. Вы знаете, я с совершенно разными людьми сталкивался и в девяноста девяти процентах случаев находил общий язык с артистами, потому что очень их люблю и отношусь к ним с огромным вниманием и нежностью. И они это чувствуют. Ну да, где-то он, наверное, капризничал, художник по костюмам печалилась, что у него сложный характер, ему не нравится одно, другое. Но это нормально, мы все, в общем, люди непростые. У меня тоже непростой характер, однако я его уже в крайних случаях показываю. У меня с Сашей были и остаются замечательные тёплые отношения. И конечно, он очень хороший артист.
А как вам пришла в голову идея ввести нового персонажа? Чаще из романов исчезают какие-то линии и герои.
Дело в том, что в большом литературном произведении, даже не с точки зрения качества, а с точки зрения объёма всегда есть более глубокие и менее глубокие концепции. И если какую-то мысль, идею ты можешь развивать в романе на протяжении пятисот страниц, то в фильме тебе иногда приходится это выражать буквально двумя-тремя предложениями или даже словами, которые ты можешь вложить в уста дополнительного персонажа. И героя Жени Стычкина я ввёл для того, чтобы определённая идея была более точно и более явственно выражена в фильме.
В сухом остатке какие дни остались в памяти как самые сложные на этих съёмках?
Как ни странно, мы очень гладко работали, и мне кажется, что в этом заслуга сценария, потому что чем тщательнее он проработан, тем проще потом на площадке, потому что артисты понимают, о чём речь. Наверное, поэтому все те прекрасные актёры, звёзды, которые у нас снимались даже в небольших ролях, соглашались после пятнадцати минут разговора. Им хватало этого, чтобы понять атмосферу, что за человек режиссёр, хотя я с ними со всеми был знаком, но мы не работали с Антоном Шагиным, с Наташей Вдовиной, с Игорем Миркурбановым. У нас отменилась всего одна съёмка, когда пошёл страшный ливень, а у меня массовка двести-триста человек вся промокла. Спрятаться, а мы снимали в поле, было негде, потому что очень много декораций стояло. И автобусы остались очень далеко, так как нельзя было проехать на это поле, там дороги нет. Поэтому все успели промокнуть, а это же старинные платья, костюмы. И решили не домокать, потому что потом костюмы очень долго сушить.
Но вообще мы отработали все пятьдесят шесть смен без единой переработки, без единого простоя, то есть всё очень технологично было. Да, конечно, какие-то дурацкие вопросы возникали: например, у нас в конце фильма машину заносит, и она начинает крутиться вокруг своей оси, а современные дорогие внедорожники так устроены, что их не заносит. Поэтому пришлось автомобиль ставить на специальное устройство, чтобы крутить его вручную. И мы никак не могли понять, как это делать, потому что маленькие колёсики хорошо ездят по ровному асфальту, а у нас в области асфальт был не очень ровный, много камушков, и тут требовалось больше усилий. То есть казалось, что четыре человека могут это делать, а им силы не хватало. И все начали помогать, включая меня.

Платонов после воскрешения понимает, что важны не столько события жизни, что счастье кроется в самых простых вещах, которые ты наблюдаешь: созрел крыжовник, выглянуло солнце после дождя... А как вы считаете?
Это действительно очень важно. Просто надо научиться замечать такие вещи. Говорят, что счастье – это отсутствие несчастья. Ведь как только у тебя случается несчастье, ты думаешь: «Боже мой, как же было хорошо до этого, а я ничего не замечал». Поэтому, безусловно, с философской точки зрения, да и просто с человеческой, счастье кроется в вещах, которые окружают нас, когда всё хорошо. И конечно, надо стараться концентрировать своё внимание на всём жизнеутверждающем, красивом: на цветах, почках на яблонях, рассвете и закате, тумане над рекой, звёздах на небе, на чашке ароматного кофе, запахе свежего хлеба... Можно бесконечно перечислять. Но не надо забывать, что вокруг нас много страшного и уродливого. И очень трудно, если твоя жизнь тяжёлая и неустроенная, вычленять из неё эти проявления красоты. Но надо стремиться к тому, чтобы окружать себя красотой. Очень важно, чтобы твой взгляд падал на красивые предметы, красивый город, красивый парк, красивых людей, хотя и некрасивые люди могут быть красивыми.
А от чего из таких вещей вам сегодня удаётся получать максимум счастья и радости?
У меня два маленьких сына, одному восемь, другому три. И, в общем-то, они эту часть моей жизни полностью закрывают. Кроме того, я живу в очень красивом месте и делаю исключительно то, что хочу. Я могу утром встать, могу не вставать. Могу идти, могу не идти куда-то. У меня нет начальника, у меня нет какой-то обязаловки. Во-первых, всё, чем я занимаюсь, я делаю по своему желанию, во-вторых, мне платят за это вполне нормальные деньги. Но, действительно, я стараюсь окружить себя красивыми вещами, что не значит дорогими. Мне моя жизнь очень нравится, потому что я смог выстроить свой мир абсолютно так, как мне хотелось. Поэтому уже лет двадцать мне не хочется ничего менять.
А в молодости, юности, даже сознательном детстве вы от чего-то подобного чувствовали себя счастливым?
Конечно, это бывало, но поскольку я вырос в Советском Союзе, то не могу сказать, что мы жили в очень красивом мире. Советская архитектура и вообще советский образ жизни не подразумевали вот эту красоту. Всё было функционально. Поэтому счастье доставляли очень простые вещи. Я безумно любил музыку. И когда отец дарил магнитофон, я был безмерно счастлив несколько месяцев. Больше, чем сейчас, когда покупаю новый автомобиль. Бывали крайне тяжёлые моменты или даже периоды, например первые полгода в советской армии, где существовала очень серьёзная дедовщина. Но и там вдруг посещало какое-то невыразимое ощущение радости, потому что я понимал: ещё полтора года – и это закончится, и меня ждёт красивая, замечательная жизнь, где я буду обязательно успешен и прекрасен. Была такая уверенность, может быть, иллюзорная, но тем не менее. В общем, и в тяжёлые минуты могло накатить ощущение неимоверного счастья без каких-либо особых для того причин.
Удивляет, что ни вы, ни Никита Сергеевич, ни Степан Михалков – никто из вашей большой семьи, по-моему, не избегал армии, хотя думаю, мог бы. И вы говорите, что хотите, чтобы в будущем и сыновья через это прошли, понятно, что не в горячих точках. Как вас всех так прекрасно воспитали?
Ну, у меня был шкурный интерес, потому что я собирался ехать учиться в Великобританию и хотел отслужить уже, чтобы этот вопрос был закрыт. Чтобы я не приехал на каникулы из Англии, а меня забрали бы в армию. И вы знаете, вообще в советское время было стыдновато отмазываться от армии: придумывать себе какую-то болезнь или что-то ещё. Ну как-то это было не принято. К тому же избитая фраза, что армия – школа жизни, имеет под собой достаточно серьёзную базу. Это действительно школа жизни, школа отношений, жёстких отношений с окружающим миром. И если ты проходишь её, то тебе гораздо легче жить потом в любой агрессивной среде.
А если нет? Ведь и ломались же люди.
Да. И с собой кончали ребята, даже у нас такое было, но тем не менее, как говорят, Господь даёт, как правило, испытания по плечу. Поэтому через полгода я уже был абсолютно свой внутри всей этой системы и начал делать то, что хочу.
И как это вы так нашли общий язык с армейским начальством?
Я стал близким другом моего командира. Мы очень быстро перешли на «ты».
Вы действительно нашли точки соприкосновения или, извините, делали это чисто прагматично для выживания?
Нет, мы очень подружились. И дружили уже после армии, пока он не спился, к сожалению, и не умер. Ну и командование вообще закрыло на меня глаза и отправило командовать взводом кавалеристов. И я мог в любой момент домой пойти. Но не делал этого, потому что мне было в армии очень хорошо.

Думаю, что армейская школа помогает вам выдерживать и все сложности режиссёрской профессии. С «Большим домом» вы ещё бросили себя в такую тему, в которую погружаться очень тяжело...
Безусловно, погружаться в такой материал тяжело, если ты делаешь всё не с холодным сердцем, пытаясь понять это время, этих людей, их ощущения и чувства. Нужно любить материал и быть искренним в своём отношении к конкретной работе. И это передаётся с экрана. Нам очень помогло то, что практически все артисты в «Большом доме» были ленинградцами, петербуржцами. Их бабушки, дедушки пережили блокаду, и они по семейным рассказам знали, что это такое. Мало того, съёмочная группа, то есть художники по гриму, костюму, тоже вся была из Питера. Из москвичей был я и оператор. Поэтому генетическая память очень помогала. И у всех было серьёзное и трепетное отношение к тому, что мы делали. Но, если честно, съёмки не были сложными, мы очень постарались, когда писали сценарий. По плохому сценарию практически невозможно снять хороший фильм, хотя хороший можно испортить.

«Большой дом» и сейчас «Авиатор» по глубине материала и даже жанру очень отличаются от того, что вы делали до них. Это какой-то профессиональный скачок, на мой взгляд...
Люди же меняются, растут, становятся глубже с возрастом, милосерднее, отходят в сторону какие-то отвлекающие моменты. Конечно, со временем хочется делать более серьёзные вещи и с точки зрения жанра, хотя я очень люблю и «Антикиллера», и «Побег».
С другой стороны, есть поговорка «Смолоду прореха – под старость дыра». И это не так уж редко встречается. А Егор Кончаловский стал не только глубже, но и добрее, мягче, чем в сорок лет, например?
Я думаю, что это так (улыбается). С возрастом у кого-то может появиться горечь от того, как он прожил жизнь, удалось ли ему осуществить мечты, чего-то добиться. То есть в молодости можно очень оптимистично смотреть в будущее, но если жизнь не складывается, допустим, к пятидесяти годам и ничего не сделано, то можно измениться не в лучшую сторону. Мне в этом смысле в целом повезло, хотя как у любого человека тоже были и кризисы, и малоприятные периоды. Но глобально у меня сбылись все желания юности и молодости, а некоторые даже в большей степени, чем я надеялся.

Но вы же, наверное, знаете людей, прошедших через очень серьёзные испытания, что уж говорить про старшие поколения, и при этом добрейших, отзывчивых, и, наоборот, тех, у кого «всё в шоколаде», превратившихся в эгоистичных злобных или равнодушных существ.
Все люди разные. Необязательно быть голубых кровей, чтобы быть аристократом духа. И кто-то действительно всю жизнь счастлив и остаётся светлым человеком, несмотря на тяжёлые испытания. А кто-то при лёгкой жизни к серьёзному возрасту абсолютно разрушен.
Когда я читаю и смотрю интервью вашего папы, мне кажется, что, несмотря на чёткость позиций, взглядов, он с возрастом тоже стал мягче и снисходительнее, что ли.
Да, я должен сказать, что и мой отец, и мой дядя с возрастом стали гораздо более терпимы к человеческим недостаткам и вообще сегодня они гораздо более симпатичные и мягкие люди. Это я констатирую (улыбается). И да, надо быть снисходительнее. Тем не менее у меня есть те, кого я никогда не прощу за какие-то вещи и считаю их своими врагами. Другой вопрос, что это у меня может ни в чём не выражаться.
В «Авиаторе» тема прощения-непрощения, наказания занимает важное место, поскольку Платонов, главный герой, в молодости убивает человека, написавшего донос на отца своей возлюбленной, за что и попадает в лагерь. Кажется, и вы, и Водолазкин говорите, что покаяние сильнее, чем просьба о прощении, так как покаяние связано с прощением Бога. Но мне лично важнее, чтобы меня простил человек, если я искренне сожалею о чем-то, и того же самого по отношению ко мне жду и от других. А простил ли Бог... Откуда мы это знаем?
Мне кажется, если человек тебя простил и ты искренне попросил прощения не ради вежливости или достижения цели, а почувствовал свою вину, что ты сделал человеку больно, а себя не обманешь, то и Бог тебя простит, он ведь вообще всё может простить. Просто в разговоре с Богом ты можешь быть абсолютно откровенным и не бояться самоунижения, например. Это твой разговор с самим собой. Поэтому мне кажется, и ты прощаешь, если чувствуешь, что человек искренен. Но бывают вещи, которые ты не можешь простить, потому что они не выражаются ни в чём таком конкретном, за что надо простить. Просто этот человек мерзавец, условно говоря. Но он этого не понимает.
Егор, а бывало, что человек просил прощения за что-то и вы верили: он искренне раскаивается, а потом подобное повторялось? И что вы тогда делали?
Я могу работать с мерзавцами и негодяями. И мне хватает цинизма, чтобы понимать, что этот человек ворюга и лжец. Просто я не вступаю с ними в те отношения, которые могут закончиться катастрофой. Ну да, будет какое-то очередное разочарование, или я испытаю злость, но поскольку я сам, в общем-то, не ангел, то очень часто это заканчивается не очень хорошо для этих людей. Но, даже когда я понимаю, что вот сейчас он мне врёт, он не исполнит своего обещания, не страшно. Если только на карту не ставится что-то жизнеобразующее. Когда же это просто часть процесса, и ты осознаёшь, что здесь может быть подстава или кидок, то вполне возможно, ваши отношения продолжатся. Просто ты не любишь этого человека, но используешь его, а он – тебя.
Во время съёмочного периода вы совсем не отвлекаетесь на книги, не связанные с работой?
Когда идут съёмки, это очень сложно, поскольку двенадцатичасовой съёмочный день, шестидневная рабочая неделя. Приходишь домой, тебе хочется выпить коньяку и завалиться спать, потому что нужно быть утром свежим. Это во-первых. Во-вторых, всё-таки ты погружён в определённый мир, и добавлять к нему присутствие ещё какого-то литературного мира довольно трудно. Я, например, часто поздним вечером смотрю киноновинки, а это тоже другой мир. Но когда ты работаешь над фильмом, это мешает. И вообще, надо сказать, что раньше книги играли большую роль в моей жизни. Сейчас я читаю меньше, чем в отрочестве, юности и молодости. Собственно в университетские годы в Великобритании моей профессией было читать. Я шесть лет только этим и занимался. Другой вопрос, что из того, что я читаю сейчас, большой процент прикладной литературы: биографической, мемуарной, исторической. Условно говоря, я читаю о Тамерлане, потому что очень хочу сделать фильм о человеке, который жил в XIV веке в Узбекистане. И, как я говорил, готовясь к сериалу «Большой дом», проштудировал очень много публицистики, документалистики о блокадном времени. А это всё не создаёт новых миров. Ещё я с большим удовольствием читаю литературу, связанную с самовоспитанием, с НЛП (нейролингвистическим программированием). Например, книгу «Разбуди в себе исполина» Энтони Роббинса я знаю почти наизусть, потому что она мне очень помогла. И до сих пор это моя настольная книга. Сейчас Роббинс коммерциализировался, устраивает невероятные шоу, а двадцать пять лет назад он писал прекрасные и полезные вещи.

И когда вы находите возможность читать просто для души художественную литературу и ту же психологическую? На отдых с собой берёте книги?
Обязательно беру. Например, на позапрошлый отдых я взял с собой «Былое и думы» Герцена. Кто сейчас это читает? (смеётся). А в свой прошлый отпуск брал любимого мною в юности Ремарка. И, как ни странно, «На Западном фронте без перемен» мне было тяжело читать, потому что для меня темп этой книги уже медленный, а я был невероятным фанатом Ремарка, особенно его «Трёх товарищей».
Сейчас и манера чтения изменилась, а литература прошлых веков зачастую очень медленно написана. Но это абсолютно не касается, к примеру, Чехова. Некоторое время назад перечитал его повесть «Случай на охоте». Вот Антон Павлович стопроцентно актуален. «Анна Каренина» Льва Николаевича Толстого тоже совершенно не вызывает ощущения медленного развития. Абсолютно современен в этом смысле Набоков. Недавно прочитал несколько его романов, они быстро пролетели, так как они у него маленькие. И вообще авторы начала прошлого века, и непосредственно писавшие перед революцией, как Чехов, и сразу после и рассказывающие об эмиграции, как Бунин и Набоков, мне очень близки.
Это время меня трогает и вызывает невероятную ностальгию, особенно эмигрантские романы, потому что я сам в своё время отчасти эмигрировал, хотя у меня никогда не было другого паспорта. Но вот это ощущение оторванности от родины мне очень близко. Я очень много читал на английском языке. Например, всего «Властелина колец», а это три толстенных тома. Кстати, я учил язык на этом романе, потому что Толкин был очень серьёзным лингвистом, профессором Оксфордского университета. У него прекрасный литературный язык с огромным словарным запасом, не примитивный, как у Агаты Кристи или даже у Конан Дойла. И конечно же, поскольку я уехал на Запад в ранней молодости, на меня обрушилось огромное количество антисоветской литературы. «Колымские рассказы» Варлама Шаламова произвели сильнейшее и совершенно удручающее впечатление, они очень-очень печальные. На заре новой России мне хотелось даже экранизировать это. А вот Солженицын в целом не произвёл впечатления.
Ну, так у них, на мой взгляд, абсолютно разный талант и язык. Да и то, как сидел Шаламов в лагере, через что прошёл, нельзя сравнить с тем, что пережил Солженицын.
Совершенно верно. И сам Солженицын говорил, что у Шаламова был гораздо более тяжёлый опыт. Но я читал и «Раковый корпус», и «Красное колесо», и «Бодался телёнок с дубом». Что-то не смог дочитать, но отдельные произведения, как «Матрёнин двор» и «Один день Ивана Денисовича», у него удивительные.
А если мы чуть-чуть по времени подвинемся в нашей стране? Что вы выделяете из литературы 50–80-х годов, каких писателей?
Частично это была и школьная литература: безусловно, Шолохов, Фадеев с «Молодой гвардией», «Как закалялась сталь» Островского. Но, конечно, из писателей того периода Нагибин мне очень близок, я был с ним неплохо знаком, потому что они с отцом писали сценарий о Рахманинове. И Нагибин одно время тусовался с нами в Лондоне. Я с ним общался и много разговаривал о жизни. Наибольшее впечатление на меня произвели его дневники, в которых рассказывалось о репрессированных родителях, например, и о личной жизни. Он очень откровенно писал о своих сексуальных переживаниях, воспалённо, я бы даже сказал. Какие-то вещи из его дневников я даже вставлял в свои фильмы.

На ваш взгляд, его откровенность сродни набоковской?
Думаю, в какой-то степени можно провести эту параллель. Но я бы сказал, что Набоков продолжает более целомудренную традицию Бунина с «Тёмными аллеями» в «Машеньке», например, не берём «Лолиту», это уже болезненная история.
Если идти дальше по нашей литературе, то, конечно, мне невероятно близок Довлатов во всех своих произведениях, потому что его самоирония и в какой-то степени даже самоуничижение мне крайне симпатично. Часть литературной судьбы писателя прошла в Советском Союзе, потом он уехал в Америку. И его американская жизнь мне тоже очень понятна, опять же по той причине, что я в течение восьми лет был, как и Довлатов, человеком, оторванным от родины, но при этом глубоко русским человеком.
Мне безумно близок Василий Аксёнов, особенно романы «Бумажный пейзаж» и «Остров Крым». И его я тоже хорошо знал и даже довольно долго жил с ним в одном подъезде в писательском доме у метро «Аэропорт», где моя мама до сих пор живёт.
Василий Павлович мне безумно симпатичен как человек. А что вы помните о нём, какое у вас впечатление осталось?
Ну, во-первых, он был очень красивым мужчиной с лицом такого римского мудреца. Мне кажется, он должен был очень нравиться женщинам. Я ему машину помогал мыть (смеётся). Конечно, «Остров Крым» весь пропитан ощущениями западной жизни и западным образом мышления. Вот это столкновение миров: западного и советского и делает нас очень разными людьми, потому что англичанин думает по-другому. Даже английские слова, касающиеся эмоций, не означают то состояние, что у нас, это всё немножко другое.
Мы чужие друг другу, потому что у нас «весёлый» – не совсем то же самое, что английское hilarious. И «сплин» – это не тоска. Вот такая разница в понятиях, на мой взгляд, и ведёт к разнице в наших мироощущениях. И это очень интересно. Кто-то нам ближе, как те же итальянцы, с ними гораздо легче, как и с казахами, например. А вот с англосаксами нам тяжело. Кстати, есть замечательный казахский писатель Ильяс Есенберлин. Его роман-трилогия «Кочевники» – одна из моих любимых книг в молодости. Я не раз её перечитывал и даже недавно, потому что очень хочу снять фильм о Великой степи, о Тамерлане или казахском ханстве.
Есть ещё прекрасная книжка Булата Жандарбекова «Саки» (саки – это скифы). И фильм по ней уже снят, к сожалению, неплохой (улыбается). А я тоже долго хотел её экранизировать. В ней рассказывается о скифской царице Томирис, жившей в VI веке до нашей эры, которая победила персидского царя Кира II. Казахи, как и русские, считают скифов своими предками. Они не были азиатской внешности, похожи на русских, но с образом жизни, как у казахских кочевников. Просто в какой-то момент тюрки стали выглядеть иначе. Сначала монголоидность придали хунну, которые были там до монголов и шли на запад, а уже потом сказалось нашествие монголов: Чингисхана, Батыя. Потом началась экспансия гуннов, потомков хунну. Гунны дошли до Венгрии. Скифы, потом монголы и гунны заняли пространство от Великой Китайской стены до Южной Сибири, Волги, Балхаша и Байкала. Считают, что Чингисхан и захоронен на Байкале. Индию тоже завоевали монголы. И в Китае монгольская династия довольно долго существовала. Очень много литературы на эту тему, Лев Гумилёв, историк, сын Ахматовой и Николая Гумилёва, об этом писал. Но тут больше исторической, научной, а не художественной литературы. А меня тема кочевников в принципе очень интересует.

В Кембридже и вообще в Великобритании вы в основном читали и изучали английскую литературу?
Я большой период времени глубоко изучал английскую литературу в силу того, что сначала готовился к поступлению в Кембриджский университет, потом учился там. Средневековой английской литературой серьёзно занимался, очень подробно известной троицей: Кристофером Марлоу, это драматург, который предшествовал Шекспиру, естественно, Шекспиром, а у него, по-моему, тридцать восемь пьес, а не восемь-десять, что постоянно ставят, и Беном Джонсоном.
Среди тех пьес Шекспира есть сравнимые с его великими?
Конечно же, его другие пьесы уступают главным, есть откровенно скучные. Но ведь бытует мнение, что под этим именем писали несколько авторов. Я был чрезвычайно увлечён великой литературой XIX века, это Голдсмит, хотя он писал на рубеже XVIII–XIX веков, Теккерей и, безусловно, Диккенс, у которого тонна романов!
Я читал все романы Вальтера Скотта, начиная с «Айвенго». Английскую литературу, учась в университете, я знал лучше любого англичанина. К сожалению, американскую практически не знаю. А моя бабушка, Наталья Петровна Кончаловская дружила со Стейнбеком. Хотя я наврал (улыбается), вспомнил, что Хемингуэя, конечно, читал, «Последний из могикан» Фенимора Купера, Марка Твена и Джека Лондона. Но у Лондона был современник, который мне больше нравился, – Джеймс Кервуд. Я сейчас даже пишу сценарий по мотивам его произведений.
В университете вы всё читали на английском языке?
Шекспира – на русском, хотя пытался и в оригинале, но староанглийский язык сильно отличается от современного, его крайне трудно понимать. В университете я читал очень много научной литературы, связанной с моими специальностями. Сначала это были книги по философии: Декарт, Кант, но потом философия мне показалась не очень интересной, и я перешёл на искусствоведение. И вот тут пошли искусствоведческие книжки, которые были, как правило, посвящены нескольким художникам: Дюреру, Рембрандту, Вермееру, английским романтикам, а вообще их порядка двухсот человек. Это занимало уйму времени, потому что английский язык я начал учить лишь в двадцать лет, а до этого учил в спецшколе французский язык. И это мне очень помогло потом. В Англии у меня тоже был предмет «французский язык». Помню, что мы там читали «Чуму» Камю.
А французскую литературу вы любили?
Французскую литературу я, естественно, читал, но больше до отъезда и в основном на русском языке. У Дюма, думаю, всё прочёл, у Гюго два романа: «Человек, который смеётся» и «Отверженные». Не обошёл я стороной Бальзака, конечно, и Стендаля с «Красным и чёрным» и «Пармской обителью». Пьесы Мольера, безусловно, читал, обожал Мопассана, особенно «Милого друга». Золя мне не очень зашёл, а вот Маркиз де Сад понравился. В юности был и Жюль Верн: романы о капитане Немо, «Путешествие на Луну», «Восемьдесят дней вокруг света». Хотя фантастика – не мой жанр, но я немного почитал ещё и Брэдбери, и Станислава Лема.
Не могу не спросить у внука Сергея Михалкова о детской литературе. Что вы читали мальчишкой до тех же «Трёх мушкетёров»?
Ничего такого особенного, то есть и Барто, и Бориса Заходера, и Маршака, и Чуковского. Маршак и Чуковский были друзьями моего деда. Но дед был младший среди них. А Маршака он вообще считал своим учителем. Виктор Драгунский был очень уважаем мной. И я дружил с его дочкой Ксенией, мы ходили в один детский сад. Она тоже потом писательницей стала. Был такой детский писатель Юрий Коринец, помню его. И совсем маленьким я с удовольствием читал Франсуа Рабле, у него было два издания, одно для детей, что называется, помягче и потоньше, и второе уже для взрослых, которое писал довольно фривольный человек. Опять же ещё в детстве я узнал Нагибина, у него прекрасные рассказы, например про дуб, который заснул зимой. И как все дети моего поколения, конечно же, я любил книжки Астрид Линдгрен.
А вы читали папины книги? Мы говорили про откровенность Нагибина, но и у вашего отца этого тоже немало на страницах.
Ну конечно, я читал и «Возвышающий обман», и «Низкие истины», а ещё раньше, в 70-х годах, у него вышла «Парабола замысла», моя любимая из отцовских книг. Там рассказывается в основном о том, как он снимал «Романс о влюблённых». Потом он к каждому фильму выпускал по книжке.
«Грех» – замечательная книга, «Щелкунчик» – прекрасная, «Ближний круг» – американская книга и тоже интересная. Что касается «Низких истин» и «Возвышающего обмана», то во многих эпизодах я присутствовал и эти моменты очень хорошо помню, американские например. Я работал у отца на картине «Танго и Кэш» со Сталлоне. А вообще папины книги здорово читаются. Там есть определённые неточности, как я их запомнил, но, в конце концов, это его книги.
Сергей Урсуляк говорил мне, что перечитывает некоторые режиссёрские книги, они ему помогают в работе. И вот сказал, что к «Параболе замысла» не так давно возвращался и что вообще один из его самых любимых советских фильмов «Романс о влюблённых».
Мой тоже (улыбается).

Знаю, что вы увлечены, как писателем, известным художником Константином Коровиным и Соломоном Волковым. Как они возникли в вашей жизни?
Коровин возник, потому что Нагибин с отцом писали сценарий о Рахманинове, а о нём очень много рассказывал Коровин в своей книге «Моя жизнь», как и о Шаляпине и вообще о той эпохе около революции. Эта книга – замечательный срез культурного слоя того времени. Тогда же работал мой прадед Пётр Кончаловский, примерно в эти годы, чуть раньше, умер мой прапрадед Василий Суриков. Мне очень близко это всё опять же потому, что потом и Коровин оказался в эмиграции, и Шаляпин, и Рахманинов. Это оказалось очень трагичное для них время. Потеря Родины тогда – совсем не то, что сейчас: поехал, пожил там десять лет, потом вернулся. Тогда это было зачастую навсегда. А если ты ещё считался врагом существующей власти, то точно навсегда.
Некоторых деятелей искусства и литературы уговаривали вернуться. Кто-то возвращался, а кто-то не нашёл в себе сил. Но вот мой прадед тоже имел возможность уехать, потому что у него были прекрасные отношения с Пикассо, с Браком. Они все вместе общались, выпивали (смеётся). Но он предпочёл остаться на родине и все тяготы того времени пережить вместе с ней. А кто-то из его друзей оказался во Франции, кто-то – в Германии. И та эпоха в книге Коровина раскрыта простым языком, языком очевидцев. Всё очень живо, очень по-человечески, без всякого ощущения величия или масштаба этих людей. Шаляпин называл Рахманинова «татарская морда». У них всё было как у нас, по сути дела. Кажется, что великие люди какие-то иные, нет, они обычные.
А что касается Соломона Волкова, то у него есть замечательная книга «История русской культуры XX века», которая даёт точное представление об этом периоде, кто есть кто, кто чего стоил. Он дошёл в своем исследовании вплоть до наших дней, по-моему, до конца XX века. Он сравнивает разных художников, масштабы личностей. И, например, считает, что Никита Михалков вполне себе заменяет Льва Толстого в этом смысле. Казалось бы, странное сравнение, но вот сейчас, когда выходит программа «Бесогон», однозначно мировоззренческая и довольно жёсткая по отношению ко многим вещам... Не знаю, уместно ли это сравнение, но вот у Волкова оно есть. До конца великих деятелей сегодняшней культуры трудно оценить.
Ещё придёт время, когда по-настоящему оценят Валерия Гергиева, Олега Табакова, Никиту Михалкова, Олега Ефремова. Оно ещё не настало, потому что эти люди – всё равно наши современники, старшие современники. А вот когда пройдёт, не знаю, может быть, полвека, то они, по сути дела, займут места Толстого, Чехова, Рахманинова и других великих людей той эпохи. И если ты не очень образованный человек, а я не очень образованный человек, то эта книга Соломона Волкова, а она очень содержательная, даёт представление о целой эпохе русской культуры и при этом легко читается.
Какие, на ваш взгляд, советские экранизации, российские или зарубежные, прошлых лет и современные, передают дух произведения и стали вашими любимыми?
Это, безусловно, «Война и мир» Сергея Бондарчука – классика советского кино, как и «Дядя Ваня» моего отца, «Собачье сердце» Бортко, «Солярис» Тарковского, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Михалкова, «Бег» Алова и Наумова. Таких фильмов очень и очень много. «Анна Каренина» Зархи, конечно же. Каренина у меня ассоциируется только с Татьяной Самойловой. Сравнивать литературные произведения и экранизации нельзя, это разные вещи, но если кино становится классикой, то это, по-моему, уже очень неплохо. На мой взгляд, современные экранизации «Анны Карениной» вряд ли станут классикой, хотя кто знает.
Знаю, что вы раньше не хотели даже пробовать поставить что-то в театре, боялись, ведь там не спрячешься ни за музыкой, ни за монтажом в отличие от кино. Но вот сегодня вы мне сказали, что задержались на репетиции у папы. Не появилась мысль о театральной режиссуре?
Нет, просто мой отец сейчас очень много ставит, и я его периодически навещаю в театре. Сегодня просто заскочил на репетицию, потому что у него необычная интерпретация «Макбета». А мы уже привыкли, что действие пьес Шекспира, как и многих других, написанных давно, переносят в иное пространство, эпоху. Например, долго в Англии было очень популярно помещать Шекспира во времена Первой мировой войны. Эта мода прошла, и мне кажется, что гораздо труднее поставить классическую пьесу в классических костюмах. Я театром никогда не увлекался, но репетиционный процесс мне интересно наблюдать именно потому, что для меня это всё-таки совершенно иная история, нежели снимать кино. Хотя вроде бы и там и там есть режиссёр, актёры, художники-постановщики... Мысль о театральной режиссуре появляется, но пока что я отдаю предпочтение кино, потому что очень люблю этот процесс. И да, действительно, в кино, после того как ты снял фильм, у тебя есть возможность, монтируя, довольно сильно повлиять на то, что получится в конце. То есть можно смонтировать актёра, который что-то не очень удачно сыграл, спрятаться за музыку, озвучить роль снова и, в конце концов, если совсем дело дрянь, переозвучить её другим актёром. И вдруг роль, сцена и фильм целиком начинает играть. Так что в кино, конечно, больше инструментов, которые позволяют скрыть несовершенство твоей работы (улыбается).