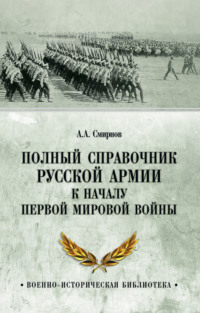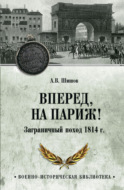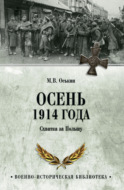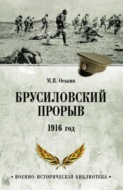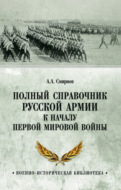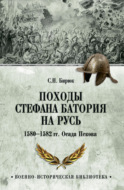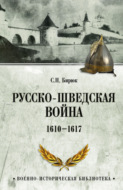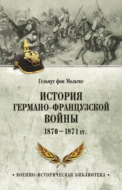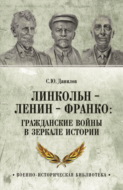Kitabı oxu: «Полный справочник русской армии к началу Первой мировой войны», səhifə 3
Эти соображения подтверждаются и воспоминаниями О.И. Пантюхова – из которых следует, что, по крайней мере, в первые годы ХХ в. стрелков Его Величества отличал тот же дух благородной скромности, что и лейб-гвардии Егерский и Финляндский полки: «Я бы сказал, что в ней [жизни части. – А.С.] был свой, пожалуй, аристократический оттенок, без бахвальства, без ежедневно парадной [так в тексте. – А.С.] стороны»130.
Лейб-гвардии 1-й стрелковый полк отличала также дружба с однобригадниками – лейб-гвардии 2-м стрелковым Царскосельским и лейб-гвардии 4-м стрелковым Императорской Фамилии полками131.
Нижних чинов в стрелки Его Величества подбирали из «коренастых блондинов», а штаб-офицеры полка сидели на серых лошадях132.
Солдаты и офицеры размещавшегося в том же Царском Селе лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка (до 16 мая 1910 г. – лейб-гвардии 2-й стрелковый батальон) в обиходе именовались «царскосельскими стрелками».
Помимо, очевидно, такого же темно-малинового оттенка приборного сукна, что и в лейб-гвардии 1-м стрелковом полку, царскосельские стрелки выделялись «особенно глубоко укоренившейся» в части, «прославившей» ее еще при Александре II традицией «единения и дружбы среди офицерского состава». То, что царскосельских стрелков характеризует прежде всего офицерское товарищество, «было общим мнением всех, кто так или иначе соприкасался с жизнью» этой части133!
Другой традицией царскосельских стрелков было редкое даже для стрелковых частей увлечение офицеров стрелковым делом. Часть отличал «редкий для нашей армии подбор офицеров – выдающихся стрелков», настоящих фанатиков стрелковой подготовки – занимавшихся этой последней, не ограничиваясь «никакими офицерскими расписаниями и сроками», занимавшихся с отстающими по стрельбе солдатами и в выходные, и в праздники, постоянно тренировавшихся в стрельбе и в подготовительных к ней упражнениях (прикладке) и в роте, и дома!
В результате «на протяжении всей своей истории» лейб-гвардии 2-й стрелковый батальон/полк не только стрелял лучше всех частей русской армии. но и шел впереди в «выработке наилучших методов обучения» стрельбе134…
Офицеров царскосельских стрелков отличал также «спортивный дух»: они увлекались самыми разными видами спорта – и охотой, и ходьбой на лыжах, и ездой на велосипеде и мотоцикле, и лаун-теннисом…
И, наконец, после Русско-японской войны офицеры царскосельских стрелков выделялись уникальным для гвардии увлечением тактической подготовкой135.
Нижних чинов в царскосельские стрелки старались подбирать из брюнетов, а штаб-офицеры полка сидели на гнедых лошадях136.
Лейб-гвардии 3-й стрелковый Его Величества полк (до 16 мая 1910 г. – лейб-гвардии Стрелковый полк) квартировал в Петербурге (1-й батальон в Петропавловской крепости, а 2-й – в начале Вознесенского проспекта), а традиций к 1914-му еще не выработал – так как был преобразован из лейб-гвардии Резервного батальона в стрелковую часть только в 1902 г. и выделялся разве что более светлым, чем в лейб-гвардии 1-м и 2-м стрелковых полках, оттенком малинового приборного сукна да рыжей137 мастью штаб-офицерских лошадей.
Традиции в лейб-гвардии 3-м стрелковом полку стали выковываться лишь в ходе Первой мировой. Так, после боя под Нешавой в Польше в августе 1914 г. его 2-я рота получила приказом по полку наименование «2-й боевой роты»138.
Солдаты и офицеры стоявшего в Царском Селе лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка (до 16 мая 1910 г. – лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской Фамилии батальон) в обиходе звались «Императорскими стрелками» или «стрелками Императорской Фамилии»139. А если речь шла только о частях Гвардейской стрелковой бригады, то и сам полк называли для краткости «полком Императорской Фамилии»140.
Полк привлекал к себе внимание «единственным в своем роде шефством» и экзотической, напоминавшей русское кучерское одеяние (но считавшейся красивой) униформой141. Свои малиновые рубахи с золотыми погонами его офицеры надели даже на танцевальный вечер, устроенный в Петрограде, на частной квартире, 12 (25) декабря 1917 г. – уже при отменившей погоны советской власти142!
Из традиций полка известны стремление подбирать в него «коротконосых, с соединенными густыми бровями» новобранцев да буланая масть штаб-офицерских лошадей143 (буланые в русской армии были еще только в 12-м гусарском Ахтырском полку). Ведь именно буланых приобрел, возвращаясь с Крымской войны, стрелковый Императорской Фамилии полк – преобразованный затем в лейб-гвардии 4-й стрелковый батальон144.
Лейб-гвардии стрелковый артиллерийский дивизион (до 6 (19) марта 1913 г. Гвардейский стрелковый, стоявший под Петербургом, в Стрельне) индивидуальных черт к 1914-му приобрести не успел. (Если не считать масти лошадей; так, во 2-й батарее лейб-гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона лошади были рыжие145).
Не успел приобрести индивидуальные черты и стоявший в Павловске под Петербургом Лейб-гвардии мортирный артиллерийский дивизион (до 6 (19) марта 1913 г. Гвардейский мортирный).
I армейский корпус (штаб – Санкт-Петербург)
22-я пехотная дивизия (штаб – Новгород)
Она дислоцировалась на Новгородчине.
Солдаты и офицеры стоявшего в Новгороде 85-го пехотного Выборгского Его Императорского Королевского Величества Императора Германского Короля Прусского Вильгельма II полка именовались не «выборжцами» (как жители Выборга), а «выборгцами»146, а в единственном числе служащий в полку назывался «выборгский»147.
Дух полка укрепляла вера в то, что название «Выборгский» он (называвшийся до этого по фамилии командира Инглисовым) получил за отличие при осаде шведской крепости Выборг в 1710 г.148 (Хотя других указывающих на это источников, кроме «сказок», этих своего рода автобиографий выборгских офицеров XVIII века, не обнаружено.)
86-й пехотный Вильманстрандский полк квартировал в Старой Руссе, 87-й пехотный Нейшлотский полк – в Аракчеевских казармах под Новгородом, 88-й пехотный Петровский полк – поблизости от них, в казармах еще одного из бывших аракчеевских военных поселений на Волхове, в селе Грузино, а 22-я артиллерийская бригада – в Новгороде.
24-я пехотная дивизия (штаб – Псков)
Ее пехотные части дислоцировались на Псковщине и в юго-восточной Эстонии.
93-й пехотный Иркутский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 94-й пехотный Енисейский полк квартировали во Пскове.
95-й пехотный Красноярский полк – в эстонском Юрьеве (ныне Тарту).
Солдаты и офицеры стоявшего во Пскове 96-го пехотного Омского полка именовались в соответствии с общим правилом, по которому название служащего в полку образовывалось при помощи суффикса «ец», – не «омичами» (как жители города Омск), а «омцами»149.
24-я артиллерийская бригада стояла в Санкт-Петербургской губернии, в Луге.
1-й мортирный артиллерийский дивизион дислоцировался в еще одном бывшем аракчеевском военном поселении на Новгородчине – в Муравьевских казармах.
XVIII армейский корпус (штаб – Санкт-Петербург)
23-я пехотная дивизия (штаб – Ревель)
Это соединение дислоцировалось в северной Эстонии.
89-й пехотный Беломорский полк, 90-й пехотный Онежский полк стояли в Ревеле (ныне Таллин).
Квартировавший там же 91-й пехотный Двинский полк считал для себя «родным»150 7-й пехотный Ревельский (из 2-й пехотной дивизии Варшавского округа) – так как был развернут в 1863-м из подразделений Ревельского.
92-й пехотный Печорский полк стоял в Нарве.
23-я артиллерийская бригада была размещена в Гатчине.
37-я пехотная дивизия (штаб – Санкт-Петербург)
Дислоцированная своими пехотными частями в районе Петербурга, к 1914-му она выделялась высоким уровнем дисциплины и боевой подготовки. Даже коренной офицер такого преданного духу и букве службы полка, как лейб-гвардии Павловский, Е.А. Сальков – ставший 28 мая 1914 г. командиром 3-го батальона 148-го пехотного Каспийского – еще и в 1929 г. обо всех частях 37-й дивизии мог сказать лишь одно: «великолепный полк (по выражению – “сплошная красота”; с такими частями можно было бить любую армию, не исключая и немцев)»151.
145-й пехотный Новочеркасский Императора Александра III полк – единственный из армейских полков – квартировал в Петербурге, на Малой Охте.
146-й пехотный Царицынский полк стоял в Ямбурге (ныне Кингисепп; штаб и три батальона) и (1-й батальон) в Красном Селе.
Офицеры расквартированного в Ораниенбауме (ныне Ломоносов) 147-го пехотного Самарского полка ценили дружеские отношения с «родственным полком»152 – 47-м пехотным Украинским (12-й пехотной дивизии Киевского военного округа), из подразделений которого был развернут в 1863-м Самарский.
В стоявшем в Новом Петергофе (ныне Петергоф) 148-м пехотном Каспийском полку точно так же помнили, что каспийцы – «сыны Одессцев», т. е. 48-го пехотного Одесского полка той же 12-й дивизии153…
Предвоенное состояние Каспийского полка охарактеризовал в 1929 г. командовавший им в 1914-м Е.А. Сальков: «Идеальный состав, подготовка и дух полка. Великолепный состав офицеров». Даже после мобилизации «состав нижних чинов» в полку остался «отличный»; «унтер-офицерский состав – очень хороший». В первых боях «полк действовал как требовалось по уставу, как на […] учении»154…
Поскольку Новый Петергоф был императорской резиденцией, в Каспийский полк не посылали служить евреев (в других полках 37-й дивизии их насчитывалось в среднем около 5 % нижних чинов)155.
37-я артиллерийская бригада дислоцировалась не под Питером, а на Новгородчине, в бывших аракчеевских военных поселениях на Волхове – в Селищенских и Масленицких казармах.
50-я пехотная дивизия (штаб – Санкт-Петербург)
Солдаты и офицеры ее квартировавшего в Финляндии, в крепости Свеаборг (ныне Суоменлинна), 197-го пехотного Лесного полка (названного в честь победы Петра I над шведами при деревне Лесной 27 сентября (8 октября) 1708 г.) именовались «лесными» (единственное число – «лесной»)156.
198-й пехотный Александро-Невский полк стоял в Вологде, 199-й пехотный Кронштадтский полк и 200-й пехотный Кроншлотский полк – в Кронштадте, а 50-я артиллерийская бригада – в Луге.
18-й мортирный артиллерийский дивизион был расквартирован в Гатчине.
XXII армейский корпус (штаб – Гельсингфорс)
Служивший в его штабе в начале Первой мировой Б.Н. Сергеевский охарактеризовал XXII корпус как «чудный по составу»; «офицерский состав можно назвать отборным». Дело в том, что в автономном Великом княжестве Финляндском, где дислоцировался корпус, жалованье платили золотом, «т. е. полуторное» против обычного, – и поэтому в части корпуса «выходили из училищ лучшие по успехам» юнкера (т. е. те, кто мог выбрать лучшие вакансии: ведь вакансии перед выпуском разбирали в порядке убывания среднего балла успеваемости; вне этой очереди выбирали лишь младшие командиры – фельдфебели и старшие и младшие портупей-юнкера. – А.С.)157.
Солдат и офицеров Финляндских стрелковых полков (из которых состоял XXII корпус) именовали «финляндскими стрелками».
1-я Финляндская стрелковая бригада (штаб – Гельсингфорс)
Она дислоцировалась в юго-западной Финляндии: 1-й Финляндский стрелковый полк – в Або (ныне Турку), 2-й Финляндский стрелковый полк и 3-й Финляндский стрелковый полк – в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки), 4-й Финляндский стрелковый полк – в Экенесе (ныне Таммисаари), а 1-й Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион – в Гельсингфорсе, Экенесе и в деревне Тюсьбю.
2-я Финляндская стрелковая бригада (штаб – Выборг)
Районом ее дислокации была юго-восточная Финляндия.
Стоявший в Санкт-Михеле (ныне Миккели) 5-й Финляндский стрелковый полк к августу 1914-го напоминал полк не русской, а германской армии. Как и у немцев, в нем был «отлично подготовл[енный] в тактич[еском] отношении унтер-оф[ицерский] состав (свободно проявл[ение] инициативы)»; как и у немцев, каждый унтер-офицер имел часы, компас и бинокль Цейсса (купленные полком на остаток от хозяйственных сумм). Отлично подготовленными тактически были не только младшие офицеры рот (этим русскую армию было не удивить), но и самое слабое звено офицерского состава русской пехоты – командиры батальонов158!
6-й Финляндский стрелковый полк квартировал в Фридрихсгаме (ныне Хамина), 7-й Финляндский стрелковый полк и 8-й Финляндский стрелковый полк – в Выборге, а 2-й Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион – в Выборге и Фридрихсгаме (ныне Хамина).
3-я Финляндская стрелковая бригада (штаб – Выборг)
Она стояла на юге и востоке Финляндии: 9-й Финляндский стрелковый полк – в Лахти, 10-й Финляндский стрелковый полк – в Куопио, 11-й Финляндский стрелковый полк – в Вильманстранде (ныне Лаппеэнранта), 12-й Финляндский стрелковый полк – в местечке Коувола, а 3-й Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион – в Тавастгусе (ныне Хямеэнлинна) и на станции Рихимяки (ныне Рийхимяки).
4-я Финляндская стрелковая бригада (штаб – Улеаборг)
Ее части – сформированные лишь в апреле – мае 1914 г. – были самыми молодыми в русской армии. Однако сразу же обрели определенное лицо: командовать бригадой стал «выдающийся военный учитель» генерал-майор В.И. Селивачев, и в других частях корпуса солдат и офицеров 4-й Финляндской стрелковой быстро прозвали «селивачами»159.
Дислоцировались «селивачи» в основном на западе Финляндии: 13-й Финляндский стрелковый полк – в Николайштадте (ныне Вааса), 14-й Финляндский стрелковый полк – в Таммерфорсе (ныне Тампере), 15-й Финляндский стрелковый полк – в Тавастгусе (ныне Хямеэнлинна), а 16-й Финляндский стрелковый полк – в Улеаборге (ныне Оулу).
4-й Финляндский стрелковый артиллерийский дивизион появился лишь в августе 1914-го, при выступлении бригады на фронт; это был переименованный 1-й дивизион 50-й артиллерийской бригады160.
А вот 22-й мортирный артиллерийский дивизион был расквартирован не в Финляндии, а в ближайших окрестностях Петербурга – в мызе Пелла.
2. Виленский военный округ
В него входили II, III, IV и ХХ армейские корпуса.
Командовавший в 1914-м 43-й пехотной дивизией генерал-лейтенант В.А. Слюсаренко высоко отзывался о предвоенном состоянии Виленского округа: «Порядок и дисциплина в войсках были хороши, воинск[ий] дух на надлежащей высоте»; пехота отлично стреляла. Он ставил это в заслугу командовавшим войсками округа в 1909–1913 гг. генерал-лейтенанту С.К. Гершельману («железному генералу», давшему «правильное направление обучению и воспитанию войск») и генералу от инфантерии Ф.В. Мартсону161; так же грамотно и требовательно руководил боевой подготовкой округа и генерал от кавалерии П.К. Ренненкампф в 1913–1914 гг.
Поскольку в округ входили Латвия, Литва и почти вся Белоруссия, среди его офицеров был велик процент местных уроженцев, стремившихся служить поближе к родным местам, – белорусов, поляков, литовцев (разграничить тех, других и третьих зачастую не удается, так как этническое самосознание многих из них – католиков, живших на землях бывшего Великого княжества Литовского, – в начале ХХ в. еще не до конца сформировалось) и латышей.
II армейский корпус (штаб – Гродна (ныне Гродно)
26-я пехотная дивизия (штаб – Гродна (ныне Гродно)
Она дислоцировалась на стыке Белоруссии, Польши и Литвы, у границы с Восточной Пруссией.
101-й пехотный Пермский полк и 102-й пехотный Вятский полк квартировали в Гродне (ныне Гродно). Служившие в них именовались в соответствии с общим правилом, по которому название служащего в полку образовывалось при помощи суффикса «ец», – не «пермяками» (или «пермичами») и «вятчанами» (как жители городов Пермь и Вятка), а «пермцами» и «вятцами».
103-й пехотный Петрозаводский полк также стоял в Гродне (ныне Гродно).
104-й пехотный Устюжский Генерала Князя Багратиона полк был размещен в Багратионовском Штабе (военном городке в 3 км от города Августов). Его солдат и офицеров именовали в соответствии с упомянутым выше правилом – не «устюжанами» (как жители города Великий Устюг), а «устюжцами». В своем полку устюжцев еще на рубеже XIX и ХХ вв. называли и по фамилии вечного шефа полка – багратионовцами162; – скорее всего, эта традиция сохранилась и к 1914-му.
26-я артиллерийская бригада была расквартирована в Гродне (ныне Гродно).
43-я пехотная дивизия (штаб – Вильна (ныне Вильнюс)
Районом ее дислокации было пограничье Литвы и Белоруссии.
169-й пехотный Ново-Трокский полк и 170-й пехотный Молодечненский полк стояли в Вильне (ныне Вильнюс), 171-й пехотный Кобринский полк – в Гродне (ныне Гродно), 172-й пехотный Лидский полк – в Лиде, а 43-я артиллерийская бригада – в Вильне (ныне Вильнюс).
2-й мортирный артиллерийский дивизион стоял в Вильне (ныне Вильнюс).
III армейский корпус (штаб – Вильна (ныне Вильнюс)
Накануне Первой мировой III армейский «по своей боевой подготовке стоял очень высоко, выделяясь» даже «среди корпусов Виленского округа»163! (Это было заслугой командовавшего корпусом в 1906–1913 гг. генерала от кавалерии П.К. фон Ренненкампфа.) «О 3-ем армейском корпусе знали далеко за пределами округа…»164
25-я пехотная дивизия (штаб – Двинск (ныне Даугавпилс)
Она дислоцировалась в Латгалии и в смежной с нею части Белоруссии.
Офицеры стоявшего в латгальском Двинске (ныне Даугавпилс) 97-го пехотного Лифляндского полка крайне ревностно относились к истории своей части – подчеркивая, что она, хоть и сформирована только в 1863 г., «по своему происхождению» (как развернутая из подразделений петровского Белозерского полка) принадлежит к петровским полкам165.
98-й пехотный Юрьевский полк также был расквартирован в Двинске (ныне Даугавпилс). С Русско-японской войны 1904–1905 гг. он считал 4-ю батарею 25-й артиллерийской бригады «нашей батареей». «Где только возможно было, полк и батарея взаимно помогали друг другу, являя собою пример истинно братских отношений»166.
В Двинске (ныне Даугавпилс) стоял и 99-й пехотный Ивангородский полк.
Квартировавший в белорусском Витебске 100-й пехотный Островский полк при мобилизации 1914 г. получил «отличное» пополнение. Более половины его составляли запасные из латышей, бóльшая часть которых была старшими унтер-офицерами гвардии и уволилась в запас всего годом – двумя ранее. Поэтому они «службу помнили», да и вообще «народ это был в высшей степени аккуратный, дисциплинированный и хозяйственный»167.
25-я артиллерийская бригада была расположена в Двинске (ныне Даугавпилс).
Как было сказано выше, 4-я батарея 25-й артиллерийской бригады находилась в «истинно братских отношениях» с 98-м пехотным Юрьевским полком.
27-я пехотная дивизия (штаб – Вильна (ныне Вильнюс)
Она дислоцировалась в Литве.
105-й пехотный Оренбургский полк, 106-й пехотный Уфимский полк и 107-й пехотный Троицкий полк стояли в Вильне (ныне Вильнюс), 108-й пехотный Саратовский полк и 27-я артиллерийская бригада – в Олите (ныне Алитус).
Как утверждал в 20-е гг. командовавший ею в 1914-м генерал-лейтенант К.М. Адариди, боевая выучка 27-й была к началу войны на высоте: «Кадровый состав офицеров был, в общем, очень хороший»; командиры дивизионов и батарей 27-й артбригады были «выше всяческой похвалы, прекрасно знали дело»; «подготовка кадрового состава нижних чинов, безусловно, была на должной высоте и не уступала таковой Немцев».
Мало того, разбавление поступившими при мобилизации «местными элементами» на «боевой ценности» 27-й дивизии «не отразилось и не могло отразиться, так как пополнение было из молодых, недавно уволенных в запас». Кроме того, в части влилось очень много обладавших высоким боевым духом добровольцев; приток их «был настолько велик, что части вышли на войну с порядочным сверхкомплектом»168.
Утверждения Адариди представляются заслуживающими доверия. Ведь в первом бою – под Шталюпёненом 4 (17) августа 1914 г. – Оренбургский полк был разбит, и начальнику дивизии, казалось бы, было выгодно свалить вину за это на тех, на кого свалили ее бывший командир III корпуса генерал от инфантерии Н.А. Епанчин и бывший командир 16-й роты 106-го пехотного Уфимского полка А.А. Успенский169, – на призванных по мобилизации евреев. Однако Адариди по этому пути не пошел…
Солдат и офицеров 107-го пехотного Троицкого полка именовали «троицкие» (единственное число – «троицкий»).
108-й пехотный Саратовский полк (как утверждал в письме генерал-майору В.В. Чернавину от 14 августа 1926 г. служивший в 1914-м в 27-й артиллерийской бригаде Генерального штаба полковник П.К. Ясевич) был к началу войны лучшим в 27-й дивизии170.
5-я стрелковая бригада (штаб – Сувалки)
Это была одна из пяти стрелковых бригад, называвшихся в военном обиходе «Российскими»171 – в отличие от дислоцировавшихся на окраинах и имевших свою нумерацию Финляндских, Кавказских, Туркестанских и Сибирских стрелковых бригад и дивизий.
Как и гвардейские, армейские стрелки ходили на парадах учащенным, «стрелковым» шагом (135 шагов в минуту вместо 120) 172 и не имели в ротах и в полковых оркестрах деревянных духовых инструментов (только медные).
Солдат и офицеров армейских стрелковых полков называли «стрелки такого-то полка». А рядовые в них именовались не «рядовой», а «стрелок».
Все части бригады – 17-й стрелковый полк, 18-й стрелковый полк, 19-й стрелковый полк и 20-й стрелковый полк – стояли на пограничье Польши, Литвы и Белоруссии, в Сувалках. Там же квартировал и 5-й стрелковый артиллерийский дивизион.
По меньшей мере, 18-й стрелковый полк сохранил к 1914-му традиционно высокий для стрелковых частей уровень воинского духа – основывавшийся на высоком же уровне боевой выучки (и прежде всего стрелковой). Еще и в ноябре 1914 г. переведенный туда из 5-го гренадерского Киевского полка подпоручик М.М. Липинский был поражен «великолепным боевым духом и подготовкой полка [подчеркнуто в оригинале. – А.С.]». «В частности, обращала на себя внимание отличная стрельба». Влившиеся при мобилизации в 18-й стрелковый литовцы из Сувалкской губернии оказались «хорошим» пополнением, в котором «можно было заметить иной раз большое озлобление по отношению к немцам» – разорявшим в сентябре – октябре 1914-го литовские деревни в Сувалкии173.
19-й стрелковый полк был одной из 12 частей русской армии, в которых имелись навечно зачисленные в списки солдаты и/или офицеры. В 19-м стрелковом это были поручик М.И. Шоке и младший унтер-офицер А. Лобачев. Когда 26 февраля (11 марта) 1905 г., в сражении под Мукденом, полк попал в окружение и пришлось сжечь, спасая от захвата японцами, полковое знамя, Шоке спрятал и сохранил в плену вырезанный из полотнища вензель Александра III. А раненый Лобачев (тогда еще рядовой стрелок174), бежав из плена, первым рассказал об этом однополчанам.
Спасенные вензель и навершие знамени (сохраненное подполковником Красноуховым) хранились в полку в специально изготовленном киоте.
3-й мортирный артиллерийский дивизион стоял в Вильне (ныне Вильнюс).