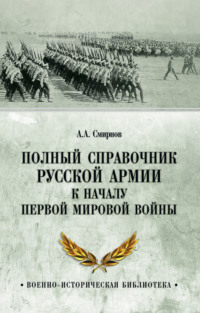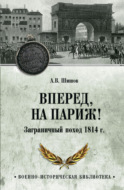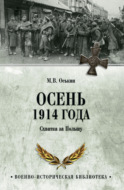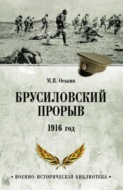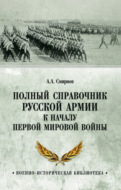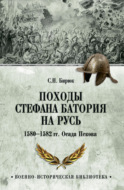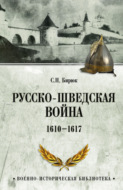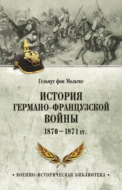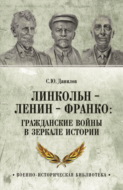Kitabı oxu: «Полный справочник русской армии к началу Первой мировой войны», səhifə 4
IV армейский корпус (штаб – Минск)
Из общих оценок предвоенного состояния этого соединения известна лишь та, которую привел в письме генералу от артиллерии В.Е. Флугу от 26 февраля 1927 г. командовавший к началу войны 2-й бригадой 30-й пехотной дивизии IV корпуса генерал-майор С.П. Соколов: «Артиллерия корпуса стояла на должной высоте»175.
30-я пехотная дивизия (штаб – Минск)
Она дислоцировалась в Белоруссии.
117-й пехотный Ярославский полк стоял в Рогачеве, 118-й пехотный Шуйский полк – в Слониме, а 119-й пехотный Коломенский полк и 120-й Серпуховской полк – в Минске.
В письме генералу от инфантерии В.Е. Флугу от 26 февраля 1927 г. бывший командир 2-й бригады 30-й дивизии генерал-майор С.П. Соколов отметил резкое отличие в состоянии полков бригады накануне Первой мировой: 119-й пехотный Коломенский отличался в худшую сторону от 120-го пехотного Серпуховского «как небо от земли»176.
30-я артиллерийская бригада квартировала в Минске.
40-я пехотная дивизия (штаб – Бобруйск)
Эта дивизия также была расквартирована в Белоруссии.
Ее 157-й пехотный Имеретинский полк и 158-й пехотный Кутаисский полк стояли в Бобруйске.
Известна оценка предвоенного состояния стоявшего в Могилеве 159-го пехотного Гурийского полка, данная в письме генерал-майору В.В. Чернавину от 12 октября 1926 г. бывшим офицером 4-го мортирного артиллерийского дивизиона (расквартированного в том же гарнизоне, что и гурийцы) подполковником А.В. Крыштановским: «Это был во всех отношениях выдающийся полк»177.
160-й пехотный Абхазский полк квартировал в Гомеле, а 40-я артиллерийская бригада – в Несвиже.
4-й мортирный артиллерийский дивизион дислоцировался в Могилеве.
ХХ армейский корпус (штаб – Рига)
По сделанной после 1915 г. оценке генерал-лейтенанта А.Н. Розеншильда фон Паулина (принявшего в июне 1914 г. 29-ю пехотную дивизию ХХ корпуса), корпус «был совершенно не подготовлен (28-я дивизия была еще хуже 29-й)»178. Однако воспоминания Розеншильда (как уже отмечалось исследователями) на редкость необъективны179; явный мизантроп, Анатолий Николаевич умудрился дать негативные в целом оценки и практически всем своим сослуживцам, и практически всем попавшим в поле его зрения частям и соединениям. Поэтому доверять его оценке мы не можем.
28-я пехотная дивизия (штаб – Ковна (ныне Каунас)
Она дислоцировалась в Литве.
109-й пехотный Волжский полк, 110-й пехотный Камский Генерал-Адъютанта Графа Толя 1-го полк стояли в селе Шанцы (ныне Шанчяй) близ Ковны (ныне Каунас), 111-й пехотный Донской полк – в Ковне (ныне Каунас), 112-й пехотный Уральский полк – в Вильне (ныне Вильнюс), а 28-я артиллерийская бригада – в селе Шанцы (ныне Шанчяй) близ Ковны.
29-я пехотная дивизия (штаб – Рига)
В ее офицерском составе «огромный» для русской армии процент составляли латыши180 — благо дислоцировалась 29-я в Латвии.
Стоявшие соответственно в Либаве (ныне Лиепая) и Митаве (ныне Елгава) однобригадники – 113-й пехотный Старорусский полк и 114-й пехотный Новоторжский полк – считали друг друга «братьями». Солдаты и офицеры первого именовались «староруссцами» (иногда писали: «старорусцы»)181, а второго – «новоторжцами» (а не «новоторами», как жители города Торжок, по которому был назван полк).
115-й пехотный Вяземский Генерала Несветаева полк и 116-й пехотный Малоярославский полк квартировали в Риге.
Оценка предвоенного состояния пехоты 29-й дивизии, сделанная после 1915 г. ее бывшим командиром А.Н. Розеншильдом фон Паулином, поистине уничтожающа: «полки обучены плохо», «масса как офицеров, так и нижних чинов совсем ничего не знают», «огромное большинство» офицеров «в полках было неудовлетворительно, и это невзирая на отличные стоянки, куда можно было привлечь цвет военных училищ»182. Однако принять эту оценку мешает отмеченная выше редкая необъективность обиженного на весь свет Анатолия Николаевича.
Тем с большим основанием можно утверждать, что расквартированная в Риге 29-я артиллерийская бригада к началу Первой мировой была подготовлена превосходно! Ведь даже на Розеншильда она произвела в июне или июле 1914 г. «очень хорошее впечатление самой стрельбой, управлением огня, составом офицеров, видом людей и лошадей и проч.» («и дисциплина, видимо, была хорошая»)183.
20-й мортирный артиллерийский дивизион дислоцировался в Риге.
1-й тяжелый артиллерийский дивизион был расквартирован в Двинске (ныне Даугавпилс).
3. Варшавский военный округ
В него входили VI, XIV, XV, XIX и XXIII армейские корпуса.
Поскольку войска этого важнейшего из приграничных округов должны были быть надежными и политически, в них почти не присылали новобранцев из рабочих184.
VI армейский корпус (штаб – Белосток)
4-я пехотная дивизия (штаб – Ломжа)
Ее части дислоцировались близ границы Польши и Восточной Пруссии, на севере Мазовии.
Петровский 13-й пехотный Белозерский Генерал-Фельдмаршала Князя Волконского полк стоял в Ломже.
Солдаты и офицеры расквартированного в той же Ломже 14-го пехотного Олонецкого Его Величества Короля Сербского Петра I полка именовались «олонцами» (единственное число – «олонец»)185.
Стоявший в Репнинском штабе (военном городке близ посада Замбров (ныне город Замбрув) петровский 15-й пехотный Шлиссельбургский Генерал-Фельдмаршала Князя Аникиты Репнина полк был одной из 12 частей русской армии, в которых имелись навечно зачисленные в списки солдаты и/или офицеры. У шлиссельбуржцев это был гренадер Степан Новиков – спасший в бою с турками под Кинбурном 1 (12) октября 1787 г. жизнь генерал-аншефу А.В. Суворову.
16-й пехотный Ладожский полк стоял в Репнинском штабе, а 4-я артиллерийская бригада – в Репнинском штабе (управление и 1-й дивизион) и Ломже (2-й дивизион).
16-я пехотная дивизия (штаб – Белосток)
Она тоже дислоцировалась близ южной границы Восточной Пруссии, но восточнее 4-й, на белорусско-польском пограничье, – и была единственной в русской армии, все четыре полка которой были петровскими, а два – еще и суворовскими!
61-й пехотный Владимирский полк стоял в крепости Осовец.
62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса Князя Италийского Графа Суворова-Рымникского полк – расквартированный в Суворовском Штабе (военном городке в 2 км от станции Моньки и в 40 км севернее Белостока) – был и петровским, и суворовским: в 1763–1769 гг. им командовал полковник А.В. Суворов.
Солдаты и офицеры квартировавшего в Соколке (ныне Сокулка) 63-го пехотного Углицкого Генерал-Фельдмаршала Апраксина полка именовались так же, как и жители города Углич – «угличанами»186.
Стоявший в Белостоке 64-й пехотный Казанский полк был и петровским, и суворовским: в 1756–1761 гг. в нем числился премьер-майор, а затем подполковник А.В. Суворов.
16-я артиллерийская бригада стояла в Волковыске.
6-й мортирный артиллерийский дивизион дислоцировался значительно южнее прочих частей VI корпуса, в Подляшье, в Лукове (ныне Лукув).
XIV армейский корпус (штаб – Люблин)
18-я пехотная дивизия (штаб – Люблин)
Она дислоцировалась в Малой Польше, в Люблинской губернии, и (одним полком) в Подляшье.
Квартировавший в Люблине 69-й пехотный Рязанский Генерал-Фельдмаршала Князя Александра Голицына полк был петровским и считал своими «отцами» 15-й пехотный Шлиссельбургский (4-й пехотной дивизии Варшавского военного округа) и 25-й пехотный Смоленский (7-й пехотной дивизии Казанского округа) – из рот которых он был сформирован в 1703 г. А «сыновьями» – те, на формирование которых в разное время были выделены роты Рязанского: 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский (1-й гренадерской дивизии Московского округа), 21-й пехотный Муромский (6-й пехотной дивизии Варшавского округа) и 150-й пехотный Таманский (38-й пехотной дивизии Варшавского же округа).
Находящимся «в близком кровном родстве с Рязанцами» в Рязанском полку считали и 57-й пехотный Модлинский (15-й пехотной дивизии Одесского округа) – который в 1845 г. был усилен батальоном, выделенным Рязанским полком187.
Стоявший в Подляшье, в городе Седлец (ныне Седльце), 70-й пехотный Ряжский полк и квартировавший на Висле, в Ново-Александрии (ныне Пулавы) 71-й пехотный Белёвский полк имели уникальные награды – каждый по одной из пяти турецких тамбур-мажорских тростей, захваченных в тяжелейшем сражении с турками при Кюрюк-Дара 24 июля (5 августа) 1854 г., в Крымскую войну. (Другие три получили Тульский полк той же 18-й дивизии и полки, к 1914-му именовавшиеся 13-м лейб-гренадерским Эриванским и 14-м гренадерским Грузинским, из Кавказской гренадерской дивизии Кавказского военного округа.)188 Награда эта напоминала, что при Кюрюк-Дара ряжцы, белёвцы, тульцы, эриванцы и грузинцы пробились штыками до самых «турецких резервов, где были и музыканты»189.
А стоявший на Висле же, в Ивангороде (ныне Демблин) 72-й пехотный Тульский полк уникальных наград имел целых две – «кюрюк-даринскую» трость и турецкий барабан.
Все четвертые полки пехотных и гренадерских дивизий русской армии – в «воспоминание о “легких” егерских полках», которыми четвертые числились в 1833–1856 гг., – не имели в оркестре большого барабана («почему-то называвшегося» турецким)190: ведь в обычном для егерей рассыпном строю идти в ногу под барабан не требовалось. Но четвертому полку 18-й дивизии – Тульскому – этот барабан был оставлен – в память того, что, когда в сражении с французами на Треббии 26 мая (6 июня) 1799 г. ядро угодило в середину полкового оркестра тульцев и «музыка на короткое время смолкла», «только один большой турецкий барабан продолжал выбивать такт»191…
Чины Тульского полка именовались в соответствии с общим правилом, по которому название служащего в полку образовывалось при помощи суффикса «ец», – не «туляками» (как жители города Тула), а «тульцами».
18-я артиллерийская бригада была расквартирована в Люблине (1-й дивизион) и Ивангороде (ныне Демблин), (2-й дивизион).
1-я стрелковая бригада (штаб – Лодзь)
Входившие в эту, одну из пяти «российских», стрелковых бригад 1-й стрелковый полк, 2-й стрелковый полк, 3-й стрелковый полк, 4-й стрелковый полк и 1-й стрелковый артиллерийский дивизион стояли в западной части царства Польского, в Лодзи.
4-й стрелковый полк был одной из 12 частей русской армии, в которых имелись навечно зачисленные в списки солдаты и/или офицеры. У стрелков 4-го полка это были штабс-капитан И.П. Ожизневский, старший унтер-офицер Андрей Ратников и младшие унтер-офицеры Василий Нестеров и Сергей Смирнов – спасшие в феврале (марте) 1905 г., в сражении с японцами под Мукденом, полковое знамя.
2-я стрелковая бригада (штаб – Радом)
Эта, еще одна «российская» стрелковая бригада, дислоцировалась в юго-западной части царства Польского.
5-й стрелковый полк стоял в Радоме, 6-й стрелковый полк – в Кельцах (ныне Кельце), 7-й стрелковый полк – в Ченстохове, а 8-й стрелковый полк – в Петрокове (ныне Пётркув-Трыбунальски), а 2-й стрелковый артиллерийский дивизион – в Радоме.
14-й мортирный артиллерийский дивизион стоял в Ивангороде (ныне Демблин).
XV армейский корпус (штаб – Варшава)
6-я пехотная дивизия (штаб – Остров (ныне Острув-Мазовецка)
Она дислоцировалась западнее 4-й пехотной дивизии VI корпуса, все в той же, прилегавшей к границе Восточной Пруссии, северной части Мазовии.
21-й пехотный Муромский полк квартировал в Забалканском Штабе (военном городке близ посада Рожаны).
Петровский 22-й пехотный Нижегородский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Веры Константиновны полк был расквартирован в Нижегородском Штабе (военном городке близ Остроленки).
23-й пехотный Низовский Генерал-Фельдмаршала Графа Салтыкова полк стоял в Салтыковском Штабе (военный городок близ Острова (ныне Острув-Мазовецки). Как писал 15 декабря 1927 г. генерал-майору В.В. Чернавину служивший в 1907–1910 г. в этом полку ротмистр С.С. Терзиманов, там «была поставлена высоко» дисциплина. При встрече с офицерами даже других частей солдаты-низовцы «буквально “печатали” [шаг. – А.С.] как столичные гвардейцы»192.
24-й пехотный Симбирский Генерала Неверовского полк стоял в том же Салтыковском Штабе, а 6-я артиллерийская бригада – в Острове (ныне Острув-Мазовецки).
С началом войны качество 6-й пехотной понизилось, так как предназначавшиеся для нее молодые запасные из Калишской и других расположенных на левобережье Вислы губерний прибыть не успели, и дивизию – уже выступившую к границе Восточной Пруссии – пришлось прямо на походе пополнять запасными из Ломжинской и Плоцкой губерний. А они были «старых сроков службы»193.
8-я пехотная дивизия (штаб – Варшава)
Районом ее дислокации была центральная часть Мазовии.
В квартировавшем в Варшаве петровском 29-м пехотном Черниговском Генерал-Фельдмаршала Графа Дибича-Забалканского полку считали своими «братьями товарищами»194 (но не «сыновьями»!) солдат и офицеров 113-го пехотного Старорусского полка – развернутого в 1863 г. из подразделений Черниговского.
Стоявший в той же Варшаве 30-й пехотный Полтавский полк, по оценке командира XV корпуса генерала от инфантерии Н.Н. Мартоса, к сентябрю 1913 г. «во всех отношениях, особенно же в тактической подготовке, был лучшим полком в к[орпу]се», затем, при новом командире, полковнике М.И. Гаврилице, «стал слабеть», но все же и в августе 1914-го считался Мартосом «одной из надежнейших частей» XV корпуса195.
31-й пехотный Алексеевский полк квартировал в городе Скерневицы (ныне Скерневице) западнее Варшавы.
Стоявший в Варшаве 32-й пехотный Кременчугский полк имел «свой ярко определенный облик. Кто бы ни вышел в этот полк – через год, много два, приобретал во всем нечто такое, по чему сразу можно было определить, что он кременчужец»196. Столь яркая индивидуальность части – зафиксированная начальником 8-й пехотной дивизии генерал-лейтенантом Э.В. Экком в 1906 г. – должна была сохраниться и к августу 1914-го.
8-я артиллерийская бригада стояла в Варшаве.
15-й мортирный артиллерийский дивизион дислоцировался в Варшаве.
XIX армейский корпус (штаб – Брест-Литовск (ныне Брест)
17-я пехотная дивизия (штаб – Холм (ныне Хелм)
Она дислоцировалась на западной окраине Волыни, на украинской же Холмщине (прилегавшей с запада к Волыни) и в расположенном к северу от Холмщины Подляшье.
Петровский 65-й пехотный Московский Его Величества полк квартировал в Холме (ныне Хелм).
Стоявший на Холмщине же, в Замостье (ныне Замосць), 66-й пехотный Бутырский Генерала Дохтурова полк был одной из 12 частей русской армии, в которых имелись навечно зачисленные в списки солдаты и/или офицеры. В Бутырском это был портупей-прапорщик Николай Кокурин – спасший знамя полка в сражении при Аустерлице в 1805 г. и сохранивший его в плену.
67-й пехотный Тарутинский Великого Герцога Ольденбургского полк стоял на западе Волыни, в Ковеле.
Квартировавший там же, во Владимире-Волынском, 68-й лейб-пехотный Бородинский Императора Александра III полк был (наряду с 1-м лейб-гренадерским Екатеринославским и 13-м лейб-гренадерским Эриванским) одним из трех полков русской пехоты, сохранивших в наименовании характерную для времен Николая I приставку «лейб». Дело в том, что к 1855 г. он входил в число полков, шефом которых был цесаревич Александр Николаевич (будущий Александр II) – и которые имели поэтому приставку «лейб» к названию по географическому объекту («лейб-Бородинский» и т. п.). Вступив на престол, Александр II повелел сохранить в их наименованиях эту приставку – хотя полкам, вновь получавшим шефство цесаревича (или царствующего императора), ее с тех пор уже не присваивали. Эту традицию сохранили и Александр III и Николай II.
Соответственно, в армейском обиходе полк называли иногда «лейб-Бородинским».
Бородинский был одной из 12 частей русской армии, в которых имелись навечно зачисленные в списки солдаты и/или офицеры. В Бородинском это был рядовой Василий Рябов – схваченный осенью 1904 г., в Русско-японскую войну, во время разведки в одежде китайца, отказавшийся, несмотря на угрозу расстрела по законам войны, отвечать на вопросы и расстрелянный японцами. Второочередной 284-й пехотный Чембарский полк (второочередной же 71-й пехотной дивизии), в котором воевал призванный из запаса Рябов, был сформирован лишь после начала «японской» войны и расформирован по ее окончании, – а срочную Василий служил в 6-й роте Бородинского полка197…
Как вспоминал командовавший тогда бородинцами генерал-лейтенант А.И. Тумский, в 1913–1914 гг. полк выделялся «молодым составом офицеров» («мало старых капитанов – их я совсем не помню»; «молодые штаб-офицеры»). Среди офицеров полка Тумский «совершенно не наблюдал» пьянства вроде того, что описано А.И. Куприным в «Поединке»; «пили, но, по-видимому, в меру и сдержанно»198…
По крайней мере, в 900-х гг. «бородинцы были на прекрасном счету»199.
17-я артиллерийская бригада стояла в Подляшье, во Влодаве.
38-я пехотная дивизия (штаб – Брест-Литовск (ныне Брест)
Она дислоцировалась в нынешней Брестской области.
149-й пехотный Черноморский полк квартировал в Брест-Литовске (ныне Брест), 150-й пехотный Таманский полк – в Кобрине, 151-й пехотный Пятигорский полк – в Картуз-Берёзе (ныне Берёза), 152-й пехотный Владикавказский Генерала Ермолова полк – в Брест-Литовске, а 38-я артиллерийская бригада – в военном городке Михайловский Штаб (в 6 км от города Пружаны).
В Западную Белоруссию дивизия прибыла в 1894 г., а до этого ее части (и их предшественники) многие десятки лет стояли на Кавказе – и принесли с собой обычаи кавказских войск (с их тесной спайкой всех родов войск, обычаем куначества между частями, кавказскими традициями застолья, с грузинской «Мравалжамиер», со сложенными за многолетнюю Кавказскую войну 1817–1864 гг. песнями и др.)200… С учетом того, что в переброшенном с Кавказа в Польшу в том же 1894 г. 15-м драгунском Переяславском полку «традиции и дух славного Кавказа» «не угасли» и к 1914-му201 и что так же обстояли тогда дела и в покинувшей Кавказ в 1892 г. 19-й пехотной дивизии Киевского округа (о ней см. ниже), – можно с уверенностью утверждать, что так было и в 38-й дивизии.
19-й мортирный артиллерийский дивизион был расвартирован в Подляшье, в местечке Бела (ныне Бяла-Подляска).
2-й тяжелый артиллерийский дивизион также стоял в Беле.
XXIII армейский корпус (штаб – Варшава)
Его иногда называли «полугвардейским»202: из двух его дивизий одна была армейской, а другая – гвардейской.
3-я гвардейская пехотная дивизия (штаб – Варшава)
Квартировавшая в Варшаве, она имела более выраженную индивидуальность, нежели петербургские 1-я и 2-я гвардейские пехотные. Во-первых, жившие в иноэтничной, польской среде, ее части были сильнее сплочены – поддерживая дружеские отношения и между собой, и с другими частями «варшавской гвардии». Такому сплочению способствовала и особенность униформы – присвоенные ее полкам в 1855–1862 гг. желтые канты. В русской пехоте их имели только эти четыре полка; белые и то были у целых шести, а у всех остальных – алые (у 232 частей) или малиновые (у 114). Встречи чинов 3-й гвардейской пехотной дивизии в Софии в начале 1930-х гг. так и назывались «встречами желтого канта»; зафиксировано и выражение «наша “желтая дивизия”»203.
(Правда, со времен Александра III желтый цвет кантов 3-й гвардейской пехотной дивизии «постепенно заменялся оранжевым»: образцы, присылавшиеся в войска Техническим комитетом Главного Интендантского управления, с каждым годом оказывались все более оранжевого оттенка. От времени эти желто-оранжевые и оранжевые канты темнели, тогда как желтые канты времен Александра II – белели204…)
Во-вторых, 3-я гвардейская выделялась своей «каторжной» дисциплиной205 и образцовым внешним видом нижних чинов206 – еще более «каторжной» и еще более образцовым, чем даже в лейб-гвардии Павловском полку. Эта традиция, привитая в 1820-х гг. лейб-гвардии Литовскому и лейб-гвардии Волынскому полкам истинным последователем своего отца Павла I, цесаревичем Константином Павловичем, передалась от них и сведенным с ними в августе 1831 г. в одну дивизию Кексгольмскому и Санкт-Петербургскому гренадерским (в декабре 1894 г. ставших гвардейскими).
В-третьих, для того, чтобы добиться этих сверхидеальных дисциплины и внешнего вида, в 3-й гвардейской открыто применяли неуставные методы – «заветные приемы выучки и воспитания, не предусмотренные тогдашним уставом207. (Фельдфебеля подобные методы пытались практиковать и, например, в лейб-гвардии Измайловском полку – но офицерство там с этим боролось208…)
(Еще одна традиция дивизии – взаимная выручка пехоты и артиллерии – создалась уже в Первую мировую209. Тогда же 3-я гвардейская приобрела в русской армии репутацию «дивизии скорой помощи», а в германской – лучшей дивизии русской гвардии210.)
В лейб-гвардии Литовском полку желтое приборное сукно – присвоенное частям 3-й гвардейской пехотной дивизии – оставалось (невзирая на приобретавшие все более оранжевый оттенок официальные образцы) действительно желтым, светлее, чем в других полках дивизии, лимонно-желтого, «канареечного оттенка»211. (К 1914 г. желтое сукно в 3-й гвардейской пехотной шло не только на канты и рукавные клапаны, но и – в лейб-гвардии Литовском, лейб-гвардии Кексгольмском и лейб-гвардии Санкт-Петербургском полках – на обшлага и лацканы, а в лейб-гвардии Литовском – еще и на воротники, околыши фуражек и киверов и на шинельные петлицы.)
«Каторжная дисциплина» и неуставные приемы обучения и воспитания солдат в лейб-гвардии Литовском полку (по воспоминаниям попавшего в сентябре 1914 г. в его запасный батальон вольноопределяющегося) выглядели так.
«Строгость – ни охнуть, ни вздохнуть; ноги протянуть без санкции начальства нельзя. В уборную хочешь – иди с рапортом к отделенному ефрейтору. […]
Сапоги на поверке не блестят – наряд вне очереди. Пуговицы тусклы – наряд.
Клямор не блестит – гусиным шагом ходи [Да, в 3-й гвардейской заставляли чистить даже кламмер – не видную (!) под бляхой скобу поясного ремня. – А.С.]».
«Одни ходят гусиным шагом, другие бегают вокруг конюшни с фуражками, с ремнями, с котелками, с кружками, с портянками, с носками, с сапогами в зубах» – и все, «стараясь перекричать друг друга, вопят:
– Я дурак! Я дурак! Я дурак!
– Вот как чистят клямор! Вот как чистят клямор!
– Я балда! Я балда!»212
В итоге выковывался такой автоматизм в выполнении команд, что когда в 1899 г. (по другим данным, в 1903 г.) командир полка, бывший кавалергард генерал-майор М.А. Пашков по ошибке подал перед смотром кавалерийскую команду «Садись», он «увидал весь Литовский полк от рядового до полковника сидящих на земле»213.
Нижних чинов в лейб-гвардии Литовский полк подбирали из высоких безбородых блондинов214.
В лейб-гвардии Кексгольмском Императора Австрийского полку (после начала войны с Австро-Венгрией, 26 июля (8 августа) 1914 г. Николай II лишил его этого шефства) точно так же, невзирая на официальные образцы, упорно «строили» околыши фуражек (а с декабря 1907 г. и киверов) и шинельные петлицы из сукна голубого цвета (а не присвоенного полку светло-синего) – пока, наконец, в 1912 г. светло-синий не был заменен кексгольмцам на голубой официально.
Правда, на практике эти два цвета различал мало кто. Так, императрица Мария Федоровна заявила 7 (20) июля 1909 г., что ей «очень понравился» «полк с голубым околышем» (сиречь лейб-гвардии Кексгольмский), – а кексгольмец полковник А.И. Недумов тогда же называл цвет этих околышей то «синим», то «васильковым»215… (Впрочем, у полевого василька – считавшегося кексгольмскими офицерами «цветком полка»216 – часть лепестков голубая, а часть – интенсивно-синяя.)
Сам же Кексгольмский полк – петровский, сформированный в 1710 г. – его офицеры к 1914-му «давно» уже «привыкли» уважительно называть «Стариком»217.
3-я рота кексгольмцев именовалась в обиходе «галерной» – так как комплектовала команду гребного катера «Кексгольмец», пожалованного полку в память об участии кексгольмцев, в качестве морской пехоты, в сражениях при Гангуте 27 июля (7 августа) 1714 г., Гренгаме 27 июля (7 августа) 1720 г. и Хиосе 24 июня (5 июля) 1770 г. Командир 3-й роты, его помощник (а по утверждению бывшего младшего офицера 3-й роты Е.Л. Янковского, и другие младшие офицеры роты218) и нижние чины, входившие в команду катера, носили на эполетах и погонах (поверх вензеля вечного шефа полка, австрийского императора Франца I) наложенный на изображение якоря вензель Петра I.
Катер ходил под галерным флагом времен Гангута и Гренгама (красным, с двумя косицами и Андреевским крестом в крыже) – в память того, что при Гангуте и Гренгаме кексгольмцы бросались на абордаж с борта галер. Флаг этот считался наградой полка и в день полкового праздника (29 июня (12 июля), в день Свв. Петра и Павла) выносился в строй 3-й роты в качестве знаменного флага – которому отдавались те же почести, что и знамени.
Своими «отцами» в Кексгольмском считали полки, из выделенных которыми (или полками – предками которых) рот был создан в 1710 г. Кексгольмский – 17-й пехотный Архангелогородский (5-й пехотной дивизии Киевского военного округа), 25-й пехотный Смоленский (7-й пехотной дивизии Московского округа), 45-й пехотный Азовский (12-й пехотной дивизии Киевского округа), 61-й пехотный Владимирский (16-й пехотной дивизии Варшавского округа), 77-й пехотный Тенгинский (20-й пехотной дивизии Кавказского округа), 85-й пехотный Выборгский (22-й пехотной дивизии Петербургского округа), 97-й пехотный Лифляндский (25-й пехотной дивизии Виленского округа) и 131-й пехотный Тираспольский (33-й пехотной дивизии Киевского округа).
А «сыновьями» – полки, на сформирование которых кексгольмцы выделили когда-то по роте: лейб-гвардии Московский (2-й гвардейской пехотной дивизии Петербургского округа), лейб-гвардии Литовский (3-й гвардейской пехотной дивизии Варшавского округа), 6-й гренадерский Таврический (2-й гренадерской дивизии Московского округа), 81-й пехотный Апшеронский, 84-й пехотный Ширванский (21-й пехотной дивизии Кавказского округа), Свеаборгский крепостной пехотный и 2-й Кронштадтский крепостной пехотный (а с 1910 г., видимо, сформированные из двух последних частей 197-й пехотный Лесной и 200-й пехотный Кроншлотский полки 50-й пехотной дивизии Петербургского округа).
«Братьями» же в Кексгольмском полку считали 3-й гренадерский Перновский полк (1-й гренадерской дивизии Московского округа) – сформированный в 1806 г. из половины Кексгольмского, – а также своих однобригадников – лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк («с которым Кексгольмцы служат неразлучно вместе с 1812 года»)219.
С 1860 г. комплект музыкальных инструментов в полку был не из меди, а из серебра – то был подарок шефа, австрийского императора Франца Иосифа I220.
Нижних чинов в лейб-гвардии Кексгольмский полк подбирали из высоких безбородых шатенов221.
Влившиеся при мобилизации 1914 года в полк запасные были в основном поляками и евреями – хотя были и украинцы, и жители великорусских и прибалтийских губерний. Почти все служили в армейской пехоте и были поэтому мельче гвардейцев (так, что заготовленное на гвардейский рост обмундирование было им велико). Но – на вид – не старше 30 лет, «стариков не было заметно»222…
Союзник России по борьбе с Наполеоном в 1806–1807 и 1813–1815 гг., прусский король Фридрих Вильгельм III был вечным шефом лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фридриха Вильгельма III полка, а действующим шефом – царствующий король Пруссии (он же, с 1871 г., император Германии; в 1914-м это был Вильгельм II).
24 августа (6 сентября) 1914 г. – вслед за переименованием Санкт-Петербурга в Петроград – полк был переименован в лейб-гвардии Петроградский.
Вплоть до начала Первой мировой петербуржцы поддерживали дружеские отношения с 1-м гвардейским гренадерским полком германской армии – вечным шефом которого был союзник Фридриха Вильгельма III по борьбе с Наполеоном, русский император Александр I. В этом «полку Александра» (Alexander-Regiment) Санкт-Петербургский именовали «нашим сестринским полком» (unser Schwester Regiment)223.
Из традиций полка известна та, по которой в расположении части церемониальным маршем петербуржцы проходили иногда так же, как лейб-гвардии Павловский полк, – держа винтовки не «на плечо», а «на руку», – в память того, что, прикрывая отступление русской армии в сражении под Фридландом 2 (15) июня 1807 г., петербуржцы (тогда еще гренадеры) дрались бок о бок со своими однобригадниками павловцами, то и дело беря ружья «на руку» и отбрасывая наседавших французов штыками224…
Полковой марш – написанный для петербуржцев в 1835 г. их тогдашним шефом (ставшим в 1840-м их вечным шефом), прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III – считался «полковой честью»225.
Нижних чинов в Петербургский полк подбирали из брюнетов226.
При мобилизации в июле 1914 г. в Петербургский полк – в лице запасных-поляков, жителей Варшавы – влился (по оценке бывшего офицера полка Я.Я. Червинки) «совершенно неудовлетворительный материал в физическом и моральном отношении» (потом, правда, превратившийся в более или менее удовлетворительный)227.
Лейб-гвардии Волынский полк был самым дисциплинированным и самым образцовым по внешнему виду и строевой выучке солдат не только в 3-й гвардейской дивизии, не только во всей гвардии, но и во всей русской армии!
«Блестящий, совершенно исключительный полк», – охарактеризовал его в 1930 г. видевший его на маневрах под Красным Селом в 1912-м генерал-лейтенант Е.К. Миллер (оставшийся довольным и боевой выучкой волынцев)228.
Представление о «волынской» дисциплине – выделявшейся даже в 3-й гвардейской дивизии! – дает, например, эпизод маневров под Скерневицами в начале 1890-х гг., когда «буквально все полки дивизии залегли, столько солнечных ударов», а волынцы продолжали идти229. Или эпизод тех же Красносельских маневров 1912 года – когда в походной колонне волынцы шли даже в большем порядке, чем того требовал устав (!), – «в ногу, строго равняясь, имея всех ефрейторов на своих местах, неся ружья строго по-уставному, со штыками, выравненными как по ниточке»230…
Что же до внешнего вида и строевой выучки волынцев, то прекрасно знавший такие образцовые войска, как петербургская гвардия, офицер лейб-гвардии Финляндского полка Д.И. Ходнев признавался, что ничего подобного волынской «особой “воинской” красоте, отчетливости, выправке» не видел. «Особая отчетливость, – решительно во всем: в отдании чести, маршировке, ружейных приемах, в каждом движении – всегда и везде выделяла Волынцев [подчеркнуто в оригинале. – А.С.]»231.
«Высоко поднятая голова и твердый шаг с отмахом руки до отказа» – «по этому виду узнавал Волынцев Царь, узнавали их и другие части»232… «Твердый, как на параде, шаг, идеальное равнение, особый отмах руки, по которому Государь узнавал наших солдат даже тогда, когда они, будучи переведены в другие полки, носили уже иную форму. Тонкие черточки штыков, строго выравненных по рядам в горизонтальной и вертикальной плоскости, совершенно неподвижны»233…
Pulsuz fraqment bitdi.