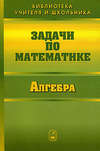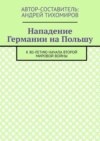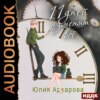Kitabı oxu: «Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой», səhifə 2
Он учился в Сорбонне, был прилежным студентом. Там написал ностальгические стихи о Родине: «Россия мати! свет мой безмерный! Позволь то, чадо прошу твой верный…» Его вольный перевод старого французского романа «Езда в остров любви» на несколько лет стал самой популярной русской книгой, произвел настоящий фурор. Потому что там проза перемежалась со стихами Тредиаковского – и это были стихи о любви. Их стали женихи читать невестам.
Василий Кириллович стал придворным поэтом Анны Иоанновны, воспевал её и её приближенных. Некоторые из них обращались с поэтом и профессором грубовато – бывало, что и поколачивали. Его даже заставили принять участие в таком жестоком придворном развлечении как свадьба в ледяном доме. Он написал для этой шутовской свадьбы грубоватые (во вкусе заказчиков) стихи.
Правда, литературная слава Тредиаковского была недолгой: вскоре его затмили Ломоносов и Сумароков, с которыми он не ладил. И уже поэма «Телемахида», слишком тяжеловесная, вызывала насмешки любителей поэзии. Екатерина Великая даже ввела для своих придворных шуточное наказание: за употребление в разговоре иностранного словца полагалось выучить наизусть шесть стихов «Телемахиды». Задача, право, нелёгкая!
В 1748 году Тредиаковский издал фундаментальный и в то же время затейливо написанный труд – «Разговор российского человека с чужестранным об ортографии». Изложение законов русской речи в форме диалога, даже спора… Издал на свои средства. Несмотря на старания подвижника, Академия отказалась печатать эту книгу. Тредиаковский мечтал, чтобы работа его была доступна «понятию простых людей», для пользы которых он «наибольше трудился». В этой книге он открыл многие законы русского языка. Например, он первым разграничил букву и звук, «звон». Он требовал чистоты произношения, говорил о необходимости чтить правила языка, которые «не имеют никакого изъятия, толь они генеральны!»
«Засмеют вас впрах», – обещал россиянину чужестранец в диалоге Тредиаковского. «Я буду им ответствовать только молчанием», – отвечал россиянин, который, несомненно, был вторым «я» автора, знавшего немало незаслуженных упреков и гонений. Такой и была его судьба – совершать открытия и терпеть насмешки.
Крашенинников-Камчатский
В тот день, когда Ломоносова и Тредиаковского произвели в профессора, Степан Петрович Крашенинников, сын петровского солдата-преображенца, стал адъюнктом Академии наук. ещё студентом он участвовал во 2‐й Камчатской экспедиции и проявил себя настоящим героем. Его заслуга – описание целебных теплых течений на реке Орон, описание реки Лены, составление рапортов о соляных источниках и слюдяных месторождениях на Байкале. Но он стремился дальше на Восток – туда, где опаснее. Стремился в неизвестность. Ведь о самом крупном российском полуострове – Камчатке – в то время наука почти ничего не знала.
В 1737 году Крашенинников на судне «Фортуна» через Охотск морем направился на Камчатку, но неподалеку от полуострова корабль выбросило на мель, команда оказались на берегу без имущества и снаряжения. По реке Большой на долбленых лодках Крашенинников поднялся вверх до Большерецкого острога и пешком продолжил путешествие по Камчатке, которую дотошно исследовал три года. Он описал четыре восточных камчатских полуострова – Шипунский, Кроноцкий, Камчатский и Озерной, образуемые ими заливы, а также несколько бухт, в том числе Авачинскую. Проследил течения рек, исследовал «горячие сопки», собрал уникальный зоологический и этнографический материал. Он исходил Камчатку вдоль и поперек, не зная устали, не боясь болезней. Его интересовали традиции и история малых народов. Он даже составил словарь языка местных жителей и целую книжицу записей об их обычаях и религии. Многие из них впервые видели европейца. Не раз Крашенинников мог погибнуть, но не сворачивал со своего пути. Самое удивительное, что его географические и этнографические описания составлены с удивительной научной прозорливостью и грамотностью. Он был исследователем от Бога.
За камчатские исследования его и произвели в адъюнкты. Степан Петрович обладал литературным даром – все его труды написаны блистательно. Одна из его работ называется «О завоевании Камчатской землицы, о бывших в разные времена от иноземцов изменах и о бунтах служивых людей». Это пример серьёзного исторического исследования, в котором Крашенинников открывал неизведанное.
Но настоящее признание пришло к выдающемуся географу нескоро: он отличался скромным характером, не умел постоять за себя. Только в 1750 году он стал профессором Академии «по кафедре истории натуральной и ботаники», а через два месяца – ещё и ректором Петербургского университета и инспектором Академической гимназии. Но жить ему оставалось меньше пяти лет. Профессор надорвал здоровье в экспедициях. Его научный подвиг – книга «Описание Земли Камчатки» – вышла в свет уже после смерти учёного. Но она принесла Крашенинникову мировое имя. Труд перевели на немецкий, английский, французский и голландский… Без преувеличений, он открыл Камчатку для науки. «Он был из числа тех, кои ни знатностью породы, ни благодеянием счастья возвышаются, но сами собою, своими качествами, своими трудами и заслугами прославляют свою породу и вечного воспоминания делают себя достойными», – писали об учёном.
Путешествия и труды Крашенинникова стали гордостью российской академии. Таковыми и остаются. Он – основоположник русской этнографической школы и великий географ, проторивший дорогу для грядущих поколений учёных.
Было у полярника Ивана Папанина – человека совсем другой эпохи, чем та, секреты который мы сегодня приоткрыли – такое присловье: «Чтоб наука не страдала». Сказано крепко. Этим правилом руководствовались русские учёные и в далеком XVIII веке. Это в духе Петра Великого!
«Может собственных Платонов»
Михаил Ломоносов – великий русский просветитель – всю жизнь, с юности, служил в Императорской Академии, в которой в то время преобладали немцы.
Он начал свой путь в науке в учебных заведениях, тесно связанных с допетровской традицией. Это и московская Славяно-греко-латинская академия (в просторечии – Спасские школы), и Киево-Могилянская академия, где Ломоносов познал богословие, древнерусскую литературу, а к физике и математике только прикоснулся.
Врата учёности
В 1735 году Михайло Ломоносов, в числе дюжины лучших учеников Спасских школ, стал студентом университета при Академии наук. С этого времени его судьба изменилась. До этого Ломоносов мечтал стать священником, богословом, а в Петербурге почувствовал вкус к светской экспериментальной науке.
Студентов поселили в каменном здании новгородской епархии на 1‐й линии Васильевского острова, которое арендовала Академия. Для них купили одежду, мебель. Ломоносов как на чудо смотрел на собственный книжный шкаф, который предоставила ему Академия.
Первым делом студентам предстояло выучить немецкий язык, на котором велись занятия почти по всем дисциплинам. Регулярные лекции начались в январе 1736 года. Профессор Георг Крафт познакомил Ломоносова с экспериментальной физикой, один из первых русских учёных Василий Адодуров преподавал студентам математику. Ломоносов в то время «отменную оказал склонность к экспериментальной физике, химии и минералогии», как свидетельствовал его первый биограф Михаил Веревкин.
Но учеба в Петербурге продолжалась недолго – меньше трех месяцев. Уже в марте его, в числе троих самых способных студентов Академии, послали в Германию, в Марбургский университет, для изучения основ горного дела, металлургии, химии и других наук. Вместе с 24‐летним Ломоносовым там оказались 16‐летний Дмитрий Виноградов (будущий первооткрыватель русского фарфора) и 18‐летний Густав Райзер, который станет горным инженером. Ломоносов был старше, опытнее, физически сильнее товарищей, к тому же его отличало рвение, желание поскорее раскрыть «врата учёности» и «благородная упрямка», которая помогала перетерпеть и преодолеть неизбежные невзгоды чужбины.
В начале лета 1841 года, вернувшись после европейских скитаний по университетам, Ломоносов сразу поступил на службу в Академию: первое время он занимался составлением каталога минералогического собрания Кунсткамеры, приобщаясь к начинанию Петра Великого, перед которым преклонялся, и переводил научные сочинения «с латинского, немецкого и французского на российский». Его первой крупной научной работой стал «Каталог камней и окаменелостей Минерального кабинета Петербургской Академии наук». В январе 1942 года Ломоносов получил звание адъюнкта (то есть помощника профессора) с жалованием 360 рублей в год. При дворе его уже знали как талантливого стихотворца. Среди многочисленных немцев он стал четвертым адъюнктом-великороссом – после своего учителя, математика и лингвиста Адодурова, философа и государственного деятеля Григория Теплова и Василия Тредиаковского, поэта и филолога. В те годы Ломоносов создал работы, на много лет определившие развитие точной науки в России – «Элементы математической химии» (1741), «О сцеплении и расположении физических монад» (1743), «О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном» (1744), «Физические размышления о причинах теплоты и холода» (1744). В то же время – продолжал писать стихи и начал заниматься риторикой и российской грамматикой. Через три года Ломоносов и Тредиаковский первыми из «природных россиян» были избраны членами Академии с окладом 660 рублей. Вскоре Ломоносов перевел с латыни на русский учебный трактат «Вольфианская экспериментальная физика» и в 1746 году, с одобрения Сената, первым из учёных начал читать лекции по физике на русском языке.

Михаил Ломоносов
Наиболее ярко в те годы Ломоносов проявил себя на поприще химии. В отличие от большинства учёных того времени, считавших химию, по старинной традиции, искусством, русский исследователь настаивал на её научном определении. Главной заботой Ломоносова стало в те годы создание химической лаборатории. Её удалось построить и оснастить к октябрю 1748 года.
Там Ломоносов проводил эксперименты по химии и технологии силикатов, по теории растворов, обжигу металлов, а также делал пробы руд. Всего он произвел в лаборатории более 4 тысяч опытов. В химической лаборатории Ломоносов в 1752 году первым в мире прочитал студентам академического университета курс физической химии.
«Делает честь Академии»
Он был истинным первооткрывателем. Ломоносов сконструировал несколько уникальных научных приборов – «ночезрительную трубу», «горизонтоскоп», телескоп. В 1741 году он предложил проект «катоптрико-диоптрического зажигательного инструмента» – своеобразной солнечной печи, позволявшей получать высокую температуру. В 1748 году в одном из писем к выдающемуся швейцарскому учёному Леонарду Эйлеру, почетному члену Петербургской Академии, Ломоносов высказал свое знаменитое предположение: «Сколько у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому». Позднее закон сохранения массы вещества экспериментально докажет французский естествоиспытатель Антуан Лавуазье. Мы чаще всего так его и называем – «законом Ломоносова-Лавуазье». Эйлер, высоко ценивший Ломоносова как физика, называл его «гениальным человеком, который своими познаниями делает честь не только Императорской Академии наук, но и всему его народу».
Настоящая слава Ломоносова началась в 1749 году, когда на торжественном собрании Академии наук он произнес «Слово похвальное императрице Елизавете Петровне», в котором подчеркивал преемственность её политики с курсом великого отца и провозглашал: «Надеемся, что в правление твоё будешь ты развивать науку и искусство, чтобы русская земля родила новых Платонов и Ньютонов». Этот панегирик не раз перепечатывался и на русском, и на латыни. После этого каждая новая ода Ломоносова или стихотворная надпись к иллюминациям в честь императрицы становилась событием придворной жизни. Бывало, что за торжественные стихи во славу монархини, которая «изволила расширять науки», он, ко всеобщей зависти, получал вознаграждение, превышавшее трехлетнее жалованье академика.
В 1757 году Ломоносов сумел построить собственную усадьбу с садом и прудом на набережной Мойки. В своём доме он обустроил домашнюю лабораторию и астрономическую обсерваторию, в которой в мае 1761 года совершил открытие, определив, что «планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою». В пожалованной Ломоносову мызе Усть-Рудица Копорского уезда, неподалёку от Ораниенбаума, он наладил производство цветного стекла и смальты, создавал мозаики, главной из которых стала «Полтавская баталия».
Несколько лет Ломоносов руководил академическим университетом и гимназией – и, приняв эти учебные заведения в плачевном состоянии, сделал все, чтобы они «состояли в хорошем порядке». Питомцами Академии, учениками Ломоносова стали талантливые русские учёные – астрономы Степан Румовский и Пётр Иноходцев, математик и механик Семен Котельников, физиолог Алексей Протасов, географ и естествоиспытатель Иван Лепехин. Цвет Академии второй половины XVIII века. Те самые «собственные Ньютоны» – свои, не приезжие. Каждый студент в ломоносовские времена был обут и одет, а кормили их мясом, осетриной, белужиной, пирогами да ухой: наш академик знал, что «голодное брюхо к учению глухо». О значении Ломоносова для этого учебного заведения говорит красноречивый факт: вскоре после смерти великого просветителя Университет при Петербургской Академии наук просто прекратил свое существование.
Из многих биографических исследований о Ломоносове можно сделать вывод, что судьба просветителя в Академии складывалась чуть ли не трагически. Конфликты, опалы, непонимание современников… Повод к такой трактовке давал и сам академик. Можно вспомнить его «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для академии, быв много раз прежде за тем же». Самое название говорит о многом. Речь идет о новом регламенте для Академии, который составил Ломоносов. Кроме прочего, там содержалась просьба закрепить за учёными «мызу», имение, в котором можно было бы и отдыхать, и производить физические наблюдения. Проект не одобрили – но не будем забывать, что воплотить Ломоносову удалось гораздо больше. Просветитель нашёл могущественных меценатов – Ивана Шувалова, Петра Шувалова, Михаила Воронцова. Да и сама императрица Елизавета Петровна поддерживала его начинания, а Екатерина II удостоила учёного личного визита в его усадьбу. Недаром недоброжелатели упрекали Ломоносова в излишнем рвении на ниве выпрашивания финансов. «Казну только разорял», – по легенде, эти слова произнес после смерти просветителя цесаревич, будущий император Павел Петрович, не понимавший значения Ломоносова для русской науки, словесности, искусства.
Против немецкой монополии
В 1742 году, вскоре после воцарения Елизаветы Петровны, «токарь Петра Великого», известный механик-изобретатель Андрей Нартов подал в Сенат «доношение», направленное против финансовых злоупотреблений секретаря Академии Ивана (Иоганна) Шумахера, и вообще – против немецкой «монополии» на руководство российской наукой. Нартов напоминал, что Пётр «повелел учредить Академию не для одних чужестранцев, но паче для своих подданных». Схожей точки зрения придерживался и Ломоносов. И не он один. Годы спустя в таком же духе рассуждал канцлер Никита Панин: «Какая из того польза и слава отечеству приобретена быть может что десять или двадцать человек иностранцев, созванные за великие деньги, будут писать на языке, весьма не многим известном? Если бы крымский хан дал цену и к себе таких людей призвал, они б и туда поехали и там писать бы стали».
Трудно упрекнуть Ломоносова в заведомых антинемецких настроениях. Его единственной женой стала урожденная Елизавета-Кристина Цильх, дочь марбургского пивовара. Соратником и приятелем русского учёного был физик Георг Вильгельм Рихман, самозабвенно исследовавший природу электричества. Он погиб во время опыта: молния прошла по проводам к специальному прибору («электрическому указателю»), от которого отделился тусклый огненный шар и ударил учёного в лоб. Заземления, разумеется, не было, ведь перед Рихманом стояла задача «поймать» молнию, а не упустить её. Ломоносов писал: «Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет». Уважая настоящих исследователей германского происхождения, смиряться с немецким засильем в Академии Ломоносов не желал: видел, что далеко не все учёные, прибывшие из Европы, могут достичь научных высот, и, подобно Петру I, считал главной задачей Академии просвещение России.
Наиболее принципиальный спор Ломоносова с «немцами на русской академической службе» связан с первыми шагами российской исторической науки. Всё началось в стенах Академии с обсуждения торжественной речи Герарда Фридриха Миллера «Происхождение народа и имени российского», которую немец-академик должен был прочитать перед императрицей. Опираясь на исследования одного из первых действительных членов Петербургской академии – Готлиба Байера, к тому времени покойного, Миллер пришел к выводу, что варяги, приглашенные на княжение в 862 году в Ладогу, были норманнами. И понятие «Русь» – скандинавского происхождения. Бурное обсуждение этой теории в стенах Академии продолжалось целый год. «Каких же не было шумов, браней и почти драк!» – вспоминал Ломоносов. Он и стал главным оппонентом Миллера, последовательно разбивая «норманнскую теорию» происхождения русской государственности – и устно, и в докладах, подчас – давая волю темпераменту. «Против всех сих неосновательных Бейеро-Миллеровых догадок имею я облак свидетелей, которые показывают, что варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славенского, говорили языком славенским, происходили от древних роксолан или россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною», – утверждал Ломоносов. Власть поддержала русского академика. Миллера лишили профессорского звания, а Ломоносов вскоре приступил к написанию «Российской истории», начав с древности, с истоков славянства. Незавершенный труд академика, в котором он довел историю до княжения Ярослава Мудрого, был опубликован в 1766 году, вскоре после смерти автора. Древность и самобытность славянской государственности он отстаивал последовательно.
Историк Сергей Соловьев писал, рассуждая о елизаветинской эпохе: «У современников была привычка дурно отзываться об Академии, говорить, что она наполнена иностранцами. Забывали, что в Академии находится русский учёный, который один стоит многих-многих других, и которого знаменитая деятельность тесно неразрывно была соединена с Академией. Ломоносов – без Академии, Академия без Ломоносова были немыслимы». Он оказался сильнее и судьбы, которая по рождению приговорила его к северному рыбацкому промыслу, и немецкой академической партии, которая не принимала задиристого русского учёного.
«Будет вам медведя дразнить»
Долгие годы соседом Ломоносова был садовник Академии Иоганн Штурм, кроме прочего, староста василеостровской евангелической церкви. Господин Штурм не только ухаживал за цветами, но и ссужал деньги под процент и отличался склонностью к доносительству. Отношения между соседями напоминали коммунальные ссоры 1930‐х годов в стиле рассказов Михаила Зощенко. Штурм натравливал своих собак на ломоносовских кур, сливал нечистоты в клумбу соседа. Ломоносов отвечал кулаками.
Как-то в день своего рождения садовник устроил пирушку. Перепившиеся гости, горланя песни, зашли в сад Ломоносова. Учёный работал в своём кабинете. Шум и выкрики незваных гостей разъярили его. Сначала из ломоносовского окна в Штурма и его друзей полетели кочаны капусты, а потом на пороге появился сам Михайло Васильевич с криком: «Будет вам медведя дразнить!» Он переколотил всю компанию. Особенно досталось тестю Штурма, переводчику Ивану Грове. Судя по доносу Штурма, потасовка продолжилась и когда гости отступили на свою территорию: «Я и моя зупруга с балкон поливать его водами и случайно может быть ронялись цветочными горшками». Ломоносов обвинял их в порче своего имущества и воровстве, но ничего доказать ему не удалось. Пришлось платить штраф за рукоприкладство.