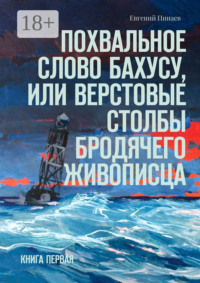Kitabı oxu: «Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга первая», səhifə 5
Егор Иваныч ответил осторожно.
Не нажить бы вам… тебе, Миша, неприятностей, – сказал, задумчиво похрумкивая огурчиком. – С одной стороны, ходят тут у нас разные слухи о докладе Хрущёва на съезде. Разоблачение культа личности и всё такое. С другой стороны, время-то больно нервное. Мутное, как туман. Я бы на вашем месте погодил. Вот оперитесь – тогда…
Он налил себе и плеснул нам.
– Да, туман. Можно и заблудиться, и шею сломать в колдобине. Вы бы что-нибудь такое… безобидное выбрали. Тот, нынешний Репин, что жил у меня, собирался, говоришь, изобразить другого художника, Денисова-Уральского. Вот и вы… Бережёного бог бережёт. Я вот торчу на этой каменюке, наблюдаю погоду и шлю сводки в Молотов и Свердловск. В ус не дую, ребята. Работа тихая, хотя и ответственная. А с картинами этими ничего не поймёшь: сегодня, к примеру, Сталин в чести, а завтра уже и Ленина обесчестят. Вашему брату, чтоб впросак не попасть, надо держать нос по ветру.
– При нашей жизни не обесчестят, – сказал Петька, – а эти, – он кивнул на Егора, – эти подрастут и додумаются. Да и нам, Мишка, пора думать о теме для диплома.
За окном перестала шуршать капель. Даже солнышко заглянуло в окно.
– Тебе, Петроний, я тему могу хоть сейчас предложить: пейзажик здешний с исторической революционной подоплёкой. Спустись разок хотя бы к роднику. Там на скале сохранилась старая надпись. Часть камня, правда, обвалилась, но и того, что осталось, достаточно для дипломного эскиза.
Я достал с лежанки альбом и прочёл переписанные строчки:
– «Эвген – Полтава. Интернацион. группа политссыльн. Пролетар. всех стран, соединяйтесь!!! Алиш – Шушин. Мита – Тифлис. Миша – Кинешма. Аршик – Баку». Всё! Коли в этих местах людей гноили при всех правителях, выбери самое безобидное.
– Миша, – Зоя Петровна, молча слушавшая наш разговор, тоже вмешалась в него, – а что вы имеете против товарища Сталина? Мой-то Егор верно сказал про туман. Трудно ли сбиться с дороги? А что мы знаем? С кем выиграли войну, с кем всего понастроили? Да, в наших краях полно «указников». Враги народа, не враги народа, – кто их разберет!
Спорить не хотелось. Даже не спорить, просто говорить об этом, но водка развязала язык.
– Я до Кишинёва учился, наверное, в том же училище, что и здешний… Репин. Однажды в журнале «Огонёк» тиснули заметку о нашем училище. О том, что в просторных светлых залах учатся и постигают… ну и в том же духе. Словом, чушь на постном масле! Все, мол, условия! Живи, учись – не хочу! И до того меня та заметка разобрала, что я взял да и отправил письмо вождю всех стран и народов – разберитесь! Сунул конверт в ящик на главпочтамте и стал ждать ответа от вождя нации. Нет его, я и забыть успел, а меня – ба-бах! Вызывают в обком.
– Так вот ты почему оказался в Кишинёве! – сообразил Петька.
– Так, да не совсем так… – замялся я, занятый всё тем же: говорить – не говорить до конца? – Сначала директор наш, божий одуванчик Павел Петрович засуетился. С торжеством «эдак вот» – его словечко – сообщил мне приятную новость и «эдак вот» посмотрел. Мол, допрыгался, голубчик! Придёшь, говорит, на проходной назовёшься – дадут пропуск, и шагай, мол, на эшафот. Как на эшафот меня и провожали ребята. Все были уверены, что вышибут с треском, но обошлось. Дама, некто Шарикова, меня песочила. Прямо заявила, что письмо моё с почтамта никуда не ушло. Сразу передали в обком для разбирательства. Не орала, но сверлила меня-я… И голос, как у великого инквизитора Торквемады! Да почему, да как ты посмел, да… В общем, пообещала, что если не угомонюсь, то будут приняты меры.
– И дёрнуло же тебя, Миша!.. – вздохнул Егор Иваныч.
– Дёрнуло, – согласился я. – А после – общеучилищное собрание. Не из-за меня. Вообще. Комсомольское. Отчёт о том, как у нас всё здорово и хорошо. Я снова вылез. Сказал, не училище у нас – болото. Главное, коммунизм зацепил. Формальностью назвал, а не маяком, не звездой, зовущей в будущее, а способом обделывать свои делишки. Поддержали меня только Сашка Задорин и Витька Абаев, зато парторг обрушился… Назвал выступление аполитичным, меня – оппортунистом. Я закусил удила – наехало! Снова взял слово и – на него. Вы, Михаил Иваныч… забыл я уже фамилию и должность – в военном мундире ходил… вы, говорю, сидите вчетвером в своей канцелярии, на двух метрах ютитесь, шушукаетесь и живого слова боитесь, а мы, может, больше вас к коммунизму стремимся, хотя тоже ютимся на нескольких квадратах, всего-то в одной комнате и зале. Директора помянул. Теперь и Паша поднялся на дыбы: ты нас оскорбил, ты меня оскорбил, ты товарищей своих оскорбил! И снова парторг начал бодать. Да, оскорбил старика директора, а он столько сделал для вас. Влепили мне строгача, А Павел наш Петрович предложил даже устроить надзор за всеми дипломниками, а за Гараевым – особо: очень он ненадёжен в политическом отношении. Ну, думаю, держись теперь, Мишка: чуть что – и по жопе мешалкой… Простите, Зоя Петровна, сорвалось!
– Чего уж там!… – улыбнулась она. – И чем же закончилось?
– Тогда и начал подумывать, не плюнуть ли. Мол, ну их в болото! Возьмут и прямо на дипломе прижмут к ногтю.
Егор Иваныч чему-то улыбался, Зоя Петровна хмурилась, Петька тоже поглядывал как-то странно. Спросил, и никто, мол, не капнул на тебя?
– Может, и капнул кто, да тут март подоспел. Лучший друг студентов отдал концы – до меня ли? А я вразнос пошёл. Запил, загулял, стал пропускать занятия. Это уже осенью случилось, на пятом курсе. Раньше такое за мной тоже замечалось, но не так резко. А педагог мой Фёдор Шмелёв всё и припомнил. «Забыл, – говорит, – наш уговор? Если пропустишь хоть одно занятие, можешь больше не появляться.» «Уговор, – отвечаю, – помню. Можно забирать документы?» «Забирай!» – и кормой ко мне. Документы я забрал. Вернулся в аудиторию… мы тогда писали обнажённую натуру, в рост. Пнул я ни в чём не повинный холст, повернулся и… оказался в Мурмансельди, а потом – в Кишинёве.
– А как же товарищи? Не отговаривали? – спросил Егор Иваныч, теребя пегую бородку.
– Не без этого! – бодро ответил я. – Шума было достаточно. Такую агитацию развели, а потом отступились. Поняли, что дурня ничем не прошибёшь. Проводы устроили. Очнулся где-то за Молотовым, на багажной полке с куском колбасы в пасти…
Слушатели мои посмеялись, но как-то грустно, и я, чтобы разрядить обстановку, сказал, что был я в ту пору большим оптимистом, увлекался Ромен Ролланом, и, отправляясь в путь, отыскал у него и вызубрил самый подходящий в ту пору девиз.
– Даже два, – вспомнил я. – Первый – на вечную тему: «Что есть истина?» Он универсален и пригоден на все времена: «Заблуждение на пути к живой истине плодотворнее истины мёртвой». А второй… второй тоже помню дословно: «Да здравствует жизнь! Да здравствует радость! Да здравствует борьба с нашей судьбой! Да здравствует любовь, переполняющая сердце! Да здравствует дружба, согревающая нашу веру, – дружба, которая слаще любви! Да здравствует день! Да здравствует ночь! Слава солнцу!»
Петька хихикнул, а Егор Иваныч развёл руками:
– Лихо! – выдохнул он. – Хоть с трибуны мавзолея! А как, Миша, обстоит с любовью? Тоже «да здравствует»?
– У Петрония «да здравствует», а у меня – захирела. Может, тлеет ещё, но за хребтом уральским. Отсюда не видно.
– Ну, если тлеет, раздуешь – из искры возгорится пламя, так? А пламя всегда видно. Пламя – если оно пламя, а не копоть – обязано жечь и греть, – сделал вывод отшельник.
Уже совсем распогодилось. Капель с крыши звонко падала в бочку.
Зоя Петровна поднялась и, забрав Егора («Нечего парню делать в вашей компании!»), отправилась по грибы.
– Сооружу вам жарёху, да и отправлюсь восвояси, – сказала из двери.
Я предложил достать нашу бутылку, но Егор Иваныч отказался. Мол, когда и вы отправитесь восвояси, тогда и устроим банкет. Петька тоже начал готовить этюдник и вскоре исчез за часовней. Тогда и я покинул избушку, оставаясь при своих мыслях о Мурманске, вспоминая Витьку и Сашку, а заодно и «метафизику» тех дней. Знал я, что сегодня с работой ничего не получится. Выпив хотя бы сто грамм, я никогда не брался за кисти. Алкоголь не помощник в любом деле. На «Онеге» был сухой закон, но парни ухитрялись протаскивать спирт в яичной скорлупе. Прокалывали ее, вытряхивали содержимое, а потом шприцем закачивали спирт. Трудоёмкий процесс требовал сноровки, но, как видно, цель оправдывала средства. Я всегда отказывался от угощения: палуба требовала бдения и трезвой головы. Сейчас тоже не до живописи. Предпочёл ей прогулку к нижним скалам, где имелось любимое местечко. Там, между каменных стен, высился одинокий монолит, названный мною «Чёртовым пальцем».
– Да здравствует дождь!.. – бормотал я, съезжая по мокрому травянистому склону. – Да здравствуют туман и обман… я сам обманываться рад… Да здравствуют иллюзии, черт их дери, иллюзии, дарующие ощущение реальности! Да, только так. Да здравствует погоня… За чем?
Тут я поскользнулся – шлёпнулся и последние метры проехал на заднице.
Тень от скал лежала выше. Солнце здесь высушило траву. Подниматься не хотелось. Некоторое время я лежал на спине, следя за клочковатыми облаками, что цеплялись почти за вершину Полюда. Затем перевернулся на живот. Редкие капли ещё сверкали на травинках, но трудяги-муравьи уже волокли куда-то прутики и хвою. И пёрышко! Зачем? Муравьихе на шляпку?
У лесной чащобы, в зарослях папоротника, торкнулась и взлетела тетёрка. Перемахнула поляну – исчезла. Я проводил её взглядом – стало не по себе за вчерашнюю промашку. Вернее, наоборот, за то, что не промазал. Вчера Егор Иваныч дал мне ружье и два патрона. «Может, подстрелишь что-нибудь съедобное», – сказал, вручая оружие. До родника я не добрался – залез в бурелом. Вдруг за спиной что-то вспорхнуло, зашелестело, промчалось над головой. Я выстрелил влёт, не целясь – навскидку. Птица, цепляясь за ветки, свалилась в кусты. Н-да, у сильного всегда бессильный виноват. И несъедобный дятел. До того расстроился, что задрожали руки, и когда я вспугнул косача, обрадовался, что в стволе не оказалось заряда.
Пойду-ка я в своё жилье,
да заварю я чай…
Я всё отпраздновал своё,
Прощай, старик, прощай!
Вадим Шефнер
Припасы, несмотря на жёсткую экономию, подходили к концу. Рацион стал, в основном, грибным. Похлёбка – с одной картофелиной и горсткой крупы, все остальное – зелень, травка всякая. Конечно, Егор Иваныч предлагал и угощал, но объедать хозяина, которому продукты доставлялись не на вертолёте, было стыдно. Ладно ещё, что последние дни, проведённые под гостеприимным кровом, оказались самыми плодотворными и удачными.
Но пришёл день, когда мы вскинули на спины опустевшие рюкзаки, подняли этюдники и сушилку, набитую сухими и свежими этюдами. «Наша» бутылка была выпита накануне, а утром прощального дня, обнялись мы с Егором Иванычем и…
И густой сумрачный лес точно проглотил нас.
Спуск иногда бывает тяжелее подъёма. На этот раз обошлось. Дожди не шли всю последнюю неделю, глина высохла, так что к подошве Полюда спустились быстро и без потерь. И снова дебри и бурелом. Прежней тропой не воспользовались – двинули напрямки, чтобы выйти к Ветлану. Как матрос-партизан Железняк, мы шли на Бахари, а вышли к Петрунихе. Зато оказались напротив Ветлана. Первым делом разжились продуктами, – перехватили продавщицу, уже закрывавшую магазин. И дальше повезло. Я сел писать красавицу-скалу, да что-то не заладилось: сколько ни старался, всё получалось не то, чего добивался. Однако мужику и бабе, подошедшим взглянуть, картинка поглянулась. Разговорились. Спросили, откуда, мол, объявился в этих краях такой «фотограф»?
– Из Молдавии мы, – ответил, заканчивая работу. – Туда и возвращаемся.
– У молдаван, наверно, зима-то сырая? – вдруг поинтересовался мужик.
– Да, – говорю, – промозглая.
– У нас с мороза краснеют, у вас синеют, – засмеялся он.
А баба, узнав, что нам нужно в Красновишерск, предложила подвезти. На чём бы, думаю? А она подогнала узенькую… пирогу! Стоя подогнала, работая шестом! Мы усомнились поначалу: уж больно ненадёжное плавсредство. Поднимет ли трёх парней, да ещё с грузом?
Петька полез первым. Неловкое движение – и лодка, кажется, готова тут же перевернуться.
– На то и название ей – душегубка, – улыбнулась тётка. – Моя долблёнка, наверно, последняя из таковских – из цельного, значитца, дерева. Теперича все больше из трёх досок ладят.
В общем, с опаской, стараясь не дышать, но погрузились.
Тётка отложила шест, отгребла кормовиком на стремнину и – что значит течение! – помчались мы, как борзая за лисой или зайцем.
Тётка оказалась говорливой.
Варягов не заинтересовал рассказ её о местной достопримечательности – «бумажном» комбинате, и она тут же поведала о делах, видимо, привычных для этих мест, то есть о беглых заключённых. О них мы слышали уже и от студентов-туристов, и от Егора Иваныча. Она и про «душегубку» свою упомянула лишь для того, чтобы поговорить о здешних страстях-мордастях. Мол, пользуется лодкой не только для быстроты передвижения. Нет, «она и чичас ишо востра на ноги». Просто не ходит берегом «из остерёгу». Беглецы, по её словам, «предпочитают баб резать и раздевать».
– В женской одёвке ловко маскировать свою мужичью сущность, – поделилась она дедуктивными соображениями. – В платке да платье можно на пароход проникнуть или тем же берегом прогуляться, пока охрана по лесам шарит. И уходят ведь! Многих «беглянок» аж в Молотовом лавливали!
Высадила она пассажиров у кирпичного завода, откуда «до пристаней бегает автобус». Расплатились с ней моим «видиком» Ветлана. Осталась довольна.
Автобуса ждать не пришлось: он будто специально подкатил за нами. Вошли – сразу и отчалил, затарахтел по единственной здесь, кажись, длинной улице с неприметными строениями и соснами вдоль тротуаров. Они и во дворах росли. В городском саду тоже сплошной сосняк, может, и с грибами-маслятами.
Восвояси отплыли тем же вечером. До Тюлькино – на пассажирской барже, набитой битком. В Тюлькино нагрянули солдаты с собаками. Началась повальная проверка документов. Как в песенке из какого-то фильма: «Секира-мотыга – клей столярный, Гитлер был маляр бездарный. Секира-мотыга – слева, справа, ночью – обыск, днём – облава. Секира-мотыга – там и тут – скоро Гитлеру капут!». Как бы и нам «капут» не сделали. Не успел подумать, ко мне овчарка направилась. Чем-то не понравился служебной псине. Подошла и давай приглядываться и обнюхивать. А «красные» сразу и прицепились: залезли в рюкзак, заглянули в этюдник. Заодно и Петьку ошмонали. Фамилия не понравилась: «Что за Мудак на Вишере объявился?!» К счастью, всё обошлось. Только покидали в рюкзаки выброшенный скарб, и я, углядев на катере, тащившем баржу, пыскорского Тольку Проскурякова, сразу же перевёл свою команду к нему. За встречу, само собой, угостились, как мы с ним когда-то и «за прощанье». Я завернул домой, чтобы поведать родителям о своих планах насчёт Мурманска. Толька, прослышав о моих намерениях, зазвал меня к себе для выяснения оных. Налил глаза и зарыдал – до того ему захотелось со мной на Мурман! Но кто ж ему, вольной птахе, мешал лететь в дальние, но чужие края?
Сейчас он тех слез не вспоминал. Порасспросил меня о тамошней рыбалке и сказал, вздохнув, что здесь, на реках, всё своё да привычное. А там, может, жизнь бы тоже не задалась, как и у тебя, Мишка. И что странно, слова его эти растравили мне душу. Уж не катерок ли его стал тому причиной? На «Невском» то же самое было. Не пароход, да вроде парохода! И кольнуло меня сожаление: «Зачем поспешил уволиться?! Не рано ли бросил якорь?!»
Жизнь, в самом прямом смысле этого слова, драма, ибо она есть жестокая борьба с вещами (включая и наш характер), борьба за то, чтобы быть действительно тем, что содержится в нашем проекте.
Хосе Ортега-и-Гассет
Я потрошил для растопки старые номера «Комсомолки» и наткнулся на глубокомысленное рассуждение о том, что похмелье бывает разное. Одни, мол, поутру недоуменно разглядывают трупы канареек, выжатых в коктейль вместо лимонов, другие начинают спасать мир а ля Брюс Уиллис. Я тоже находился в этом горестном состоянии, которому соответствовала фотография в той же газете: ледокол взламывал белое поле, оставляя за кормой разводье в виде бутылки. Снимок как бы олицетворял мой вчерашний день. Чтобы избавить скукоженную душу и отвратительные ассоциации, вызванные похмельем, снимком и подписью под ним: «Абсолютный двигатель искусства», принялся за статейку, расположенную ниже. Хотя и понимал, что «жёлтая» пресса не откроет ничего нового, но, думал я, всё-таки отвлечёт мой несостоявшийся «проект» от жажды и мрачных мыслей.
«Называется выставка «Замки для «новых русских», – читал я, расправляя измятый кусок газеты. – «Новые русские», по идее устроителей, люди разные. Одни цепями гремят, другие стали более цивилизованными, с пальмы слезли и знают несколько художников помимо Шишкина и Левитана. Для первых (которые в цепях) оборудована левая стенка с берёзчатыми пейзажиками и сиренью в позолоченной раме. Для других – стенка правая, «Воздушные замки», с работами в стиле популярных художников двадцатого века. Тут вам и женщина, у которой вместо грудей – птичьи гнезда, и загадочные дамы с веерами, и вполне импрессионистские балерины. Что хочешь, то и покупай, потребитель всегда прав, о вкусах не спорят».
Статейку я уже читал. Речь в ней, помнится, шла о том, что реклама понемногу оттесняет современную живопись, и что искусству нынче самому нужна реклама: реклама на уровне «купите меня!»
Этот искусствоведческий опус надо всенепременно показать Дрискину, решил я. Мол, пейзажик мой ты, гад такой, писсюарный, отклонил из-за простоты и пустоты пространства, так скажи, олигарх унитазный, что тебе надобно! Цыпленки тоже хочут пить. Потребитель всегда прав? Ладненько… Заказывай и потребляй! Ну-ка, освежу память, – может, газетка подкинет идею, как выжать деньгу из дрискиной мошны?
«Притворившись этим самым потребителем, – читал я и мотал на ус, – («Понимаете, меня друзья попросили, они как раз загородный домик обставляют…»), спрашиваю, к какой стенке чаще подходят. Галерейщик мнётся:
– Да вы понимаете, кто как. Вот недавно приехал один, подскочил к левой стенке, присмотрелся. Потом выложил две штуки за берёзки и уехал. А у ваших друзей что за домик?
Я долго вру про комнату с камином и получаю рекомендации:
– Ну, вот эта работа. Шелкография, всего триста долларов. В Японии оригинал этой художницы идёт тысяч за двенадцать».
У Прохора Прохорыча, кровососа моего и соседа, тоже имеется комната с камином, но слез ли он с пальмы или всё ещё сбивает башкой кокосовые орехи? Надо спросить, а вдруг он уже спустился до середины ствола. Нет, похоже всё-таки слез, хотя и остался в чём-то… Как тут сказано? «А „новые русские“… Они же как дети. Им сказано, что „Ролекс“ – это круто, вот они и натирают себе запястья алмазами». Гм, картинки мои, конечно, не алмазы, и пусть Проша купил их, чтобы подсобить соседу, оказавшемуся не чуждым живописи, финансами (одно это уже говорит, унитаз его проглоти, о некоторой чуткости бизнес-сердца!), зато с пальмой и кокосами Прохор Прохорыч расстался и созрел для бара, а он у него – полная чаша! Слиться б сейчас в экстазе с его содержимым, припасть устами, испить из чаши той, хваля Бахуса и вознося молитвы за олигарха. Но так уж устроен мир, что не укусишь близкий локоть. И что наша жизнь? Игра в кошки-мышки с обстоятельствами, а те чаще всего играют не на твоей стороне. И потому, Михал-Ваныч, как сказано в книге книг, во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастия размышляй. Ибо сказано там же, что праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. Отсюда и вывод, сделанный мудрым Екклесиастом: «И это – суета!»
Этих газет хоть не читай. Сплошная суета! На крупицу истины – груда навоза. И почему мистеру Дрискину не явиться сейчас в своё имение, почему бы ему не посетить цитадель? Похмелье тем уже отвратительно, что действует угнетающе, как инфракрасное излучение, порождаемое жестоким штормом. Если бы сейчас добавить глоток… А потом? Да то же состояние. Как затяжной прыжок: когда-нибудь всё равно придётся дёрнуть за кольцо, чтобы остановить падение в бездну и закачаться на стропах, благополучно поплёвывая вниз. Но я не парашютист. Я камень, которому суждено грохнуться, описав эту… кривую параболу. В полёте – счастье окрылённости, в падении…
– … несчастие похмелья, – подсказал Мушкет. – Я, Хозяин, недавно Канта штудировал и наткнулся на такое: «Всякое ложное искусство, всякое суемудрие длится положенное ему время, так как в конце концов оно разрушает само себя, и высшая точка его развития есть вместе с тем время его крушения».
– Ты о похмелье, что ли, бормочешь?
– Да хоть и о нем. «Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь, а за всё отвечает серебро». Понял, Хозяин? А потому «даже в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого», а иди-ка ты в дом его, который именуешь ты цитаделью, иди, Хозяин, к охраннику Дрискина Сёме, и ублаготворит он самогоном глотку твою и чрево твоё, ибо как сказано Екклесиастом, которым ты часто оправдываешь поступки свои, «время плакать, и время смеяться, время сетовать, и время плясать», что означает одно – всему своё время: ищите и обрящете.
– Дивлюсь мудрости твоей, верный Пёс! – воскликнул я, поспешно натягивая пимы и ватник, но замедляя и останавливая бег свой за воротами: «Нет, брат, пора дёргать кольцо! Земля близко – можешь хряпнуться. И права вечная книга: „Время собирать бутылки, и время выбрасывать их!“ Я прибыл на свою станцию. Дальше тупик, а коли так…»
Я перевёл дух и повернул назад.
У своих ворот остановился и потрогал ржавую подкову, прибитую к стояку прежним хозяином, потом скомкал и растоптал клок газеты (зачем брал с собой: чтобы показать Сёме?) со статейкой. К чёрту! Мир уже не тот. Мир повернулся на сто восемьдесят градусов. Белое стало чёрным, чёрное – белым, солнце встаёт на западе, садится на востоке, газеты развлекают обывателя пошлыми анекдотами и фотографиями голых девиц, для которых целомудрие – нонсенс, «безопасный секс» и камасутра – это высшее достижение демократии, а вся мудрость жизни заключается в подписи, которую поместила под своим изображением в той же «Комсомолке» одна из таких девок: «Моему другу больше всего нравятся во мне мои бёдра». А ведь пели же люди: «Мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид». Во как! И да простят меня ревнители чистоты «великого и могучего»! Клянусь, я солидарен с ревнителями его чистоты, но коли свободная пресса позволяет себе выражения в стиле «весомо, грубо, зримо», то уж позвольте и мне высказаться (довели до белого каления бедного пенсионера!) в духе писателя Юзефа Алешковского: не друг он энтой шалашовки – простите меня ещё раз, поймите и простите! – а пошлый и заурядный ё… рь! И не бёдра у неё в данном конкретном случае, а ляжки! И газете, которая ловит подписчиков на срамной крючок, место в печке, сортире или на помойке!
Уф-ф, даже пот выступил от великой огорчительности, и я окончательно протрезвел, потому как после каления жар негодования выжимает воду изо всех пор потребителя газетно-сплéтенного чтива. Можно не читать, скажете? Можно, но есть потребность узнать, чем живёт страна. Заглянешь и лишний раз убеждаешься – тухлятиной пробавляется люд, а то, что посеяно, то и жнёшь. Ищешь разумное, доброе, вечное, а тебя из этого ушата – помоями! Разве не взбесишься?
Так что же «содержится в нашем проекте»?! Но «проект», по утверждению досточтимого дона Хосе, скрыт от нас. Скрыт! Так-то вот. Значит, чтобы вскрыть его, то бишь осознать своё предназначение, свой жизненный удел и предел, надо обладать особой прозорливостью: угадать свой «проект» и поверить в него. Примеры тому мне известны. Два, по крайней мере. Это Вэ Вэ Конецкий и друг Командор. Первый жёстко заявил об этом в своём творчестве. Он не знает половинчатых решений. Как и Командор, впрочем, которого я слишком хорошо знаю по жизни. Но «слишком» здесь неуместно. Это слово предполагает некий излишек, а лишнего в человеке не бывает, если он до конца верен своим принципам и до конца держит эту линию всегда и во всем. А у тебя, мон шер, принципов – с гулькин нос. За «две штуки баксов» ты не только отдашь готовые «берёзки», но и новые намалюешь. И не только их – и осинки, и сосёнки, и водичку с ряской.
Стопинг, Мишка! Стопори ход, Михал-Ваныч! К чёрту эти сопли! Выбросить их! Все выбросить! И… дышите глубже – вы взволнованы. Успокоились? Теперь входите в свою избушку на курьих ножках, хлебните капустного рассола и заварите чаю покрепче, чтобы окончательно привести мозги в меридиан.
Сказано – сделано.
Прихлёбывая сладкую и крепкую заварку и осторожненько эдак раскладывая всё по полочкам, я решил, что принципы были и у меня. Были и сплыли? Нет, они, вроде, и сейчас никуда не подевались. Они и сейчас те же, что и раньше.
Итак, что там на нынешних полочках?
Во-первых, когда-то решив стать художником, я следовал этому «принципу» до тех пор, пока не усомнился в реальности такой перспективы. Во-вторых, оставив моря и оставшись не у дел, посчитал за «принцип» снова попробовать стать художником. Не получилось, ладненько… И это, возможно, к счастью. Потому что спокойно перенёс крушение очередного шага и потому расставался со своими творениями не за «две штуки баксов», а задарма. Предпочитал дарить их, но, само собой, от денег, когда предлагали сколько-то, не отказывался тоже. Это, получается, третий «принцип».
Если пошарить по сусекам, можно найти и четвёртый. А четвёртый… Да, был. И согласно ему, я никогда не халтурил. В Рембрандты и Ван Гоги не лез даже в мыслях, но во всём, на что был способен, выкладывался до конца. И картины, купленные Дрискиным, это не уступка его, Прохора, вкусу, а добросовестные холсты, которые, если честно, жалко было отдавать в его лапы. А почему? А потому, что на них – море, моё море, море, которое всегда со мной.
И ежели суммировать эти «принципы», даже с учётом отданного Бахусу, мой «проект» вполне благополучен, коли без особых угрызений совести и стуканья башкой о стену, дотянул до старости и, продолжая что-то делать, тяну дальше свою телегу, подсыпая для трения собственный песок и собственных ракушек, что осыпаются с меня на каждом шагу. Достаточно этого? Или постоянная неудовлетворённость – тоже «принцип»? Надеюсь. В противном случае, лучше в петлю.
Вопросы есть? Вопросы… есть, товарищ Сухов. Ну, не Сухов – Гараев.
Если ещё пошарить, да хорошенько пошарить, то… Положим, Бахус, с помощью которого я постоянно налетал на «верстовые столбы», это не принципиально. Это – всего лишь тина, которой обрастало за долгое плаванье моё днище. И если, отринуть её, как бы отскоблив в некотором смысле, а дни пьянства принять за «разгрузочные дни», то за пятый «принцип» можно взять моё постоянство в грехах и делах, опять же, в некотором смысле, праведных. Чередуя их, пребывал я в уверенности, что похож на тот ледокол на снимке: пусть за кормой бутылка (-ки), но я по-прежнему на плаву и, худо-бедно, ломаю припай жизни. Пробиваясь к конечной цели – к берегу, на котором заканчивается все, к причалу, у которого найдёт пристанище и мой «проект».
«Жизнь – акт, устремлённый вперёд. Мы живём, ибо жизнь непреложно состоит в деянии, в становлении жизни каждого самою собой», – утверждает дон Хосе. Заковыристо сказано, но хорошо. Не знаю, все ли живут из прошлого, я – да, оттуда. «А жизнь – длительность, живое присутствие в каждом мгновении того, что настанет потом», – снова подсказывает дон и утверждает, умница: «Человек, сохранивший веру в прошлое, не боится будущего: он твёрдо уверен, что найдёт в прошлом тактику, путь, метод, которые помогут утвердиться в проблематичном завтра. Будущее – горизонт проблем, прошлое – твёрдая почва методов, путей, которые, как мы полагаем, у нас под ногами».
Чувствовать под ногами почву, когда все зыбко вокруг, что может быть лучше? Это хорошо, ибо призрачно все в этом мире бушующем. Но, думал я, имея под ногами «твёрдую почву методов», можно начать не «пустой» пейзаж (один, как мне кажется, из лучших моих «проектов»), а некий сгусток… чего?
Трудно сказать, но легко вспомнить, что всякий раз, стоит подумать о «сгустке», передо мной возникает тот утёс – Чёртов палец, как я его называл, возле которого я любил поваляться на поляне и с которого я написал в ту пору лучший этюд. Он давно куда-то исчез, но память сохранила его во всех деталях, и потому картина моя «Путь в неведомое» родилась не в море, её идея, её замысел пришёл с Полюд-камня. И скалы те поднялись не из моря – с поляны, поросшей сочной травой и усыпанной валунами. Синий утёс на картине, оба утёса, стиснувшие узкий проход и парусник, устремившийся между них в неведомое, – образ, который преследует меня «всю жизнь», это порождение тех давних дней, что я и Мудрак провели в хижине Егора Иваныча. Он связал сушу и море, он – моя душа, отсюда столько вариантов. Образ моей жизни? Может быть. И не только моей. Впереди всегда неведомое, там свет в конце туннеля. Как тот кораблик, обрасопивший реи и движимый только двумя верхними парусами, я стремлюсь куда-то, но… всегда позади него. Я спешу за уходящим судном-судьбой, ловлю взглядом его гакабортный огонь, призывно желтеющий над кормой: мне бы не отстать, догнать бы его мне, но… Наверно, я все же отстал. Отстал? Если отстал, то никуда не пристал. Неужели об этом нужно было думать уже на Полюд-камне? Или после него? А что было после?
Как неожиданно воспоминанья
Соединяют север с югом —
Вот и сейчас, вне моего сознанья,
Они спокойно сходятся друг с другом.
Александр Гитович
Вернулись с Полюда, а родители все ещё были в отъезде. Пришлось задуматься, как нынче говорят, о прожиточном минимуме и «продовольственной корзине». Да и возвращение в Молдавию было не за горами. Тут поневоле начнёшь ломать голову и рыскать в поисках заработка.
Заказ на копию с левитановского «У омута» дал чепуховые деньги – только на хлеб и на табак. Тогда мы отправились в Орёл-городок, где застряли на неделю. Сначала писали этюды, потом разгружали баржу с тёсом на здешнем лесосплавном рейде. Это дало существенные дивиденды, но главное пополнение кошелька случилось, когда мы нанялись ломать домики лесорубов в затопленной Камским морем низине левобережья.
Колчак строил планы, Колчак предлагал договориться с плотовщиками. Лафа, мол, плыви хоть до Астрахани и в ус не дуй. Но плот – не экспресс. Август догорал. Берёзы и осины меняли наряд, в небе появились первые перелётные птахи. И не было Петьке писем из Кишинёва. Помрачнел парень. Когда я, подзуживая его, пел «Матросу снятся девичьи косы», смотрел на меня волком.
Pulsuz fraqment bitdi.