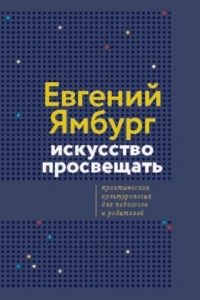Kitabı oxu: «Искусство просвещать. Практическая культурология для педагогов и родителей»
© Ямбург Е. А., текст, 2020
© Андриевич С. Н., дизайн, 2020
© Издательство «Бослен», 2020
* * *
Вступление
Отдаю себе отчет в том, что название книги звучит нескромно, даже вызывающе дерзко, и потому способно вызвать протест у многих, кто уткнется в него глазами. Хорошо представляю себе гневную отповедь оппонентов.
«Да кто ты такой, чтобы брать на себя смелость выступать в качестве ментора в деле просвещения юношества? Вся многовековая педагогика только тем и занималась, что просвещала вступающие в жизнь новые поколения. (Разумеется, с учетом накопленного опыта и полученных к тому моменту знаний.) В этом же ключе действовали специально созданные институции мировых религий. А искусство? Как бы оно в лице отдельных его представителей в Новое и Новейшее время ни открещивалось от воспитательных задач, настаивая на своей дидактической чистоте и педагогической непорочности, но все же сохраняло надежду, что при соприкосновении с прекрасным человек облагораживается и стремится стать хотя бы чуточку лучше». Это о том, что энтузиастов, владеющих искусством просвещать, хватает и без самонадеянного автора.
Другая группа рассерженных читателей усомнится в правомерности самой постановки задачи просвещения юношества: «Опыт Нового времени показал, что, вопреки накопленным знаниям, освоению передовых технологий, приобретению многих полезных вещей, человечество периодически погружалось в пучину варварства. Великие французские просветители допросвещались до кровавого террора Французской революции в сентябре 1793 года. Не говоря уже о печальных итогах двадцатого века, давшего миру страшный урок тоталитаризма: гитлеровские лагеря и ГУЛАГ, депортация целых народов в СССР, холокост в Европе и революционные „эксперименты“ в различных странах мира – тоже ведь плоды просвещения. Так стоит ли игра свеч, коль скоро диалектика просвещения такова, что, наряду с облегчением человеческого существования, оно несет в себе яд духовного и нравственного разложения? Да и сегодняшний интернет, наряду с невероятными возможностями получения, хранения и обработки информации, таит в себе явные опасности».
От этих контрпросвещенческих аргументов так просто не отмахнешься.
О драматизме человеческого существования и диалектике просвещения разговор впереди. А пока вернемся к названию. В его пользу существуют свои аргументы.
Искусство просвещения всегда сопричастно времени, что требует не только учета прошлого многовекового как положительного, так и отрицательного опыта, но и ответа на новые вызовы и угрозы, перед которыми оказывается человек. Клонирование, суррогатное материнство, генная инженерия – все эти новейшие реалии обнажают серьезные нравственные проблемы, неведомые предшествующим поколениям и настоятельно требующие своего решения.
Информационная эра, помимо прочего, создала широчайшие возможности для манипулирования общественным сознанием как взрослых, так и детей. Как защитить их от всевозможных манипуляций?
Невиданные доселе темпы развития цивилизации, ломка привычных устоявшихся представлений о жизни породили у современного человека нарастающую тревогу, безотчетный страх перед обрушением традиционной системы ценностей. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек подпадает под чары тоталитаризма, который всегда обещает простое, понятное и окончательное решение всех вопросов. (Пути и средства окончательного решения национального вопроса продемонстрировал Гитлер, а ликвидации социального неравенства – Сталин.) Растерянность и страх порождают агрессию. Привычка к взаимным оскорблениям, которыми осыпают друг друга люди, исповедующие разные взгляды, в равной степени прививается и взрослым, и детям. Изощренные оскорбления возводятся в ранг искусства. В этом смысле закономерна трансформация такого жанра молодежной субкультуры, как рэп-батл. Рэп-батл – это состязание двух исполнителей в жанре рэп. Исполнители соревнуются во взаимных оскорблениях. Бог бы с ними, с тинейджерами, – прорезавшиеся недавно зубки молодым волчатам надо на ком-то опробовать. Но и весьма солидные люди с нескрываемым удовольствием овладевают этим специфическим мастерством. Не скрою, окончательное решение назвать свою книгу именно так пришло после знакомства с книгой одного известного журналиста «Искусство оскорблять». Искусству оскорблять я намеренно противопоставляю искусство просвещать. Почему? Да потому, что больше противопоставить нечего.
А потому не будем уподобляться утопающему, который отказывается от брошенного ему спасательного круга на том основании, что считает ситуацию безнадежной. Такой тонущий неизбежно потянет за собой всех остальных. И в первую очередь детей, которые еще не научились держаться на плаву в океане житейских бурь и треволнений. Подобные пораженческие настроения – прямой путь к предательству собственных детей.
Коль скоро вы не верите в просвещенческую парадигму, то будьте до конца последовательными и прекратите продолжение рода.
При всех издержках и внутренних противоречиях просвещения его подлинное предназначение – укреплять достоинство человека, прививать ему способность к рефлексии, позволяющей избегнуть саморазрушения.
Еще одна неотменимая задача просвещения – создание нравственного климата, без которого не могут существовать нация и ее культура.
Но просвещать надо с умом. Трансляция вечных смыслов и ценностей культуры – сложнейшая задача. Передавать их новым, вступающим в жизнь поколениям приходится на их языке, с учетом кардинально изменившихся условий их бытования. При этом нужно учитывать, что юность крайне негативно воспринимает стремление взрослых к поучениям. Поэтому просвещать надо спокойно, без возмущения их языком и повадками. Это прекрасно чувствовал Н. В. Гоголь: «Храни тебя бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадок; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе: „Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!“ Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня»1.
И, наконец, последнее. Не ждите от этой книги педагогической рецептуры в форме методических рекомендаций к конкретным урокам и классным часам. Несомненно, что в деле обучения существуют как старые, надежные и проверенные временем, так и новые информационные технологии, которыми профессиональный педагог должен овладеть. Но воспитание всегда было, есть и будет не сводимым исключительно к технологиям. Ведь ни одна педагогическая ситуация или возникающая во взаимоотношениях с ребенком коллизия никогда не повторяется, поскольку учитель каждый раз имеет дело с уникальной личностью растущего человека.
Казалось бы, с погружением на дно советской Атлантиды утопические задачи «перековки» людей и «формовки» нового советского сверхчеловека безвозвратно канули в прошлое. А вот и нет. Рецидивы этих примитивных воззрений, где ребенок представляется неким фаршем, заправив который в хорошо отлаженный конвейер, можно на выходе получить колбасу со знаком качества, дают себя знать вновь и вновь. Конвейер со временем модернизируется, оснащаясь современными цифровыми технологиями, но суть подхода от этого не меняется.
Примеров предостаточно. В городе N возникает инициатива «Парта героя». В школе X действительно учился Герой Советского Союза, совершивший подвиг. Святое дело – сохранять о нем память. Но местные чиновники требуют от учителей отчета о количестве школьников, отсидевших за этой партой. Вероятно, они всерьез убеждены в том, что количество таких учеников переходит в качество воспитания, а желанный патриотизм проникает в сознание ребенка через пятую точку и спинной мозг. В другом случае количество компьютерных презентаций о нашей победе, которые должны подготовить школьники по разным предметам, зашкаливает настолько, что дети начинают тихо ненавидеть эту сокровенную тему. Так рождаются скверные анекдоты и отравляющий душу цинизм. Но зачастую администраторы и педагоги, выполняющие их указания, не задумываются над тем, что именно их действия являют собой скверный анекдот, провоцирующий моральную деградацию воспитанников.
В заключительной части этой книги, «Публицистика», рассматриваются реальные истории, приводящие учителей и администраторов школ в тупик по той причине, что они не видят глубинных оснований возникающих острых коллизий, пытаясь разрешить их, исходя из обыденных житейских представлений, административными инструментами. Но такой подход зачастую лишь обостряет ситуацию и приводит к новым конфликтам.
Легче всего обвинить в этих казусах начальство. Но обвинять во всех случаях начальство и обстоятельства жизни есть умственная и нравственная лень, рудимент рабской психологии. Похоже, что дело прежде всего в нас самих. Мы не можем ни полностью все принять, ни полностью все отвергнуть в прошлом, настоящем и будущем. Эта межеумочная позиция характерна не только для нас, жителей канувшей советской Атлантиды, но и для наших детей и внуков, ибо запутанный, переходный исторический период продолжается. Он и не может быть кратким. Однако это не означает, что нам остается сидеть на берегу в ожидании благоприятной погоды. Как точно заметил поэт: «Времена не выбирают, в них живут и умирают» (А. Кушнер).
Надо дать себе труд прежде всего разобраться самим в трудных вопросах, чтобы перестать путать детей. Учителю это дается крайне сложно, поскольку педагогика неизбежно должна содержать в себе здоровый консерватизм. Дети – не подопытные кролики. Нельзя пускаться во все тяжкие, предварительно не оценив последствий тех или иных инноваций. Кроме того, не от всякого прошлого следует отказываться. Во все времена, включая советские, накапливался ценнейший педагогический опыт, который вошел в сокровищницу педагогики.
Так, например, непререкаемой ценностью советской педагогики считался коллективизм. Но власть коллектива не всегда была мудрой, по определению В. А. Сухомлинского. Слишком часто складывалось так, что коллектив подавлял личность. Достаточно вспомнить те времена, когда от подростка на комсомольском собрании требовали отказаться от отца, объявленного врагом народа. После краха СССР педагогический маятник качнулся в другую сторону – гипертрофии индивидуализма. Ориентирами, которые нынче предлагаются молодежи, стали карьерный рост и наличие амбициозных планов. У людей моего поколения этот тренд вызывает вполне понятное раздражение, поскольку в нашем сознании карьеризм – это циничная готовность идти по трупам, расталкивая локтями конкурентов, а амбиции – синоним нескромности и тщеславия. Со временем «вдруг» выяснилось, что в современных условиях для достижения успеха в любой сфере (бизнесе, науке, искусстве) необходимо умение работать в команде, постоянно взаимодействуя с коллегами и партнерами, иначе инновационный прорыв невозможен. Но командная работа, командный дух есть не что иное, как коллективизм, освобожденный от идеологических и иных догматических шор. Поэтому приемы и методы по сплочению коллектива, выработанные в предшествующую эпоху, прекрасно работают и сегодня.
Повторяю, здоровый консерватизм – неизбежная составляющая профессии педагога. Однако педагог должен идти в ногу со временем и даже его опережать. В противном случае мы не подготовим учеников к жизни в принципиально новых условиях. Иными словами, традиции и новаторство – это два плеча коромысла, которые необходимо держать в равновесии. В этом и состоит искусство просвещения. Невероятно трудно, но другого не дано.
Эта книга – приглашение к совместному мужественному, трезвому размышлению. Сталкиваясь с очередной конфликтной педагогической ситуацией, мы порой запутываемся в трех соснах, не находя оптимального выхода. Почему? Учитель, подобно врачу, видит симптомы заболевания, но, в отличие от медика, начинает их лечить, не задумываясь о глубинных причинах болезни. Происходит это оттого, что за каждым конкретным педагогическим затруднением, порой рождающим конфликты, стоит непросвещенность самого учителя, непроясненность для него фундаментальных вопросов культуры.
Отмахнуться от осмысления коренных вопросов философии и культуры педагогу не удастся. Отсюда – учитель призван становиться практическим культурологом. Вопросам практической культурологии и посвящена данная книга. Я не призываю во всем со мной соглашаться. Каждый вправе иметь и отстаивать свою собственную точку зрения. Но при этом сегодня как никогда важно быть открытым к диалогу с людьми иных взглядов. К откровенному диалогу я и приглашаю читателей книги, являющейся продолжением двух предыдущих: «Беспощадный учитель» и «Третий звонок».
В приложениях к книге я даю две последние пьесы: «Забор» и «Бледная Лиза». В «Третьем звонке» я подробно разъяснил, каким действенным инструментом погружения юношества в контекст культуры является школьный театр. Признаюсь, что, воплощая один за другим театральные проекты, я, по сути дела, ставлю с подростками один бесконечный спектакль, осуществляя сквозное действие. Напомню, что, по Станиславскому, сквозное действие сводит воедино, пронизывает все элементы спектакля и направляет их к общей сверхзадаче. Культурологическая, она же педагогическая, сверхзадача очевидна. Она состоит в разрушении всяческих заборов, стен и прочих препятствий, мешающих людям расслышать друг друга.
Искусство просвещать

Школьный проект: встреча учеников на «чистых четвергах». Школа № 109
Тяготы жизни
Раскрывать ли перед детьми драматизм человеческого существования?
Мир прекрасен – это факт, хоть и безобразен.
Дмитрий Пригов
Осторожно – люди
Убежден в том, что любые темы с подростками надо обсуждать серьезно, без скидок на возраст. И дело не только в том, что они не признают сюсюканья, предполагающего снисходительную позицию по отношению к малым сим. Противно, когда к тебе относятся как к неразумному, неполноценному собеседнику. Надеваемая взрослым фальшивая маска мгновенно распознается и напрочь исключает искренность во взаимоотношениях. А без искренности никакие педагогические воздействия не будут успешны.
Но ведь существуют сложнейшие метафизические вопросы бытия, над решением которых веками бьются выдающиеся мыслители, так до конца и не приходя к окончательным выводам. Живое воплощение в себе культурных ценностей по своему существу является задачей неисчерпаемой, или, по слову Канта, проблемой «без всякого разрешения». Эти ценности указывают нам на некий бесконечный путь, по которому можно продвигаться вперед в бесконечном прогрессе, но пройти который до конца никому не дано.
Разве разумно ставить такие вопросы перед неокрепшими умами тинейджеров? Не только разумно, но и в высшей степени педагогически выигрышно. Именно нерешенные проблемы бытия захватывают воображение, рождают у молодых горячие дискуссии, формируют серьезное отношение к отвлеченным, казалось бы, вопросам, на которые избегают искать ответы затюканные повседневным рутинным существованием взрослые. За редким исключением возрастным субъектам недосуг видеть звездное небо над головой и задумываться о нравственном законе внутри себя.
Среди таких серьезных вопросов, от ответа на которые зависит определение всей стратегии будущей жизни, – вопрос о подлинной сущности человека.
Мы не боги, но и не звери, находимся где-то посередине. Отсюда – необходимость изживания сразу двух мифов: о том, что человек – мера всех вещей, ибо ему имманентно присуще нравственное чувство, и о звериной природе человека, унаследованной им от диких предков.
Оба мифа развеял философ и культуролог Григорий Соломонович Померанц: «Каждый раз, когда человечество съедало запретный плод, оно чувствовало тяжесть первородного греха. После слов Протагора: „Человек – это мера всех вещей“ – мерой стал Нерон. После „Панегирика человеку“ Пико делла Мирандолы – мерой стал Чезаре Борджия. После тезиса: „Человек добр“ – разнузданная воля сентябрьских убийств 1793 года. После слов Маркса о бесконечном развитии богатства человеческой природы был создан ГУЛАГ. И каждый раз за осознанием бездны греха следовал порыв покаяния и веры: христианство после Афинской академии, барокко после Возрождения, романтизм после Просвещения – и стихи к роману „Доктор Живаго“ после поэмы „1905 год“»2.
Тяжелейшее двадцатое столетие с его потоками пролитой крови показало, что, вопреки массовому одичанию, находились люди, которые оказались в силах преодолеть звериные, стадные, племенные инстинкты и подняться над эгоизмом собственной боли. Этих людей не так много, но именно они вселяют надежду. Ибо не зря сказано от века: пока стоят десять праведников, мир не обрушится. Единственный способ обуздания в себе звериных инстинктов – наращивание мускулов культуры.
Истоки ненависти и агрессии
На майке подростка, совершившего в 2018 году массовый расстрел в керченском колледже, крупными буквами было написано: «НЕНАВИСТЬ». Ненависть на какой почве? На любой: социальной (нищенское существование на средства санитарки-матери), национальной, конфессиональной, на почве неразделенной любви, зависти к более успешным сокурсникам и т. д. и т. п. Ненависть к кому? К кому угодно: придирчивым преподам, девушке, не отвечающей взаимностью, сокурсникам, подсмеивающимся над твоими скромными успехами в учебе, ко всему несправедливому и равнодушному к твоей персоне миру.
Ненависть рождает жажду мести во имя восстановления попранной справедливости. Великая цель (достижение справедливости) наполняет душу осмысленным существованием, побуждает скрупулезно готовиться к главному СОБЫТИЮ, когда в результате подвига, пусть даже ценой собственной жизни, будет восстановлена СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Кроме того, о тебе узнают сотни тысяч людей, и ты из серой неприметной мышки мгновенно превратишься в героя культового сериала.
А что, зря, что ли, герой Сергея Бодрова в фильме «Брат-2», завершив криминальную кровавую разборку, поучает американца: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней. Да? Дмитрий Громов, мани, давай».
Керченский «тихушник» ранее ничем не выделялся среди прочих сверстников, не был замечен в патологических наклонностях, не замешан в криминальных историях. Но за ним стояла своя убогая, ущербная правда.
Своя правда и у президента Российской Федерации, который относит кровавые события в Керчи к влиянию глобализма. Владислав Росляков действительно копировал действия убийцы в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Подобные трагедии происходят во всем мире, и в первую очередь в Америке, где возможность подростков обзавестись оружием во много раз больше, нежели у нас. Левая идея, в основе которой жажда восстановления справедливости, победно шагает по планете. Справедливости требуют все: устремившиеся в европейские страны африканцы, чей доход восемь долларов в месяц, европейцы, не желающие тратить свой бюджет на прокормление пришельцев, американцы, чей экономический и промышленный рост оказался под угрозой, поскольку транснациональные корпорации развертывают производства в азиатских странах, где дешевая рабочая сила. Отсюда таможенные войны, которые ведет Америка. Все так. Но важно помнить, что, раздевая Америку, себя мы при этом не одеваем.
Оставим в стороне посыпавшиеся как из рога изобилия предложения преимущественно запретительного характера (об их наивности и нереалистичности достаточно написано специалистами), будем лишь помнить, что Америку можно открыть, а вот закрыть уже не удастся. В данном контексте Америка, разумеется, метафора глобализации.
Налицо глобальный кросс-культурный кризис. Цивилизация, образно говоря, пошла вразнос. Первыми, как всегда, это почувствовали, благодаря интуиции, писатели еще в середине прошлого века. Герой романа Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель» говорит: «Счастье не от подарков, не от телесных ласк, не от полученных привилегий – оно от Божественного узла, связавшего все воедино»3. Потеря ощущения целостности мира крайне болезненна как для взрослых, так и для детей. Центробежные силы разрывают сознание современного человека. Отсюда рост психоневрологических заболеваний (в России этот тип заболеваний вышел на первое место среди детей и подростков) и как следствие – нарастание авто- и взаимной агрессии.
Божественный узел, который должен вернуть утраченную целостность бытия, – это опора на незыблемую шкалу ценностей, которая, в свою очередь, опирается на святыни. Иными словами, стремление возвратиться к архаике, к золотому веку, который якобы был в прошлом. Так в качестве защиты от глобализма предлагаются национальные и религиозные скрепы, которые призваны спасти народ-богоносец от растлителей из интернета, преклоняющихся перед погрязшим во грехах Западом.
Но при таком подходе надо поставить крест на прогрессе, который, как ни крути, несет людям комфортное существование. Отсюда вторая иллюзия – слепое поклонение прогрессу, который автоматически наращивая информационно-технологическую мощь, решит все проблемы человечества. Оба подхода от лукавого.
О потерях и приобретениях современной цивилизации в конце прошлого века замечательно писал Г. С. Померанц, последовательно развеявший обе эти иллюзии: «Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф – о золотом веке (а потом серебряном, медном и, наконец, о нашем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычаев сохранились до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.
Второй, утешительный миф – прогресс. Сегодня лучше, чем в темные века; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частностей, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта»4.
Анализируя керченскую трагедию, лидер страны сказал: «Все мы плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей». Кто бы спорил. Но создание такого контента – невероятно сложная задача, исключающая истерику и взаимные обвинения так называемых фундаменталистов и либералов. Как и чем уравновесить крайние точки зрения? Такие попытки делаются, но пока получается коряво.
В одном из городов Центральной России я увидел любопытное учебное заведение – «Казачий информационно-технологический лицей». Лампасы, папахи и другие атрибуты формы лицеистов демонстрировали приверженность руководства учебного заведения к исконным традициям. Но при чем здесь современные информационные технологии, которые, как известно, не знают национальных границ? Оказывается, концепция данного лицея предусматривает создание специальных казачьих дружин для обеспечения информационной безопасности в интернете!
Слов нет, информационная безопасность – вещь серьезная. Подготовка таких специалистов востребована государством. Кроме того, приобретенная специальность гарантирует в будущем достойную оплату. Всё это осознают руководители данного учреждения, озабоченные привлечением абитуриентов. Что не так? Вместо шашки, которая, впрочем, на всякий случай висит на боку, курсантам предлагается размахивать гаджетами, вырубая из интернета крамолу. Сложная сугубо технологическая задача, окрашиваясь в идеологические тона, превращается в миссию, суть которой – поиски скрытых врагов, со всех сторон подкапывающихся под фундамент нашей особой духовности. Так из данной концепции явно торчат уши конспирологии, всегда порождающей страх, подозрительность и все ту же ненависть. Что происходит неизбежно, когда пытаются соединить туловище быка и голову овцы. Такой идеологический мутант нежизнеспособен.
Конспирологические версии тех или иных грозных событий, распространяющиеся со скоростью пандемии по всему миру, – результат повсеместно растущего недоверия к официальным средствам массовой информации. В результате наведенного конспирологическими версиями страха невероятно повышается градус агрессии. Специалистам по истории первобытности известны техники, с помощью которых древние племена приводили себя в агрессивное состояние. Вступая на тропу войны, мужчины племени исполняли ритуальный танец войны. Характерно, что дети, женщины и старики в это время прятались в укрытиях. Почему? Потому что воин, впавший в боевой экстаз, превращался в идеальную машину для убийства, сметающую без разбора все на своем пути. Свой или чужой – значения не имело. Но, возвращаясь с победой, мужчины племени исполняли специальный ритуальный танец мира, тем самым приводя себя в нормальное состояние. После чего мирное население безбоязненно покидало свои укрытия.
Сами того не ведая, мы с помощью современных средств массовой информации запускаем первобытные техники невероятной возгонки агрессии. Стоит ли после этого удивляться тому, что подросток (семнадцатилетний подросток в племени – это уже мужчина-воин, владеющий оружием) превращается в убивающую машину? Поэтому в керченской истории не следует утешать себя простым и удобным объяснением, что мы имеем дело с психопатом, которого вовремя не диагностировали. Зададимся лучше прямым и неудобным вопросом: отчего число таких психопатов неизменно растет?
Школа не висит в безвоздушном пространстве; она существует на семи ветрах: идеологических, геополитических, социально-экономических, национальных, конфессиональных, психоэмоциональных, наконец, иррациональных, ибо человеческие поступки не сводимы исключительно к рациональным мотивам. Порой эти ветра приобретают шквальный характер, прогибая школу со всеми ее обитателями (педагогами, детьми и родителями) то в одну, то в другую сторону. Очевидно, что стране необходима длительная педагогическая терапия, в результате которой нам всем предстоит обучиться искусству диалога.
А пока взрослые не образумились, в первую голову надо спасать детей от ненависти. На память приходят стихи Александра Галича, чей столетний юбилей в 2018 году мы странным образом отмечали на первом канале телевидения в глубокой ночи, когда дети и подростки спят беспробудным сном. А зря. В поэме «Кадиш», посвященной Янушу Корчаку, опираясь на дневник праведника, Галич пишет:
Я старался сделать все, что мог,
Не просил судьбу ни разу: высвободи!
И скажу на самой смертной исповеди,
Если есть на свете детский Бог:
Все я, Боже, получил сполна!
Где, в которой расписаться ведомости?
Об одном прошу – спаси от ненависти!
Мне не причитается она.5
Парадоксальный факт – дети и подростки в гораздо большей степени, чем их родители, которые, как правило, сегодня выхолощены на работе, расположены к серьезным разговорам. Их психику не стоит беречь, окружая гиперопекой, скрывая трагические страницы прошлого и настоящего, исходя из превратно понимаемых патриотических побуждений. На этот ложный псевдопатриотический посыл прекрасно ответил Гоголь в «Театральном разъезде»:
«Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.
Князь N. (с досадою). Возьми их себе! Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их тычешь?»6
С детьми надо разговаривать честно. Молчащее поколение проигрывает свою историю, а значит, и будущее.
Но способно ли слово стать целительным средством взросло-детского сообщества? И здесь мы вновь обращаемся к великой русской поэзии, в частности к Н. Гумилеву:
Слово
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.7
Все так. И человеку в равной степени нужны и прорывы духа, и здравый смысл, передаваемый с помощью умного числа. А вот мертвые слова действительно дурно пахнут, отвращая своей фальшью и взрослых и детей!
Если дать себе труд подумать, нам есть из чего создавать нужный, полезный и интересный контент для молодых людей, за который ратует национальный лидер. Образно говоря, нам предстоит перейти от бесконечного исполнения ритуального «танца войны» к постепенному освоению «танца мира», приводящего умы и души молодых людей в нормальное состояние, что сделает более безопасным существование окружающих. Надо отдавать себе отчет в том, что запретительные меры, призванные снизить градус агрессии и обезопасить общество от кровавых эксцессов, не только неэффективны и неисполнимы в полной мере в открытом информационном пространстве, но рождают у молодых людей еще больший протест, а следовательно, все ту же агрессию, направленную в адрес мира «не догоняющих» взрослых.
Обостренная жажда справедливости, имманентно присущая подросткам и социально обделенным слоям населения, неизбежно рождает жажду мести. Но месть не имеет ничего общего со справедливостью. Эта неочевидная не только для подростков, но и для многих взрослых людей мысль в равной мере нуждается в доказательствах и в еще большей мере в конкретных примерах.