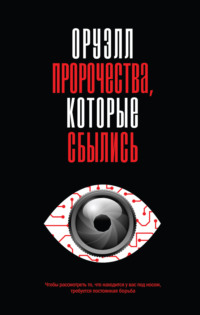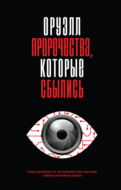Kitabı oxu: «Оруэлл. Пророчества, которые сбылись», səhifə 2
У вас перед носом
Согласно многочисленным заявлениям, недавно появившимся в прессе, мы почти – если не полностью – не способны добывать столько угля, сколько требуется для наших собственных нужд и для экспорта, так как не можем привлечь в шахты достаточное число рабочих. Если верить статистическим данным, которые я видел на прошлой неделе, то получается, что ежегодно из отрасли уходит 60 тысяч человек, а приходит только 10 тысяч. Одновременно с этим – иногда на той же полосе газеты – сообщается, что привлекать для этих целей поляков или немцев нежелательно, ибо такой шаг может привести к безработице в угольной промышленности. Эти заявления не всегда исходят из одного и того же источника, однако, без сомнения, у многих людей эти противоречивые идеи могут перевариваться в головах параллельно.
Это всего лишь один из примеров образа мышления, который сегодня чрезвычайно распространен. А может, он и всегда был таковым. Бернард Шоу в предисловии к своей пьесе-притче «Андрокл и лев» цитирует первую главу Евангелия от Матфея, которая начинается с утверждения о происхождении Иосифа, отца Иисуса, от Авраама. В первом стихе Иисус описывается как «Сын Давидов, Сын Авраамов», и на протяжении последующих пятнадцати стихов прослеживается полная генеалогия рода. Затем, через один стих, объясняется, что на самом деле Иисус не являлся потомком Авраама, поскольку не был сыном Иосифа. По словам Бернарда Шоу, для верующего в этом нет никакого противоречия. В качестве аналогии он приводит беспорядки, устроенные в лондонском Ист-Энде сторонниками человека, назвавшегося Тичборном5. Протестующие были возмущены тем, что британского рабочего ущемляют в правах.
Если я не ошибаюсь, в медицине подобный образ мышления называется шизофренией. В любом случае это способность одновременно придерживаться двух убеждений, противоречащих друг другу. Весьма тесно с этим связано умение игнорировать очевидные и непреложные факты, с которыми рано или поздно придется столкнуться. Эти пороки особенно пышно процветают в нашем политическом мышлении. Приведу несколько примеров. Они никак между собой не связаны, взяты практически наугад и призваны продемонстрировать простые, безошибочно узнаваемые факты, которые игнорируются теми, кто в какой-то другой части своего сознания признает их существование.
Гонконг. В течение многих лет до войны все, кто знал о положении дел на Дальнем Востоке, понимали, что наши позиции в Гонконге весьма слабы и мы лишимся его, едва начнется большая война. Однако осознание этого было настолько непереносимым, что одно правительство за другим продолжало цепляться за Гонконг вместо того, чтобы вернуть его китайцам. За несколько недель до нападения Японии туда даже перебросили свежие войска, которым была отведена бессмысленная миссия – оказаться в плену. Затем грянула война, и Гонконг быстро пал – как все и предвидели.
Воинская обязанность. В течение нескольких довоенных лет почти все просвещенные граждане выступали за борьбу с Германией. Одновременно большинство осуждали наращивание вооружений, необходимое чтобы это противостояние было эффективным. Мне хорошо известны аргументы, приводившиеся в защиту этого парадокса. Некоторые из них достаточно серьезно обоснованы, однако главным образом это просто юридические отговорки. Еще в 1939 году Лейбористская партия проголосовала против обязательной воинской повинности, что, вероятно, сыграло свою роль в заключении русско-германского пакта и, безусловно, оказало катастрофическое воздействие на моральный дух французского общества. Затем настал 1940 год, и мы чуть не погибли из-за отсутствия сильной, боеспособной армии, которой мы могли бы располагать, если бы ввели воинскую повинность, по крайней мере, тремя годами раньше.
Рождаемость. Лет 20 или 25 назад понятия «использование противозачаточных средств» и «просвещенность» казались почти синонимами. По сей день преобладает мнение (аргументация может быть разной, но практически всегда сводится к одному и тому же), что многодетные семьи невозможно обеспечивать по экономическим причинам. Наряду с этим широко известно, что слаборазвитые страны лидируют по уровню рождаемости, а у нас он наиболее высок в самых неимущих слоях. Утверждается также, что убыль населения означает снижение безработицы и повышение общего уровня благосостояния. Вместе с тем, считается, что сокращающееся и стареющее население сталкивается с катастрофическими и, по всей видимости, неразрешимыми экономическими проблемами. Разумеется, все относящиеся к этой теме цифры весьма приблизительны, однако вполне возможно, что всего через 70 лет население страны составит около 11 миллионов человек, более половины из которых будут престарелыми пенсионерами. Поскольку – по разным причинам – подавляющее число граждан не хотят заводить большую семью, эти пугающие факты могут существовать где-то на периферии их сознания, будучи одновременно и хорошо известными, и как бы неизвестными.
ООН. Чтобы добиться хоть какой-то эффективности в деятельности этой международной организации, необходимо наличие у нее возможности влиять как на небольшие страны, так и на крупные державы. Она должна располагать полномочиями по инспекции вооружений и их ограничению, что означает право доступа ее официальных представителей к каждому квадратному метру территории любого государства. Также в ее распоряжении должны иметься вооруженные силы, превосходящие по численности другие национальные армии и подчиняющиеся только самой организации. Две или три великие державы, имеющие реальный вес на международной арене, никогда не обещали – даже для видимости – своего согласия хотя бы с одним из этих условий. Они разработали устав ООН таким образом, что их собственные действия никогда не станут предметом обсуждения. Другими словами, эффективность организации как инструмента поддержания мира равна нулю. Это было так же очевидно до начала ее деятельности, как и сейчас. Однако всего несколько месяцев назад миллионы сведущих людей верили в то, что работа ООН все же окажется успешной.
Нет никакого смысла множить эти примеры. Суть в том, что все мы способны верить в нечто ложное, даже понимая, насколько это не соответствует действительности, а затем, когда в конце концов наше заблуждение становится неоспоримым, самым бессовестным образом искажаем факты, стремясь доказать собственную правоту. Продолжать мыслить в подобном ключе можно бесконечно. Единственное препятствие на этом пути состоит в том, что рано или поздно превратная убежденность сталкивается с суровой реальностью, и случается это, как правило, уже на поле боя.
Его разум соскользнул в лабиринт мира двоемыслия. Знать и не знать, полностью сознавать правду и говорить тщательно продуманную ложь, параллельно придерживаться двух противоположных взглядов, понимая, что они исключают друг друга, использовать логику против логики, аннулировать мораль, взывая к морали, не верить в возможность демократии и верить, что Партия является гарантом демократии, забывать все, что надлежит забыть, а затем снова обращаться к этому, когда нужно, и снова ловко забывать. А самое главное, нужно применять этот же процесс к самому процессу – в этом вся тонкость: сознательно добиваться бессознательности, а затем опять-таки подавлять понимание проделанного самогипноза. Даже понимание слова «двоемыслие» требует двоемыслия.
«1984»
Достаточно внимательно присмотреться к повсеместной шизофрении демократических обществ – к практике лжи, к которой им приходится прибегать, чтобы заполучить голоса избирателей, к замалчиванию наиболее острых проблем, к искажению информации в прессе, – и невольно возникает соблазн поверить в то, что в тоталитарных странах меньше обмана и притворства, больше готовности оперировать реальностью. Там, по крайней мере, власти не зависят от благосклонности населения и могут позволить себе говорить ему чистую правду. Геринг заявил: «Пушки вместо масла»6, – тогда как его коллега-демократ был вынужден ту же самую мысль сопроводить сотней лицемерных слов.
Однако на самом деле неприятие реальности везде одинаково и везде имеет одинаковые последствия. Русский народ годами приучали к мысли, что он живет лучше всех, и пропагандистские плакаты изображали советские семьи сидящими за изобильными столами, а пролетариат других стран умирающим от голода. Вместе с тем, рабочие в западных странах жили гораздо лучше, чем в СССР, поэтому недопущение контактов между советскими гражданами и иностранцами стало основным принципом внутренней политики Советского Союза. Кроме того, в результате войны миллионы простых россиян оказались в Европе, и после их возвращения домой первоначальное бегство от реальности неизбежно обернется различного рода трениями с властями. Немцы и японцы проиграли войну в значительной степени потому, что их правители оказались не способны признать факты, очевидные беспристрастному взгляду.
Чтобы рассмотреть то, что находится у вас прямо перед носом, требуется постоянная борьба. В ней поможет, в том числе, ведение дневника – или, по крайней мере, запись собственного мнения о важных событиях. В противном случае, когда какое-нибудь особенно абсурдное убеждение опровергается реальными фактами, человек может просто забыть, что его придерживался. Политические прогнозы, как правило, оказываются ошибочными, но, даже если кто-то когда-то сумел предсказать ход событий и их результат, понимание того, почему ему это удалось, может принести немалую пользу. В принципе, человек бывает прав только тогда, когда его желание или опасение совпадает с реальностью. Осознав это, он, разумеется, не избавится от субъективных ощущений, однако получит возможность до какой-то степени отделять их от собственных взглядов на данный момент и хладнокровно делать прогнозы, руководствуясь правилами арифметики. В частной жизни большинство людей ведут себя как реалисты. Когда они составляют недельный бюджет, дважды два у них неизменно равняется четырем. Политика же представляет собой некий субатомный, или неевклидов, мир, где часть может оказаться больше целого или же два разных объекта одновременно находиться в одном и том же месте. Именно по этой причине противоречия и нелепости, которые я отметил выше, в конечном итоге сводятся к тайному убеждению, что политические взгляды, в отличие от недельного бюджета, не придется проверять на соответствие реальной действительности.
Tribune, 22 марта, 1946