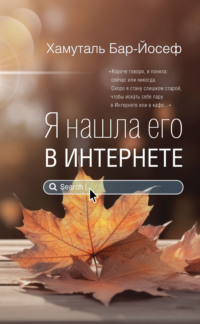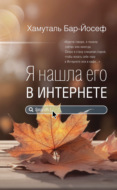Kitabı oxu: «Я нашла его в Интернете», səhifə 2
– Хорошо. Так я сейчас пойду к маме закапать ей глазные капли, – сказал он.
– Сколько лет вашей маме? – спросила я с поддельным участием.
– На ханукальной неделе ей исполнится девяносто четыре.
– Как она себя чувствует?
– Вполне прилично. Ходит с ходунками.
– У нее есть помощница?
– Она не хочет. Мы приходим к ней каждый день. Сестра наводит порядок в доме, моет ее, делает прическу и маникюр, готовит еду. Брат покупает продукты, а я чиню, если что-то сломается, и слушаю ее истории.
– Истории? У нее есть истории?
– Еще какие! Она была девочкой, когда здесь хозяйничали турки. Потом она освоила азбуку и записала свои истории, их даже в газете напечатали.
– В какой газете?
– Не помню названия. Это было давно, когда мы были маленькими. Мы начали учиться в школе, и она вместе с нами выучилась читать и писать.
Он говорил о своей матери с такой гордостью, словно она была каким-нибудь Моцартом или Бахом.
На следующий день я решила блеснуть: надела черное бархатное платье, украсила уши бриллиантовыми сережками, использовала все, что было в моей косметичке: тушь для ресниц, тени, румяна, стойкую губную помаду. В семь подъехала к назначенному месту с дополнительным билетом на соседнее место. Стоил он столько, сколько стоил, на данном этапе это было не важно.
Припарковала свой Rolls-Royce Mini и включила музыку в надежде заглушить знакомую боль в животе. Музыка то и дело прерывалась арабской песней. Я слушала концерт № 2 фа минор Шопена, но мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не злиться и просто переключиться на другую радиостанцию. Пришлось терпеть вопросы и ответы на тему прав инвалидов.
Он подошел бодрой походкой – из окна машины он не выглядел таким уж низкорослым – в той же серой выглаженной рубашке, на которую надел темно-зеленую ветровку, и в тех же черных брюках с тем же черным кожаным ремнем. Мне бросились в глаза острые носки его ботинок. Он не дал себе труда почистить их. Сжав зубы, я решила не обращать на это внимания.
Он уважительно посмотрел на мою машину, сел рядом со мной и удивился, что я до сих пор использую механическую коробку передач. Я вела машину и чувствовала, что он искоса посматривает на меня, на мое платье, на серьги.
Доехали до парковки. Он предложил помочь мне припарковаться задним ходом.
– Спасибо, не надо, припаркуюсь сама, – поторопилась ответить я, снова упустив возможность представиться милой и беспомощной.
В фойе я купила одну программку на двоих и тут же заглянула в нее. Квартет Гайдна «Птица» (опус 33, № 3, не путать с квартетом «Жаворонок»); затем альт, ну конечно, квинтет соль минор (этот минор у Моцарта – большая редкость) К516, произведение, которое долгое время было моим самым любимым; а в конце – замечательный квинтет до минор, опус 104 Бетховена (трудно понять, как он мог написать это, будучи уже глухим), представляющий собой не что иное, как адаптацию, развитие и обработку трио опус 1, № 3.
В очереди за программкой передо мной стоял Михаэль Кореш. Когда-то мы с ним вместе учились в десятом классе. Его отец был членом директората банка и советником министра финансов. Однажды этот Михаэль приехал навестить меня на машине отца. Шел дождь, на ногах у него были туфли с калошами, и, пока он шел к входной двери, водитель держал над ним зонтик. Теперь он ректор университета. Я молила Бога, чтобы он не заметил меня. Не тут-то было. Держа программку в руке, он повернулся ко мне и так поднял брови, словно встреча со мной сюрприз всей его жизни. Со свойственной ему значительностью он произнес банальные слова:
– Габриэла! Как дела? Рад тебя видеть!
У меня не было выхода.
– Познакомьтесь: Михаэль, Эли.
Только имена, я ведь не знала фамилию Эли.
– Очень приятно, – произнесли мужчины почти в один голос.
Михаэль продемонстрировал больше любопытства, чем Эли, но оба молчали. Глаза Михаэля скользнули по лицу и фигуре Эли, задержавшись на его ботинках. Едва заметная улыбка тронула губы моего бывшего однокашника… Во мне тут же поднялось раздражение против него – видимо, из-за моей дурацкой склонности защищать отвергнутых. Разве недостаточно я уже заплатила за это?
Узнала я также вечную синюю шляпу профессора Шошаны Гилис. Благодаря ее наставлениям, я поняла – пусть и не сразу, – что́ на самом деле нужно, чтобы добиться успеха в университете. Публикации – это не самое важное, самое важное – это гранты и личные отношения. Преподавание не имеет значения, выступления по телевизору – проституция от науки.
Эли с интересом разглядывал интерьер – стены, украшенные картинами, старинные люстры, тратящие электроэнергию на рассеянное освещение, – и осторожно молчал. Половина кресел в зале были пустыми, из остальных торчали лысые или седые головы. Кое-где рядом с креслами возле прохода стояли инвалидные коляски. На последних рядах сидели молодые филиппинцы и непальцы, помощники пожилых зрителей. Это выглядело как культпоход жителей дома престарелых. Что Эли подумает обо мне? Он сидел рядом со мной в девятом ряду, в кресле номер 14, с терпеливым выражением на лице, какое бывает у человека, оказавшегося в трудной ситуации и понимающего, что сделать ничего нельзя, остается только ждать.
На сцену вышли четыре музыканта и сразу, без ритуального настраивания инструментов, начали играть. Симпатичная, словно подпрыгивающая мелодия первой части на фоне постоянного постукивания и то появляющегося, то исчезающего птичьего зова. Покидая мажор, музыканты почти шептали минорные отрезки вплоть до полного исчезновения звука. Оставалось пустое пространство, полное ожидания, затем оно заполнялось меланхолической грустью, даже тоской. Музыка отрывалась от реальности и возвращалась в нее, с облегчением попадая на устойчивую почву мажора.
Вторую часть музыканты исполнили самым тихим, самым таинственным и мрачным образом, сохраняя при этом мелодичность простой песни, становившейся особенно простой, когда вдруг появлялись высокие взлетающие звуки скрипки и проветривали общую хроматическую угрюмость этого отрезка. Мне казалось, что это не столько заявленное скерцо, сколько молитва. Адажио было сыграно несколько быстрее, чем нужно, но зато была сохранена особая гайдновская смесь серьезности и легкости.
Четвертая часть со славянскими или, может быть, венгерскими мотивами, была полна энергии и смеха, и она тоже уходила иногда в некую витающую легкость. Да, это Гайдн, тонкая светлая романтика…
Я забыла про Эли. Вспомнила, когда музыка отзвучала и после небольшой паузы грянули аплодисменты. Он аплодировал вместе со всеми, но не с таким воодушевлением, как я.
О квинтете Моцарта соль минор я так много писала, говорила, так часто анализировала его на курсах, что знаю наизусть. От этой музыки я совершенно забываюсь, я словно сама превращаюсь в нее, теку вместе с ней, умоляю, плачу, успокаиваюсь, кричу, смиряюсь. Никакое камерное произведение Моцарта не может сравниться с квинтетом соль минор, даже концерт для кларнета с оркестром, который я раньше так любила.
Когда музыка стихла, я аплодировала изо всех сил, вскочив с места, попросту забыв о существовании Эли. Ой! Я совершенно не могла себе представить, как он воспринимал эту музыку, что творилось у него в душе.
– Тебе понравилось? – спросила я с некоторой опаской.
– Очень неплохо, – ответил он, к моему удивлению.
Неужели солгал?
– Вернемся после антракта?
– Почему нет…
– Прекрасно, тогда пойдем выпьем по чашечке кофе, – радостно предложила я.
Кажется, я смогу ходить с ним на концерты. Только надо будет следить, чтобы он чистил туфли и надевал пиджак, а не эту дурацкую ветровку.
Мы вышли из зала. Приятное дуновение ветра. Медленные движения людей, которым некуда торопиться. В голове у меня продолжала звучать музыка Моцарта.
– Подожди здесь, я принесу кофе. Хочешь пирожное? Сколько сахара? – спросил он и решительными шагами направился к очереди.
Это было мило с его стороны. Это мне понравилось. Я отошла в сторонку и начала копаться в своей черной бархатной сумочке, чтобы не встретить очередных знакомых. И ждала Эли, как ждут продолжения рассказа или фильма – с любопытством и скептицизмом.
– Как тебе эта музыка? – спросила я вновь, когда он принес кофе в одноразовых стаканчиках.
– Нормально.
– Только нормально? – не отставала я.
– Произведения были немного длинными, – признался он.
– Но ты получил удовольствие? Кто тебе больше понравился – Гайдн или Моцарт?
– Первый был радостный, а второй грустный, – сказал он, – но более красивый. Там было такое место, как будто кто-то вздыхал, словно у него разбилось сердце.
– Вот это? – я напела ему отрывок из адажио, когда скрипка издает вздохи sforzando, а другие инструменты сопровождают ее монотонными судьбоносными шестнадцатыми.
– Да-да, это.
– Извини! – и я обняла его обеими руками, в одной из которых был стаканчик с кофе, а в другой сумочка.
Он не отстранился, осторожно притянул меня к себе и поцеловал в губы.
– За что извинять? Я смотрел на тебя там, в зале.
– Ну и как, тебе понравилось то, что ты увидел? – не удержалась я от провокационного вопроса.
– Не имеет значения.
Это все, что он сказал. Он не любит, не умеет говорить комплименты даме? Или он увидел что-то, о чем лучше не говорить? Во всяком случае, у него есть интерес ко мне, это ясно даже такому скептику, как я.
После антракта, слушая квинтет Бетховена, мы держались за руки. Не знаю, помогало ли это ему слушать музыку, мне мешало. Я спрашивала себя, не впутываюсь ли я снова во что-то опасное. Почему я вхожу в это с такой скоростью, почему не медлю, не пытаюсь проверить, получше разобраться? И я знала, что не остановлюсь. Я неспособна остановиться на полпути и повернуть назад.
Это как мой принцип доедать все, что на тарелке, потому что в Индии есть голодные дети? Или это глубоко сидящее во мне упрямство, не дающее мне признать, что я выбрала неверный путь?
Между прочим, в детстве я легко отворачивалась от того, что не по мне. Помню, я одна, самостоятельно, воспользовавшись тем, что воспитательницы рядом не было, вернулась в садик, когда на прогулке оказалась в хвосте группы с мальчиком, который меня иногда бил.
Но тогда я реагировала на ситуацию, а вот отказаться от своего решения мне всегда трудно. Было в его молчании, почти равнодушии, почти даже суровости, в его выглаженной одежде что-то такое, что вызывало во мне желание дразнить его, растормошить, обрызгать водой, чтобы он обрызгал меня в ответ.
Я спросила, не хочет ли он, чтобы я подбросила его домой. Он сказал, что хотел бы заехать ко мне, а потом заглянуть к сыну.
– Они не будут уже спать?
– Может, и будут, но это неважно, у меня есть ключ. Я обещал починить холодильник. Ты хочешь погулять в субботу? – спросил он вдруг тихо, опустив голову и посмотрев на меня снизу вверх.
– А ты хочешь? – кокетливо ответила я вопросом на вопрос.
– Если ты хочешь… – он изображал равнодушие.
– Почему нет? – ответила я в его духе. Я ловко умею обезьянничать.
– У меня четыре на четыре, – сказал он.
– Что у тебя?..
– Ну, машина у меня четыре на четыре. Я выиграл ее в лотерею. Проблема в том, что ей нужно много бензина.
– Так, может, возьмем мою машину?
– В следующий раз возьмем твою.
Замечательно: он уже думает о следующем разе!
Мы припарковались около кибуца Цуба, поднялись в крепость Бельмонт на холме, прошли, минуя родники Сатаф и Эйн-Коби, до Бар-Гиоры. Буйная свежая зелень конца израильской зимы ярко и радостно пестрела цветами – анемонами, цикламенами, лютиками, дикой горчицей, кошачьими лапками. Я то и дело вскрикивала от восторга, но Эли меня не слышал. Он упруго шагал впереди, метрах в десяти от меня, в ярких высоких кроссовках, одолевая подъемы с легкостью горного козла. На плече он нес сумку с бутылкой воды и съестными припасами – бутербродами, двумя апельсинами и двумя вареными яйцами. А еще там была газовая горелка для приготовления настоящего кофе. Время от времени Эли останавливался, чтобы с близкого расстояния сфотографировать мобильным телефоном особенно красивый цветок. Иногда мобильник звонил и Эли с кем-то говорил, но я не могла разобрать, что́ он говорил и особенно – кому.
Природа делает меня романтичной. Вдруг мне никуда не надо торопиться. Вдруг нет никаких дел, никаких планов, есть только природа и я, ее частица. На мне были эластичные джинсы, я чувствовала, как они обтягивают меня. Две верхние пуговицы на блузке я не стала застегивать. Были в моей жизни мужчины, которые без колебаний уложили бы меня здесь, посреди травы и цветов, и даже случайно приблизившийся к нам осел или верблюд их нисколечко не смутил бы. Я вспоминала, как это было восхитительно, но у Эли, похоже, и в мыслях не было ничего подобного. Почувствовать мое состояние он не мог, потому что все время шел впереди, лишь иногда останавливаясь, чтобы подождать меня.
От вида с вершины холма захватывало дух. Эли снял со спины рюкзак, вытащил из сумки газовую горелку, зажег ее спичкой, налил воды из пластиковой бутылки в турку, добавил две полных чайных ложки кофе с кардамоном и поставил турку на огонь. Потом достал из рюкзака и расстелил на земле вышитую скатерть, поставил на нее две чашки и протянул мне пакет, в котором были бутерброды, вареные яйца и апельсины.
– Через пару минут будет кофе. – Он посмотрел на меня долгим взглядом. Руки у него загорелые, мускулистые и довольно волосатые, ладони широкие, по-отечески надежные.
– Вау! – вырвалось у меня.
Я обратила внимание, что и сейчас на нем аккуратно выглаженные хлопчатобумажные брюки и рубашка (может, он купил сразу несколько одинаковых?). Судя по дырочкам возле пряжки, он похудел со времени покупки ремня.
– Вкусно? – спросил он, когда я пригубила обжигающий кофе с пенкой.
– Подожди, – отозвалась я, – оно должно немного остыть.
– Да, необходимо терпение.
Мне показалось, что он имел в виду не только и не столько кофе, но не стала углубляться, а просто кивнула головой. Я действительно была согласна с ним, но терпение совсем не главная моя черта и никогда не было ею. Я все делаю быстрее других. Мне понадобилось немало времени, чтобы понять: да, меня раздражает медлительность других, но этих других раздражает моя расторопность.
Легкий ветерок освежал мои вспотевшие щеки. По всей вероятности, они были слишком красными. Так обычно бывает, когда я напрягаюсь, нервничаю или выпью лишнего.
– Как тебе этот вид? – спросила я.
– Можно было бы не брать четыре на четыре, твоя машина вполне справилась бы, – ответил Эли.
– В следующий раз?.. – задала я вопрос исключительно для того, чтобы услышать подтверждение, и он сдержанно, мягко согласился со мной.
Эли мне нравился, если не сказать больше. Мне нравились его деловитость, практичность. Хватит с меня пианистов и скрипачей, певцов и поэтов, актеров и режиссеров, хватит ипохондриков, которые беспрерывно говорят о себе и о своем творчестве, в каждой ветке видят балетные позы, символические и загадочные, а сами не могут поменять перегоревшую лампочку или заменить проколотое колесо, не говоря уж о сантехнике или о том, чтобы зажечь газовую горелку и сварить на ней кофе!
– А куда мы поедем в следующий раз? – спросила я для верности.
– Не волнуйся, я знаю все маршруты в округе, подберу тебе что-нибудь красивое.
– Мобильники оставим дома, правда? – предложила я с кокетливой застенчивостью.
– Почему?
– Потому. Чтобы мы с тобой могли побыть в тишине.
– Можно просто отключить звук. Телефон мне нужен, чтобы фотографировать.
– Разве у тебя нет фотоаппарата?
– По правде говоря, у меня есть прекрасный фотоаппарат – Rolleiflex.
– Так его и возьми!
В следующий раз мы поехали в Хурват Мидрас, район подземных пещер, по которым можно передвигаться только ползком, опираясь на локти. Тут нужен фонарик, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Эли предложил мне ползти за ним. Я собрала все физические и душевные силы, ухватилась за пятки его кроссовок и поползла на животе, сгибая по очереди колени, как младенец, который учится ползать. Мы ползли, соединившись, словно одна огромная игуана. Эли не взял с собой мобильник и, оказывается, забыл взять фонарик.
У меня есть склонность к клаустрофобии – я не могу находиться в пространстве, где нет окна или двери. Даже в открытом пространстве у меня возникает иногда ощущение удушья. А тут я проползла метров сто в полной темноте, держась за кроссовки Эли и зная, что если я отпущу их, то просто умру. Я сжала зубы и продолжала ползти. Так продолжаешь рожать, потому что нет пути назад, потому что ничего не поделаешь, потому что когда-нибудь это закончится… Прошло меньше получаса, если верить часам. Почему я согласилась лезть в эту пещеру? Почему не протестовала, не жаловалась? Когда я пойму, что безропотность не лучший путь к сердцу мужчины?
Когда мы наконец вышли, точнее говоря, выползли из пещеры, он предложил мне свою фляжку с водой и посмотрел на меня с уважением и некоторым беспокойством:
– Ты в порядке?
– В полном порядке! – решительно ответила я. – Это было немного слишком, не правда ли?
– Да, пожалуй. Жаль, что у нас не было фонарика. В следующий раз все-таки возьмем с собой мобильники.
Я равнодушно пожала плечами.
Попив воды и немного передохнув, мы сели в мою машину и поехали по горной дороге. Склоны слева от нас становились все более крутыми. Легкую машину то и дело подбрасывало на неровностях пути, словно лодку во время шторма. Она издавала странный скрежет и вдруг остановилась.
– Что случилось? – испугалась я.
– Кажется, мы застряли. Давай выйдем.
Мы вышли и попытались подтолкнуть машину, но она застряла еще больше.
– Где мы? – спросила я.
– Не знаю точно. Мобильник сейчас очень пригодился бы…
– Может, позвоним по дибуриту10 в полицию и попросим помощи?
– Полиция не очень-то работает по субботам. Да и как мы объясним, где мы находимся?
– Да… А как ты думаешь, можно оставить машину здесь и вернуться домой пешком?
– Не знаю. Если бы знать, где мы. Кажется, мы сбились с дороги.
– Так что же будет с нами?
– Сиди здесь и делай только то, что я говорю.
– Хорошо.
Эли походил вокруг и нашел длинный железный кол, похожий на остаток какого-то забора. Он пристроил свою находку сзади машины, а мне велел сесть в машину и завести мотор. Когда я сделала это, Эли изо всех сил налег на железяку, и машина приподнялась. Он крикнул мне, чтобы я повернула руль вправо. Рывок – и колеса машины выбрались из расщелины между камнями.
Я освободила место водителя, Эли занял его. Пот стекал по лбу на его широкие брови, на спине и под мышками рубашка потемнела от пота.
– Всё, поехали.
– Ты молодец, – произнесла я с чувством и посмотрела на него искоса, желая убедиться, что ему приятно слышать эти слова. Впрочем, есть ли на свете кто-нибудь, кому было бы неприятно услышать в свой адрес: «Ты молодец!»?
– Надо было взять мобильники, – сказал он с детской обидой в голосе.
Это умилило и рассмешило меня. В порыве чувств я поцеловала его в потную щеку, а потом в бровь, а потом прямо в губы.
Я пригласила Эли к себе на встречу субботы. Он сказал, что обычно в канун субботы он едет к сыну или к маме, но в этот раз приедет ко мне.
– Скажи только, где ты покупаешь мясо?
– Почему ты спрашиваешь? Из-за кашрута?
– Да. Но еще потому, что я не ем мороженое мясо. В него кладут вещества, которые вызывают у меня аллергию.
– Что ты говоришь? А в чем это выражается?
– Я опухаю.
– Что значит – опухаешь? Что опухает у тебя?
– Ну… Руки опухают, ноги… А главное – горло, живот. У меня есть таблетки от аллергии, но их нужно принимать до еды, поэтому я спрашиваю.
– Я приготовлю что-нибудь вегетарианское.
– Нет-нет, я как раз люблю мясо, но купи, пожалуйста, свежее, незамороженное. Я знаю место на рынке, могу сам купить и привезти тебе.
Я спросила его, имеет ли для него значение кашрут. Помолчав, он ответил:
– Видишь ли, я не верю в Бога, не молюсь и не соблюдаю субботу. Кипу я выбросил, когда мне было 14 лет. Меня выгнали из Бней Акива11 за то, что я пристроился сзади к тележке, запряженной осликом, а дело было в субботу! Но до сих пор мне не приходилось есть в некошерной кухне…
– Я откашерую кухню, – сказала я в приступе самоотверженности, но, заметив его скептический взгляд, добавила, что давно собиралась сделать это, чтобы религиозные друзья могли у меня есть, и что вообще не так уж это и сложно.
– Если ты делаешь это для меня, то это не считается.
– Почему не считается? – напрасно задала я вопрос.
– Я не могу тебе объяснить… Либо ты понимаешь, либо нет.
Я ничего не поняла, но сказала, что это не для него, это нужно мне самой, я всегда хотела кошерную кухню, кашрут для меня – как церемониальный этикет для королевских особ, живущих в заграничных дворцах. И он успокоился.
– В четверг, когда я буду делать на рынке покупки для мамы, я куплю для тебя свежее мясо.
Он не сказал «для нас», но я должна прекратить быть чувствительной к таким вещам. Будет хорошо для меня, если я преуспею в этом. Эли прекрасно понял, что я как миленькая буду готовить к субботе говядину, которую сама давно не ем.
– Ты сделаешь кидуш12? – спросила я отстраненным голосом.
– Совершенно случайно я знаю кидуш наизусть и совершенно случайно у меня в кармане будет кипа. – Он подмигнул, я поняла, что он шутит, и засмеялась в ответ.
Сказать ему, чтобы он принес бутылку вина, или он догадается сам?
Я купила свежайшую субботнюю халу, сварила суп из помидоров и перцев, приготовила говяжьи ребрышки со сливами, нафаршированными рисом. На десерт у нас будет ананас.
Вина Эли не принес. Разумеется, я подстраховалась на этот случай. Усадив его во главе стола, на месте, с которого видна была моя кухня, я вручила ему бутылку вина и бразды правления субботним ритуалом.
– Не знаю, что люди имеют в виду, когда говорят «Благословен ты, Боже…» и «дает пищу всякой плоти»… Молятся люди, молятся, а он не дает… – заговорил Эли после кидуша, омовения рук и благословения халы.
– Если ты так думаешь, то почему же ты придерживаешься кашрута, произносишь кидуш и соблюдаешь весь этот ритуал?
– Честно говоря, не знаю. Нет у меня ответа… – он произнес это с такой мукой, что я замолчала.
Соседи сверху задвигали стульями, громко запели «Шалом алейхем», отбивая ритм ногами.
– Ничего не поделаешь, они всегда так, – сказала я извиняющимся тоном, рассчитывая на сочувствие, но он ответил так равнодушно, что почти обидел меня:
– Мне это не мешает.
Я пошла на кухню, чтобы принести горячее блюдо, и внезапно увидела на полу мышь. Маленькую, крепенькую. По дверце кухонного шкафчика она поднялась на мраморный столик возле раковины и побежала к окну. Я закричала, кастрюля с ребрышками выпала у меня из рук. Эли вскочил со стула, схватил лежавшую на краю раковины тряпку и набросил ее на мышь. Мышь задергалась под тряпкой, но он решительно сомкнул на ней свои сильные пальцы.
– Что ты собираешься делать с ней?
К своему удивлению, я почувствовала жалость к маленькому зверьку. Мне не хотелось видеть, как Эли задушит мышь или утопит в унитазе. Не потрудившись мне ответить, мой гость вышел наружу и вернулся без мыши.
– Куда ты ее дел? Что ты с ней сделал? – закричала я, даже не пытаясь побороть гнев.
– Положил ее вместе с тряпкой в «лягушку»13 на углу дома, – ответил он таким тоном, которым говорят нечто само собой разумеющееся.
– Я не знаю ни одного мужчины, способного на такое! – сказала я убежденно и крепко обняла его.
Он не ответил на мое объятие – может быть, потому, что хотел помыть руки. Его тело было горячим, от запаха мужского пота у меня закружилась голова. Он помог мне убрать с пола нашу еду…
– Хочешь остаться у меня? – спросила я, надеясь, что он не расценит мое предложение как плату за его старания.
– Разве ты сомневалась в этом? – ответил он с достоинством.
После этого он снял с крючка цветастый фартук и сказал решительно:
– Ты готовила еду, а я помою посуду и пол.
Мне это понравилось.
Соседи сверху закончили трапезу и опять невыносимо шумно задвигали стульями. Потом сверху понеслись еще более громкие звуки. Может быть, маленький ребенок оседлал трехколесный велосипед? Затем последовала ритмичная серия ударов: похоже, дети занялись игрой в мяч.