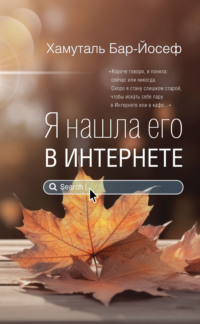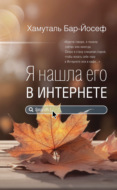Kitabı oxu: «Я нашла его в Интернете», səhifə 3
– Кажется, пора звонить в полицию! – заявила я.
– В чем дело?
– Этот шум, который они устроили над нашими головами, – он тебе не мешает?
– Что особенного они делают?
– Они сводят меня с ума этим шумом!
– Ладно тебе. Кто они такие вообще?
– Какое это имеет значение, кто они такие! Он – прораб в мастерской по изготовлению мраморных надгробий, она не работает, потому что у них пятеро детей. Ты бы видел, какой у них пол! Блестящий серый мрамор, как в аэропорту. Дважды в день она пылесосит его шумным пылесосом. Из-за этого пола я слышу, как на него падает любая мелочь, я уж не говорю о мужском топоте или о цокоте тонких женских каблуков. Каждый вечер перед сном я слышу, как они двигают кровати. А стиральная машина, которая стучит мне прямо по голове! С ума можно сойти!
Эли наморщил лоб, немного подумал и сказал:
– Знаешь что… Давай пойдем в спальню, я тебя успокою.
Еще несколько суббот мы встретили вместе. И вдруг однажды Эли пришел с чемоданом, в котором была его одежда. Я освободила для нее место в моем платяном шкафу. Выяснилось, что из-за долгов ему придется продать дом. Кто-то заказал у него большую работу и не заплатил. Он не вдавался в подробности, а я не стала допытываться. Я была счастлива. Много лет я провела в одиночестве: одна ложилась спать, одна вставала, одна ела…
Утром, когда я готовила нам завтрак, он подставлял мне свою спину и бегал со мной на закорках по всей квартире. Он называл это «абу-йо-йо» и говорил, что, когда он был маленьким, так его носил отец. Меня переполняли счастливые волны смеха и слез, трудно было не уписаться. Когда еще я так смеялась? Когда чувствовала себя такой раскованной? По его лицу я видела, что и он счастлив.
Постепенно он починил в квартире все, что нуждалось в починке: канализационные трубы, дверные замки, шумный холодильник, установил зонт над столом в саду, построил кормушку для птиц… Купил телевизор с большим экраном, отремонтировал и установил «тарелку», валявшуюся на крыше дома, что привело к весьма заметной экономии.
Мои вечерние приступы обжорства прекратились. Мне пришлось признаться ему, что я на самом деле прочитала все книги, которые стоят на полках в моем рабочем кабинете. После этого он попросил меня дать ему что-нибудь почитать. Я дала ему «Старик и море» Хемингуэя, а потом «Повесть о любви и тьме» Амоса Оза. Затем я решилась предложить ему «Преступление и наказание» Достоевского, «Превращение» Кафки, рассказы Булгакова и Якова Хургина. Читал он перед сном и по субботам, читал медленно, не торопясь, не пропуская ни одного слова. После каждой прочитанной книги ему было что сказать. Его суждения отличались краткостью и здравым смыслом.
Мы завели общую кассу для расходов на еду и моющие средства. Эли ездил на моей машине делать покупки для меня и своей мамы, потому что его машина была неэкономной. Он выиграл ее в лотерею, но она прямо-таки жрала бензин. Покупал Эли все точно по списку, который я ему вручала. Однако выбирал продукты подешевле и, соответственно, пониже качеством. Мне это не нравилось, но я никак не могла решиться сказать ему об этом. Обычно мне удается высказать критическое замечание, не обижая человека. Студенты считали меня педантичной, строгой, но вкладывающей в работу с ними всю душу. Им нравилось, что я быстрее всех преподавателей проверяла и возвращала студенческие работы.
Каждый день, выпив кофе без сахара, он выходил из дома. Возвращался, как было договорено, к ужину в шесть, мыл после ужина посуду и садился смотреть телевизор. Примерно до десяти смотрел новости и спортивные программы, а потом находил меня в постели бодрой или спящей, в зависимости от того, сколько часов я просидела за компьютером. Если он видел, что я зажигаю душистую свечку и накрываю ночник цветным платком, то начинал шутить со мной, обнимать, я отвечала ему тем же, и мы занимались любовью. Эли называл это именно так. Потом он еще долго читал…
У него была мастерская, которую он снимал в промзоне. Там он ремонтировал телевизоры. С друзей и родственников, чаще всего пожилых, денег не брал. Эли рассказывал мне, что способен починить практически все. У него возникают разные идеи, и одна из них обязательно приводит к успеху. Иногда он приносил какой-нибудь телевизор домой и разбирал его, раскладывая детали на газетах, которые расстилал на обеденном столе в гостиной. При этом он забывал обо всем на свете, как это случается со мной, когда я пишу музыку. Бывало, что он заканчивал работу только под утро.
Вот тут-то и начались неприятности. Однажды я приготовила к ужину, самому интимному нашему времени, если не считать постель, четыре великолепных блюда, накрыла на стол, открыла бутылку вина, а он не пришел. Шесть, шесть пятнадцать, шесть тридцать… Первый раз я ничего не сказала ему. Во второй раз попросила предупреждать заранее о том, что он не придет к шести. В третий раз я поела одна и оставила ему ужин на столе, накрыв бумажной салфеткой, на которой написала «приятного аппетита» и нарисовала сердце, пронзенное стрелой. В четвертый раз убрала со стола приборы и оставила ему еду на кухне… На этот раз он объяснил свое поведение тем, что просто забывает о времени, когда чинит телевизор.
– Я понимаю, я тоже забываю о времени, когда играю, пишу музыку или готовлюсь к уроку. Может быть, то, что ты делаешь, более творческая работа, чем кажется многим, но еда стынет и портится, – ответила я довольно резко.
– Я не привык в своей жизни руководствоваться часами, – сказал он с оттенком легкого презрения к часам и к тем, кто ими руководствуется.
– А как ты приходил в школу, когда был маленьким?
– Не приходил вовремя.
– Разве мама не будила тебя утром?
– Не будила. Она тоже не жила по часам.
– Но капли в глаза ты закапываешь ей по часам!
– Ты хочешь, чтобы я относился к тебе, как к глазным каплям?
Что я могла ответить на это?
– Хорошо, – сказала я, – как тебе хочется ужинать – со мной или без меня? Если все-таки со мной, то приходи вовремя или звони заранее, что ты опаздываешь и на сколько.
Его глаза сосредоточились на мне и послали мне проникновеннейший взгляд из-под широких бровей.
– Посмотрим, – коротко сказал он.
Однажды мне позвонила моя дочь Даниэла, живущая в Раанане14, и пригласила меня приехать в субботу на ее сорок пятый день рождения. У Даниэлы есть дочь, мать-одиночка, ее зовут Охала. Охала родила мальчика Яли, которому сейчас четыре года, и сделала свою маму бабушкой-одиночкой…
– Ты не возражаешь, если я приеду не одна, а с Эли? Понимаешь, все субботы мы с ним обычно проводим вместе…
– Это твой новый друг? – спросила меня Даниэла так, словно я меняю друзей каждую неделю. – Приходи с ним, что тут такого…
Я быстро сообразила, что́ тут такого. Мне придется признаться Эли, что я уже прабабушка. Но как я могу быть прабабушкой, если мне всего шестьдесят лет? Я рассказывала Эли о своей жизни, о муже и детях, каждый раз меняя детали, чтобы не выдать свой настоящий возраст. Сколько можно жить в придуманном возрасте? Лучше я расскажу ему правду, прежде чем он сам все поймет. Скажу ему это в благостное время после обеда.
Эли неторопливо, с видимым удовольствием съел все, что я приготовила на обед: салат из авокадо, овощной суп с корнем куркумы, лосось, запеченный с миндальной пастой, фруктовый салат, – и встал, чтобы помыть посуду. Но я остановила его.
– Посуда может подождать. Я хочу сказать тебе кое-что важное.
– Ты случайно не беременна? – спросил он без тени улыбки.
– Нет-нет, о чем ты говоришь! Что-то совсем противоположное.
– Противоположное беременности?
– Да нет! Послушай… – я пыталась выиграть время, от волнения перекатывая пальцами крошки по столу.
– Я тебя слушаю.
– Так вот… На сайте знакомств я написала, что мне шестьдесят лет, но это неправда…
Я замолчала.
Эли не пытался нарушить тишину. Его лицо было закрытым, что пугало и злило меня. И я ринулась вперед.
– На самом деле мне не шестьдесят.
– А сколько?
– Как ты думаешь?
– Шестьдесят два?
– Шестьдесят пять! – выпалила я.
Последовало молчание. Несколько минут мы молчали. Наконец я сказала:
– Смотри, ты можешь делать с этим все, что хочешь. Можешь принять это и остаться. Или можешь решить, что шестидесятипятилетняя женщина тебе не подходит и…
Я не решилась сказать «уйти», но это было и так ясно. Он молчал. Он не отвечал мне. Я ждала, что он сейчас встанет, сложит свои вещи, возьмет сотовый телефон, электрическую зубную щетку, электробритву, положит все в свой фургон – и всё, финита ля комедия.
Эли этого не сделал. Он застыл в неподвижности. Я сама помыла посуду. Он не стал смотреть телевизор, он не сдвинулся с места. Примерно через час он пробормотал:
– Выйду пройдусь.
Вернулся он около одиннадцати. Я лежала на широкой кровати, не зажигая свет, не почитав перед сном. Я даже не пыталась заснуть. Он разделся и лег, повернувшись ко мне спиной.
Утром он, как обычно, ушел на работу. На обед не пришел. Вернулся около десяти вечера.
– Я поел у мамы, – сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд.
– Ты рассказал ей? – спросила я. – И что?
– Она думает, что это не для меня, что мне не нужна старая ашкеназка, – сказал он.
– Понятно, – сказала я и пошла спать.
Взяла свою любимую книгу, включила свет и стала пытаться читать, глотая слезы.
Он лег рядом и обнял меня сзади. Мне понадобилось минуты полторы, чтобы повернуться к нему…
В субботу мы поехали в Раанану. Моя дочь живет в просторной квартире с гостиной, в которой можно устраивать концерты, с двумя туалетами, которые, на мой взгляд, никогда не бывают идеально чистыми, и тремя крошечными спальнями. Еда, которую Даниэла готовит, мне тоже не очень нравится, но кто я такая, чтобы ее критиковать!
– Это новый дедушка, его зовут Эли, – объяснила моя внучка Охала своему сыну Яли, который сначала посмотрел на Эли с явной враждебностью, потом встал перед ним и произнес совершенно отчетливо:
– Дедушка Эли, мы тебя не любим. Я не люблю тебя. И моя мама не любит тебя. И моя бабушка не любит тебя.
Охала, выступающая за свободу слова и за свободное воспитание детей, чтобы укрепить их уверенность в себе, не пыталась прервать сына. Эли, который сначала показался мне сбитым с толку, подождал, пока малыш закончит, потом присел перед ним на корточки и сказал серьезно:
– Но меня любит твоя прабабушка Габриэла, ты это знаешь?
Яли с большим сомнением посмотрел на меня. Я улыбнулась до ушей и закивала головой, подтверждая слова Эли. Даниэла, наблюдавшая всю эту сцену, пожала плечами, приподняла брови и закатила глаза, словно говоря, что есть вещи, которые нужно принимать, даже если они не очень понятны и не очень приятны. Она посерьезнела за последние годы и при встрече произвела на меня хорошее впечатление, но эта ее гримаса причинила мне боль.
Вечером в следующую субботу мы с Эли отправились навестить его мать. Она жила на четвертом этаже старого дома в престижном районе, недалеко от меня. Эли был прорабом на строительстве этого дома и получил в нем квартиру, которую передал родителям. Я давно заметила, что ему трудно говорить об отце. Постепенно я разобралась. Его отец был каменщиком во времена турок, затем строительным рабочим. Это был мягкий и застенчивый человек. Он умер в доме престарелых «от пыток медсестер», как выразился Эли.
Он открыл дверь своим ключом и шагнул в полумрак, пахнувший хлоркой. Я последовала за ним в темную гостиную. Там в глубоком деревянном кресле сидела в профиль к нам старая женщина – большое пятно на фоне яркого закатного света, проникающего в комнату через открытый балкон и бьющего мне в глаза. Ее руки лежали на поручнях кресла, обтянутых тканью. Старуха не пошевельнулась, когда мы вошли. У самых корней крашенные хной волосы были ярко-оранжевого цвета, буквально пламенели, вобрав в себя, словно увеличительное стекло, все внешнее освещение. Эли нажал на выключатель, без надобности включив свет.
– Привет, мама!
– Привет, Эли! – ответила она. Голос ее дважды поднялся и опустился, второй раз в хроматическом интервале и, может быть, поэтому прозвучал для меня несколько иронично.
– Знакомьтесь. Мама, это Габриэла.
Она была совершенно неподвижна. Я могла разглядеть ее всю: грузный низ, не вполне помещающийся на квадрате сиденья, изогнутые пальцы на поручнях кресла, заканчивающиеся похожими на когти длинными кривыми ногтями с блестящим красным маникюром, огромные глаза византийской мадонны, горбатый нос, крупные ноздри, глубокие морщины над узкими губами, измазанными помадой.
– Здравствуйте, очень приятно, – сказала я неискренне.
Я стояла прямо перед ней.
– Здравствуй, здравствуй, – прогнусавила она, не скрывая своего презрения и по-прежнему оставаясь величественным монументом.
– Я сделаю нам чаю, мама?
– Сделай нам чаю, почему бы и нет, – ответила она тем же тоном пренебрежительного равнодушия.
– Я передвину тебя к столу, мама?
– Хорошо. И принеси орехи. А я пока пойду в туалет.
Она встала, опираясь на ходунки, и стало ясно, что она способна двигаться.
Эли возился на кухне, а я продолжала стоять посреди гостиной. Я разглядывала пластиковые трисы15 между гостиной и балконом, лампу без абажура, зеленые пятна в тех местах на стене, где отслоилась известь, обнажая старую краску. На стенах висели картины: портреты раввинов, свадебная фотография в позолоченной раме, большая поблекшая с годами вышивка крестом с изображением озер, лесов и летящих гусей, тоже в позолоченной раме…
Я разглядывала картины и остро завидовала матери Эли. Как ей удалось достичь такой преданности со стороны сына? Какое оружие она использовала? Беспомощность? Хитрость? Заслуженный авторитет? У меня не было ни того, ни другого, ни третьего и поэтому не было никакого шанса преуспеть в безнадежной борьбе за любовь моих детей. Что до любви между женщиной и мужчиной, то, видимо, в ее глазах это никогда не было важным. А в его глазах? Что важно для него?
Когда мы сели за стол, я спросила ее, как она готовит суп кубе хумуста16, одно из любимых блюд Эли, и призналась, что для меня это слишком сложно. Потом я попросила ее рассказать о детстве, о страданиях семьи, о том, как тяжело ей было растить детей, и она вынуждена была отвечать мне.
Закончилась эта встреча тем, что я убедила ее дать мне семейные материалы – газетные вырезки с ее историями, письма, фотографии, старые документы, поздравительные открытки – и пообещала, что приведу все в порядок, наберу тексты и напечатаю книгу, которую она сможет дарить родственникам. А на обложке будет ее самая удачная фотография. Вместо «спасибо» она сказала: «Хорошо, если хочешь…» – словно делает мне одолжение.
Когда мы спускались по лестнице, Эли вдруг обнял меня сзади, положил голову мне на плечо и прошептал: «Спасибо!» Лицо мое обдало его теплым дыханием, сладкая волна прошла по всему телу, на глаза навернулись слезы. Я повернулась к нему, обняла его, и он прижался ко мне всем телом. Еще немного, и мы с ним упали бы и покатились вниз!
Когда мы пришли домой, он сказал вдруг:
– Она так сурова с тобой из-за бараков.
– Каких бараков?
– Она не может простить ашкеназам тех маабарот17.
– Эли, может быть, ты не в курсе, но в 1953 году четверть жителей барачных поселков составляли румынские евреи. Треть – евреи из Ирака, это верно. Я читала об этом в Интернете.
– Румынам было легче, у них были связи с местными ашкеназами, а мы, иракцы, очень страдали от дискриминации. Это известно.
Я прикусила язык. Я не хотела правоты. Я хотела любви.
Как-то вечером, когда мы откуда-то вернулись домой, я спросила его:
– Тебе не кажется, что ты должен участвовать в расходах на электричество, газ, телефон? Да и в оплате арноны18 тоже.
– Электричество – да, газ – да, а телефон и арнона – нет, – спокойно ответил он.
– Почему?
– Потому что квартира – твоя собственность, а не моя. Арнона взимается с владельца собственности, а телефон у меня мобильный.
– Что ты имеешь в виду? А если бы ты был жильцом?
– Я что, жилец для тебя?
– Во-первых, не кричи на меня, я не привыкла, чтобы на меня кричали…
– Я не кричал.
– Нет, кричал.
Тут я сообразила, что, если я сейчас поставлю ему условие – участие в платежах, – он может встать и уйти от меня, кто его знает…
– Ну, хорошо, подумай, – сказала я самым смиренным голосом, на который была способна, но не удержалась и продолжила: – А деньги, которые я плачу уборщице и садовнику?..
– Нам не нужны ни уборщица, ни садовник.
– Что значит не нужны? Уборщица приходит раз в неделю, садовник – раз в месяц. Это постоянные платежи.
– В такой маленькой квартире мы можем убираться сами. И садом я могу заниматься.
– Что значит «сами»? Кто что будет делать?
– Все будем делать вместе.
– Ты будешь мыть туалеты?
– Я вымою их лучше, чем твоя уборщица.
– Ты хочешь сказать, что у нас грязные туалеты?
– Да.
Наступила тишина. Тяжелый камень повис в воздухе. Эли кричит на меня, Эли говорит, что я грязная.
– У твоей мамы они чище?
– Когда я мою – чище.
Я опомнилась и приказала себе замолчать.
Утром в пятницу мы стали вместе наводить порядок в доме. Его медлительность сводила меня с ума: я успела убрать кухню и две комнаты, а он все еще возился с туалетами. Наконец он пошел на кухню и стал мыть посуду, уже вымытую мной.
– Это не совсем чисто. Посмотри! – он протянул к свету нож, ложку, стакан, показывая мне оставшиеся на них пятна от воды.
– Ну прости, перемой, я не против.
– Может, ты привыкла к грязи?
– Я привыкла к грязи?..
– Я сказал: может быть.
– Ты сказал, что я привыкла к грязи.
– Я сказал: может быть.
– Я не привыкла, чтобы на меня кричали.
– Я не кричал.
– Кричал. Если так будет и дальше, мы не сможем продолжать жить вместе.
Ночью мы помирились. Мой живот ухватил тепло его тела и впитал так, словно это было тепло камня, нагретого на солнце.
Очень осторожно, почти умоляюще, Эли попросил меня принять его детей на Седер Песах19.
– Последние годы мы делали Седер у старшего сына, но у него крохотная квартира с холодильником посреди гостиной, и мы сидим в тесноте перед этим холодильником.
– О каком количестве гостей ты говоришь?
– Ну, моя дочь с моей внучкой и ее другом… может быть, и друг самой дочери, я точно пока не знаю… сын с женой и двумя детьми и младший сын со своей девушкой.
– Уже десять, не считая нас, – тихо сказала я. – А что с моими детьми? Они обычно приходят ко мне на Песах, девять человек. Еще я всегда приглашаю Галину и ее сына, это русскую, которая приехала в Израиль и заболела здесь раком. Так что в общей сложности нас уже двадцать три человека. Не представляю, как мы все поместимся за столом.
– Не волнуйся, я организую длинный стол, принесу доски, стулья. Куплю на рынке мясо.
И я поняла, что у меня нет выбора, что наступил час испытания.
– Хорошо. Думаю, мне придется купить другую скатерть.
– Я куплю скатерть. А пасхальная посуда у тебя есть?
– Пасхальная посуда? Ты знаешь, нет…
– Как это может быть?
– Так это может быть. Ты же не религиозный, зачем тебе все это?
– Я уже говорил тебе: это то, что есть. У меня нет ответа на все твои вопросы. Просто я знаю: на Песах нужна другая посуда. И нужно откашировать кастрюли, столовые приборы, плиту, иначе это не Песах.
Я посмотрела на него долгим грустным взглядом, не пытаясь понять, и сказала:
– Сказать по правде, я готова на многое, чтобы мы были все вместе на Песах. Мне нравится быть на праздник среди людей. Я не очень люблю Агаду20, в ней есть раздражающие меня вещи – все эти рассказы про египетские казни и вся эта радость по поводу бедствий египтян… Я бы отказалась от традиционного чтения Агады.
– Мне не кажется, что мой сын согласится от чего-нибудь отказаться, он в последнее время ударился в религию.
– Да, мой зять тоже не откажется. Ты знаешь, он из Туниса. А что будет с матерью твоих детей?
– Что ты имеешь в виду?
– Где она будет на Песах?
– Понятия не имею. Насколько я знаю, у нее нет семьи в Израиле.
– Значит, ваши дети на Песах с тобой, а она останется одна? Мне это не кажется правильным.
– Так что ты хочешь?
– Пригласи ее.
– Пригласи ты сама. Я дам тебе номер ее телефона.
– Хорошо. Так что теперь нас ровно двадцать четыре человека!
Я отчаянно мыла окна, кухонные шкафчики, стол и стулья, пианино, постирала занавески, купила двадцать четыре набора из трех тарелок, большой, маленькой и глубокой, десятилитровую кастрюлю для супа и двадцать бокалов для вина.
Перед самым Песахом я загрузила кастрюли и столовые приборы в свою машину и целый час простояла в очереди, чтобы студенты ешивы откашеровали их в огромном черном котле с шумным пламенем под ним и бурлящей в нем водой.
Я сварила суп в десятилитровой кастрюле, сделала кнейдлах, печеночный паштет, гефильте фиш, студень, цимес и компот. Эли перетащил всю мебель, включая обеденный стол, из гостиной в мой кабинет, лишь пианино осталось стоять на прежнем месте. Соорудил длинный стол, расстелил скатерти. Я накрыла на стол, поставила в центр пасхальное блюдо с необходимыми ингредиентами и рядом с каждой тарелкой положила агаду. Уф! Все должно получиться!
Мне запомнилось, как его бывшая жена вошла с букетом цветом, подошла ко мне, словно к старой знакомой, протянула мне прямую, как линейка, руку и сказала: «Спасибо за приглашение». Она даже не взглянула в сторону Эли, и он тоже вел себя так, словно не видел ее.
Помню, как его старший сын сел на стул, взял еще пустой винный бокал, поднял, посмотрел на просвет и попросил меня перемыть его, потому что он недостаточно чист. Потом он дал мне пластиковую коробку с едой, которую приготовила его жена, и попросил чтобы, когда придет время, я дала ему, его жене и детям именно из этой коробки.
Помню, как мой зять из Туниса спросил, где благословения, и я обнаружила свое невежество, когда не сразу поняла, о чем речь.
Помню, как друг его дочери спросил, почему нет баранины.
Кто-то – уже не помню точно, кто именно, – читал Агаду и, забыв, что ее читают по очереди, читал и читал, и никто не пытался его остановить.
Галина и ее сын, не понимая ни слова, сидели с широкими улыбками на лицах и смущением в глазах.
Какой-то ребенок заснул. Мне тоже сразу после ужина захотелось спать, но почему-то еще и плакать, а в это время мои дети серьезно говорили с его детьми о ценах на квартиры, рекламных акциях, кулинарных рецептах и приложениях для смартфонов.
Когда все ушли, Эли сказал мне:
– Иди отдыхай, я помою посуду и со всем разберусь.
Я пошла в спальню. Соседи сверху напомнили о себе ужасно громким пением и ритмичным притопыванием. На часах было одиннадцать тридцать. Я не могла заснуть. Во мне росло раздражение. Я лежала и ждала, когда закончится этот чудовищный шум, а он все не кончался. У меня было чувство, что меня избивают – жестоко, безостановочно. Я поднялась с постели.
Эли уже снял скатерти, вытряхнул их и сложил, поставил доски в углу гостиной и взялся за горы посуды, которой была заставлена вся кухня.
– Что случилось, почему ты не спишь?
– Я хочу позвонить в полицию.
– В чем дело, что случилось?
– Я не могу больше выносить этот шум. Уже первый час. Всему есть предел!
– Что с тобой? Подожди, я поднимусь, поговорю с ними.
– Они что, твои друзья?
– Не друзья, но я его знаю. Я когда-то работал с ним.
– Ты когда-то работал с ним? Что ты делал с ним когда-то?
– Мы занимались ремонтами. Он – по мрамору.
– Прекрасно! Так вы друзья!
– Мы не друзья, но ты не должна реагировать так…
– Как так?
– Я не знаю. Но мы себя так не ведем…
– Кто это мы? – заорала я. – Кто это мы? Ты и эти соседи? Ты и твоя мать?
Я уже не соображала, что делаю. Я взяла полиэтиленовый пакет, полный мусора, поднялась на второй этаж, вошла в незапертую дверь и вывалила содержимое пакета на мраморный пол гостиной к изумлению тут же замолчавших и остановившихся певцов и танцоров.
Недолго думая, я повернулась, выскочила из квартиры и побежала вниз. Едва я заперла за собой дверь, как в дверь начали бить руками и ногами, пытаясь добраться до меня.
– Что это? – спросил Эли.
– Вот и всё, – сказала я.
В паузу между ударами я крикнула:
– Если вы не прекратите, я позвоню в полицию! Тихо!..
– На него в полиции заведено дело, он мне рассказывал. Ты думаешь, что́ ты делаешь? Что такого он тебе сделал?
Pulsuz fraqment bitdi.