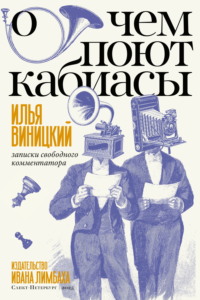Kitabı oxu: «О чем поют кабиасы. Записки свободного коммментатора», səhifə 3
Post scriptum
Спустя четверть века к теме женщины и математики обратится в «Войне и мире» Лев Толстой (возможно, не без оглядки на почитавшегося им Лермонтова). Старый князь Болконский мучает княжну Марью (то есть Мери, если по-английски) уроками алгебры и геометрии, чтобы развить в ней две «главные добродетели – деятельность и ум» и отвратить ее, как леди Аду Байрон, от пустой светской суеты и опасных женских страстей: «[М]атематика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится – слюбится»68. Но в отличие от Лермонтова консерватор-архаист Толстой, споривший с пропагандистами и пропагандистками серьезного женского образования69, стремится подвести читателя к биолого-этическому выводу-итогу: на самом деле княжне (прототипом которой, как известно, была мать писателя) нужна не математика, но подходящий муж и дети (среди которых – сам автор романа).
В 1860-1870-е годы патриархальный миф о несовместимости женщины и алгебры (а также физики, химии и физиологии), восходящий к педагогической мизогонии Ж.-Ж. Руссо и романтическим предрассудкам Байрона, оказывается объектом программной критики в русских демократических журналах и литературных произведениях (вспомним направленный против мужчин-ретроградов страстный пассаж о «синих чулках» в «Что делать?» Н. Г. Чернышевского). В реальной жизни героинями нового времени становятся русская Гипатия, дочь генерала артиллерии Корвин-Круковского Софья Васильевна Ковалевская (1850–1891) и русская Мария Профетисса – троюродная племянница М.Ю. Лермонтова, химик Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846–1919).
…В последний раз я видел ВэВээС, когда уже учился в университете. Она с кем-то страстно играла в настольный теннис в школьном вестибюле, направляя шарик в сторону соперника по какой-то убийственной баражирующей траектории. Меня она не заметила. Потом я узнал, что с каждым годом она становилась все более и более раздражительной и нелюдимой. Говорили, что на нее сильно подействовал разрыв с дочерью, не послушавшейся ее советов. А потом, если верить слухам, она вообще ушла в монастырь, унеся за его стены какую-то тяжелую и магнетически притягивающую к себе тайну.
2. «Старик Патрикеич»
Введение вкультурную биографию «Шинельного сочинителя» конца XVIII – начала XIX века
Дед Патрикеич стишки написал,
Эти стишки он в Пушдом отослал.
Бросили их, не читая, в окно —
Дедушка старый, ему все равно.
Народный филологический стишок
В каком-то доме был Скворец,
Плохой певец…
И. А. Крылов
«Эффект Кабанова». Зачин
В книге о культурном значении русской «антипоэзии» (то есть поэтических текстов, считающихся в данных культурных традиции или круге верхом бездарности и глупости) и ее символическом «короле», стихо- и рифмолюбивом графе Дмитрии Ивановиче Хвостове, мой научный руководитель И. Ю. Виницкий привел одно из своих студенческих воспоминаний, которое, как мне представляется, уместно повторить в зачине предлагаемой работы. Однажды будущий филолог с другом, будущим плодовитым писателем А. В., попали на вечер народной самодеятельности в одном из подмосковных домов отдыха, где работала бабушка А. В. Публика была в основном пожилая, а программа типичная для таких культурных мероприятий: аккордеон, народный танец, хоровая цыганочка и незатейливые фокусы. В общем, было довольно скучно.
По тут объявили новый номер – чтение собственных стихотворений очень немолодого отдыхающего, которого ведущий представил коротко и несколько фамильярно: «Старик Кабанов!»
На сцену вышел добродушный дедушка, лукаво подмигнул своим ровесникам и ровесницам и начал читать без бумажки следующие навсегда запомнившиеся мне вирши:
Я пошел сегодня в лес,
В лесу видел много чудес.
Там встретил одну старушку —
Мою очень давнюю подружку.
Потом мы с ней пошли обедать,
Потому что больше было нечего делать.
А потом мы увидели Анну Петровну
И побежали от нее подобру-поздорову,
И будем мы рады и счастливы до разъезда,
Пока не проглотит нас городская бездна, и т. д.
Публика, включая директора дома отдыха Анну Петровну, была в слезах и восторге и долго ему хлопала. После концерта Виницкий с другом встретили автора в коридоре. Он прошел мимо них, глядя с простодушным лукавством прямо в глаза.
Похоже, он ждал признания молодежи, и мы хором и совершенно искренне его поблагодарили за доставленное удовольствие.
В книге о Хвостове Виницкий назвал такое добродушно подмигивающее исполнение стихотворений «приемом старика Кабанова», рассчитанным на свою – не бог весть какую, но радушную – аудиторию. Этот эффект, как утверждал автор, симптоматичен для русской любви к рифмованию (эхолалии), опирающейся на давнюю традицию скоморошеского балагурства (достаточно заглянуть в современный Рунет или русский Фейсбук1, чтобы убедиться в том, насколько жива и активна эта традиция, которую не вывела у нас ни царская полиция, ни советская идеологическая инквизиция, ни эстетическая оппозиция).
В каком-то смысле «народный» поэт-балагур (или его стилизатор), имеющий свой круг социально и эстетически близких поклонников, является сквозным образом и своего рода скрепой русской истории поэзии, каждый раз возникая в новых, характерных для своего времени ипостасях, неизменно осмеиваемых «высокой» (культурной) традицией. Об одной из этих ипостасей и ее сатирическо-любовном восприятии «культурными авторами» конца XVIII – первой трети XIX веков речь пойдет ниже.
«Чудо странное»
В 1838 году князь П. А. Вяземский – известный поэт, сатирик, критик и хранитель литературных преданий XVIII века – опубликовал найденный в фонвизинских бумагах отрывок «Послания к Ямщикову»1, включенный им десять лет спустя в Приложение к жизнеописанию драматурга. В этом отрывке, напоминающем по своей иронической разговорной манере известное послание Фонвизина к слугам и включающем многочисленные купюры, знаменитый сатирик обращается к бездарному «низовому» стихоплету:
Натуры пасынок, проказ ее пример,
Пиита, философ и унтер-офицер!
Ограблен мачехой, обиженный судьбою,
Имеешь редкий дар – довольным быть собою.
Простри ко мне глагол, скажи мне свой секрет:
Как то нашлось в тебе, чего и в умных нет?
Доволен ты своей и прозой и стихами,
Доволен ты своим рассудком и делами,
И, цену чувствуя своих душевных сил,
Ты зависти к себе ни в ком не возбудил.
О чудо странное! Блаженна та утроба,
Котора некогда тобой была жерёба!
Как погреб начинен и пивом и вином,
И днем и нощию объятый крепким сном,
Набивший нос себе багровый, лучезарный,
Блажен родитель твой, советник титулярный!
Он, бывши умными очами близорук,
Не ищет проницать во глубину наук,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не ищет различать и весить колких слов.
Без грамоты пиит, без мыслей философ,
Он, не читав Руссо, с ним тотчас согласился,
Что чрез науки свет лишь только развратился,
И мнит, что. . . . . .
Блаженны, что от них такой родился плод,
Который в свете сем восстановит их род…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .2
По словам автора ЖЗЛовской биографии Фонвизина М.Ю. Люстрова, зачин этого ядовитого («видно, что Ямщиков ему явно не нравится») псевдопанегирического послания к неискушенному талантом и образованием стихотворцу «строится по образцу торжественных славословий, где после длинного перечня удивительных качеств адресата следует почтительная просьба раскрыть секрет его успеха». О самом этом адресате «известно лишь, что он – „пиита, философ, унтер-офицер“ и, естественно, имеющий тяжелую наследственность самодовольный дурак». Люстров также обращает внимание на то, что некоторые строки этой сатиры на «микроскопического» сочинителя, приемного (нелюбимого) сына натуры, кощунственно «отсылают к тексту молитвы „Богородице Дево, радуйся“» («благословен Плод чрева Твоего»)3, в свою очередь, восходящему к 11-й главе Евангелия от Луки («Бысть же егда глаголаше сия, воздвигши некая жена глас от народа, рече ему: блажено чрево носившее тя, и сосца, яже еси ссал»4).
Фонвизин таким образом травестийно уподобляет бездарного пиита, сына вечно пьяного титулярного советника, Спасителю («Блаженна, что от них такой родился плод, / Который в свете сем восстановит их род»). Разумеется, в фонвизинской литературной пародии (предвосхищающей, как замечает Люстров, один из «ноэлей» кн. Горчакова и – можно добавить – «Гавриилиаду» Пушкина5) чудесное явление на свет безгрешного «антипоэта» Ямщикова (так сказать, эталона пиитической безграмотности и глупости) изображается как антитеза рождению Христа.
Как известно, образ бездарного стиходея из городских низов, восходящий к античной традиции и введенный в неоклассический литературный пантеон Буало, занимает особое место в русской поэзии второй половины XVIII века – периода борьбы за эстетические ценности формирующейся европеизированной культуры. В этом контексте фонвизинский литературный «антихрист» Ямщиков предстает как своего рода комическая энтелехия пиитического уродства («апофеоз глупости», как позднее говорили поэты-арзамасцы), представляющая «демократический» аналог литературной мифологии вельможного метромана Д. И. Хвостова. Рассмотрим историко-культурную генеалогию этого образа и постараемся реконструировать реальную основу фонвизинской сатиры: кому она адресована? существовал ли этот комический пиит и философ на самом деле? какую функцию он выполнял в истории русской поэзии и литературного быта? В чем его «секрет»?
«Уличный стихотворец»
Полный текст «Послания к Ямщикову» не был обнаружен, но оно, как указывает В. П. Степанов, «было явно завершено Фонвизиным, ходило в рукописи и произвело литературный скандал»6. Исследователь ссылается на воспоминания М.Н. Муравьева, в которых это послание упоминается в числе других примечательных событий его литературной юности: «Гордый Петров приневоливал Вергилиеву Музу пить невскую воду, Фонвизин унижал свое колкое остроумие „Посланием к Ямщикову“, Капнист ссорился с рифмокропателями»7. Текст «Послания к Ямщикову» был не только известен современникам8, но и преломился в послании к самому Фонвизину, написанном его не менее едким противником А. С.Хвостовым в 1782 году (что позволяет датировать фонвизинский текст концом 1770-х – началом 1780-х годов) и опубликованном тем же П. А. Вяземским.
В 1855 году С. П.Жихарев связал героя сатирического послания Фонвизина с неким «известным уличным стихотворцем стариком Патрикеичем», «котораго необыкновенной способности низать рифмы завидует сам остроумный Марин, а оригинальными виршами так восхищается мой друг Кобяков»9. Этот Патрикеич обмолвился раз «пресправедливым двустишием»:
Горем беде не пособишь,
Натуру свою лишь уходишь10.
В примечаниях к фрагменту о Патрикеиче Жихарев приводит цитату из посвященного И. И. Дмитриеву сатирического послания С. Н. Марина (1807; подражание второй сатире Буало, адресованной Мольеру):
О, если б я умел свою принудить Музу,
Чтоб тяжких правил сих сложить с себя обузу!
Когда я с Пиндаром сравнить кого готов,
Державин на уме, а под пером Хвостов;
Сам у себя весь век я, находясь в неволе,
Завидую твоей о, Патрикеиг, доле.
Жихарев также указывает, что в свое время Патрикеич «был в моде и служил потехою многим умным людям, в том числе и Фонвизину, на которого написал он так называемую им эпиграмму:
Открылся некий Дионистр (т. е. Денис. – В. Щ.),
Мнимый наместник и министр,
Столпотворению себя уподобляет!»11
Автор «Недоросля», продолжает мемуарист, отвечал ему стихами, оканчивавшимися так:
Счастлива та утроба,
Котора некогда тобой была жереба!12
Наконец, вспоминает Жихарев, «верхом совершенства в нелепом сочетании рифм были стихи, поднесенный Патрикеичем Калужскому преосвященному». Они начинались обращением к адресату:
Преосвященному пою Феофилакту,
Во красноречии наук
Кой Вильманстрадскому подобен катаракту…13 —
«а оканчивались желанием, чтоб преосвященный заглянул любезно на его послание безмездно; но в выноске замечено, что последнее выражение употреблено только для рифмы, а сочинитель не прочь от подарка».
Замечательно, что цитируемый Жихаревым Сергей Марин в своем преложении Второй сатиры Буало на русские нравы заменяет имя французского третьестепенного поэта Жака Пеллетье, якобы ежедневно писавшего сонеты в честь заказчиков, на имя Патрикеича: «Завидую твоей, о Патрикеич! доле». У Буало:
Enfin passant ma vie en ce triste metier.
J'envie, en ecrivant, le sort, de Pelletier14.
Ср. в более раннем переводе этой сатиры князем Кантемиром:
Всю жизнь так мне провождать печально, обидно,
Трудясь, Пелетиеву счастию завидно15.
Таким образом, русский «уличный пиит» вписывается в неоклассическую традицию как образец поэта-приживальщика.
Действительно образ пиита-паразита, промышляющего подносными посланиями, часто встречается в комедиях конца XVIII века (например, Рифмохват в комедии И. А. Крылова «Сочинитель в прихожей» (1786), пишущий на заказ трагедии, комедии, поэмы, рондо, баллады, сонеты, эпиграммы, сатиры, письма, романы и еще похвальные стихи)16. В конце XVIII века Андрей Кайсаров высмеивал «в пьянстве состарившегося» «рептильного» стихотворца Ивана Тодорского, «достойно прославляющего подвиги» старого вельможи Салтыкова17. Князь П. А. Вяземский вспоминал, что сатирик Иван Дмитриев называл подобных поэтов «шинельными» («стихотворцы, которые в Москве ходят по домам с поздравительными одами»)18. В начале 1830-х годов Вяземский уподобил таким «шинельным одописцам» своих друзей Пушкина и Жуковского за стихи, посвященные разгрому польского восстания19.
Не исчез этот образ и в более позднюю эпоху. Так, он романтически преломляется в пушкинских «Египетских ночах» (1835), на этот раз демонстративно связываясь с европейской, итальянской, традицией. «У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения libretto, – гордо заявляет итальянскому импровизатору русский аристократ Чарский, озвучивая пушкинские мысли середины 1830-х годов о коренном отличии русской аристократической литературы от буржуазной западной. – У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения»20 (ходили, как мы знаем).
Наконец, в 1830-1840-е годы образ полуграмотного «низового» сочинителя и философа, постоянно ищущего деньги и покровителей, становится не только мишенью насмешек и орудием литературных полемик, но и предметом культурного (социологического, физиологического и антропологического) осмысления (статьи о «низовых» сочинителях пишут Ф. В. Булгарин и В. Г. Белинский) и даже самоосмысления. Так, один очень маленький и очень плохой (по эстетическим критериям того времени21) поэт-мещанин Александр Михайлович Пуговошников в 1833 году написал для своего альманаха «Феномен» манифест, в котором тщился доказать, что без плохих поэтов никто бы и не узнал, что хорошие поэты существуют, причем первые необходимы не только для создания эстетической дистанции, но и для того, чтобы показать, как думают, чувствуют и выражают свои эмоции «маленькие люди», не обладающие культурным капиталом своих привилегированных соотечественников. Пуговошников заключал, что если бы плохих поэтов не было, то поэзия погрузилась бы «в какое-то неподвижно-мертвое оцепенение»22.
Вернемся к адресату послания Фонвизина, ставшему в русской сатирической традиции своего рода эпонимом бедного, бездарного и на редкость комичного (для смешливых вельмож-меценатов) уличного стихотворца. Существовал ли этот «русский Пеллетье» Ямщиков на самом деле?
Пролетарий рифменного труда
Судя по воспоминаниям современников, незадачивый стихотворец (антипоэт, в нашей терминологии) с фамильярно-домашним именем был лицом хорошо известным в конце XVIII – начале XIX века. Замечательно, что над его анекдотическими стихами смеялся в своих записках сам «король графоманов» русский вельможа Д. И. Хвостов:
Известный Патрикеич [зачеркнуто: Ямщиков], написав для театра гаерскую, что под качелями, драму, принес ее к графу Аркадию Ив. Моркову, который был болен и у которого случился лейб-медик Роджерсон. Драма начиналася следующими стихами:
Послушайте, друзья, какой я видел сон.
Его не может знать и доктор Роджерсон.
Лейб-медик вслушался в свое имя и, узнав для какого театра драма изготовлена и каким стихотворцем, подарил деньголюбивому певцу пятьсот рублей с тем, чтобы он его имя вымарал23.
В 1810-1820-е годы имя Патрикеича стало нарицательным и активно использовалось в литературной борьбе. В 1814 году сатирик А. Е. Измайлов рассказывал о статском советнике [Н. И.] Кайгородове – большом любителе словесности, который «пишет комедии, акростихи буриме и проч, и проч.» «и стихи сочиняет и говорит на виршах, не лучше покойного Патрекевича». «От скуки и то хорошо, – заключал Измайлов, – есть чему посмеяться»24. (Это письмо, как заметил В. Симанков, позволяет приблизительно установить дату кончины легендарного старика-стихоплета – не позже 1814 года25.) В своем полемическом «Рассуждении о Басне» (1816) Измайлов иронизировал над культом Сумарокова: «Есть ли Сумароков наш Лафонтен, то и Тредьяковского можно назвать Фенелоном, ъПатрекейча Молиером»26.
В «Северной пчеле» от 15 мая 1828 года, было помещено направленное против Степана Шевырева «Письмо к издателям», в котором, в частности, говорилось:
Я только прошу вас сообщить ваше мнение, справедливо ли названы мыслью, и не будет ли справедливее назвать бестолковщиною – стихи Г. Шевырева, отнести ли этот философическо-аллегорический вздор к Изящной поэзии, или к новейшим подражателям блаженной памяти стихотворца Патрикеича?
Весной 1830 года «Сын отечества» помещает в разделе «Альдебаран» шутовское «Введение в биографию Патрикеича», пародировавшее «Введение в жизнеописание Фонвизина» князя Вяземского и включавшее, как показал М.И.Гиллельсон, насмешки над литературным аристократизмом пушкинско-дель-виговской партии27. Автор(ы) пародии заявляли, что на смену поэтам «придворной славы» (Ломоносову, Петрову, Державину) и «поддельным стихотворцам идиллическим» (Богдановичу и другим) в русской словесности явились «стихотворные полотеры» (здесь: литераторы, объединившиеся вокруг «Литературной газеты»). «Сии предварительный замечения», сообщалось в статье, «нужны были для приступления» к собственно биографии Патрикеича (о нем в этой статье не было сказано ни слова). Публикация завершалась обещанием: «Продолжение будет напечатано в предисловии к Сочинениям Патрикеича»28. К сожалению, ни обещанное предисловие, ни сочинения Патрикеича в журнале Греча и Булгарина не были напечатаны.
Не входя в существо и детали резкой литературной полемики начала 1830-х годов, укажем, что А. С. Пушкин воспользовался тем же приемом уподобления оппонента безграмотному низовому литератору, ответив на «биографию Патрикеича» апологией А. А. Орлова – лубочного сочинителя «на потребу толкучего рынка»29.
Надо сказать, что в русской литературной мифологии Патрикеич служил эталоном не только бездарного стихоплета (тип, восходящий к Бавию и Мевию в античной сатирической поэзии) и «шинельного» пиита-приживальщика, но и представителем веселой братии уличных стихотворцев – беззаботным, безденежным, нетрезвым и несчастным «пиитическим пролетарием», на которого образованная элита смотрит свысока, но и не без антропологического любопытства. Как писала Л. Я. Гинзбург в статье о «сервильном» поэте второй половины XVIII века Василии Рубане, за таким «утилитарным стихотворством вырисовывается социальное лицо автора – лицо литературного наемника и разночинца»30. Постараемся рассмотреть его поближе.
Явление Патрикеича
Вопреки свидетельствам современников, исследователи, писавшие о послании Фонвизина к Ямщикову, склоняются к тому, что его адресат имеет чисто литературный характер. Так, в 1914 году В. П. Семенников связал загадочного Ямщикова с героем упоминавшейся Николаем Новиковым фонвизинской сатиры «Матюшка-разнощик» (текст последней затерялся). Исследователь обратил внимание на следующие стихи из послания к Фонвизину его литературного недруга А. С. Хвостова:
Особым ты пером и кистию своею
Как яблочник писал к разнощику Матвею,
Задумал пошутить, и унтер-офицер
В минуту сделался проказ твоих пример,
Которые для затей так счастлива жерiоба,
Благословенная соделаласъ утроба31.
Из этих стихов Семенников сделал вывод, представляющийся нам весьма произвольным:
Фонвизин задумал шутливо описать («пошутить»), «как яблочник писал к разнощику Матвею», и в результате – «в минуту» был выведен какой-то унтер-офицер, являющийся примером литературных «проказ» Фонвизина. Значит, этот унтер-офицер фигурирует в «Матюшке-разнощике»32.
Более того, Семенников предложил считать отрывок из послания к Ямщикову фрагментом не дошедшего до нас «Матюшки», которого он датировал 1761 годом: «В таком случае этот „Матюшка“, вероятно, и есть выведенный в послании „пиита, философ и унтер-офицер“»33. С уподоблением Ямщикова жи-харевскому Патрикеичу, жившему еще в начале XIX века, Семенников категорически не согласился, ибо «очень трудно допустить, чтобы этот Патрикеич в течение целого полустолетия был каким-то уличным стихотворцем». По мнению ученого, под именем «Ямщиков» скрывался «кто-нибудь из писателей 60-х годов, но кто именно, на основании сохранившегося отрывка, сказать невозможно»34.
В свою очередь, Алоис Стричек полагает, что «фамилия Ямщиков вызывает ассоциацию с конюшней, автор возносит гимн утробе, которая ожеребилась этим чудом природы»35. Действительно, в контексте русской сатирической и комической традиции XVIII века имя адресата фонвизинского послания звучит как говорящее (то есть специально придуманное): грубоватые, нетрезвые, бесшабашные и удалые ямщики – частые герои произведений, обыгрывавших в числе прочих мотивов «ямщичий вздор» и «мужицкой бред». «Что же касается Ямщикова, – заключает Стричек, – то из воспоминаний современников мы ничего не могли о нем узнать. Настоящая ли это фамилия или прозвище? Не известен поэт, сколько-нибудь напоминающий Ямщикова»36.
Между тем мы имеем дело с совершенно реальной фамилией (по удивительному совпадению вписавшейся в традицию изображения неотесанного ямщика) и, скорее всего, реальным лицом, полностью обойденным вниманием исследователей.
Так, в примечании к стиху «Завидую твоей, о Патрикеич! доле!» из упоминавшейся выше сатиры Марина, перепечатанной в третьей части «Словаря древней и новой поэзии» Николая Остолопова (СПб., 1821), говорится, что это «[и]мя невымышленное»:
Патрекеич умер недавно; он писал много, но более известен сочинением: Скворец с курантами, Драма, в трех действиях с осмушкой (с. 106)37.
Идентифицировать этого автора помогают опубликованные в начале XX века воспоминания Екатерины Федоровны Юнге, дочери графа Ф.П. Толстого. Приведем соответствующий отрывок из этих мемуаров полностью:
Из последних («вольнопрактикующих шутов» екатерининских времен. – В. Щ.) известный всему Петербургу Тимофей Патрикеевич Ямщиков, про которого Державин (Фонвизин! – В.Щ.) сказал:
Натуры пасынок,
Чудес ея пример,
Пиита, философ
И унтер-офицер.
Ямщиков подносил свои стихи юмористическаго содержания разным лицам, причем была приписка в конце: а мне за труды следует «синяшка» или «краснушка» или «белянка», смотря по состоянию того, кому подносились вирши38. Он подносил свои оды и послания митрополиту Платону, Потемкину, Безбородке. В стихотворении, поднесенном маленькой Наде Толстой, были следующия строки:
Две ручки, как тучки,
Сходятся и расходятся
и при своем лучезарном корпусе
Находятся39.
В основе воспоминаний Юнге лежали мемуары ее отца, известного художника графа Ф. П. Толстого, полностью опубликованные в 2001 году. В них Толстой сообщал, что «отставной армейский унтер-офицер» Тимофей Патрикеич Ямщиков «имел вход во все дома, не исключая и самых знатных вельмож, всем подносил свои уморительные стихи во всех формах поэзии и одно смешнее другого по своей глупости»:
Над ним смеялись, его дурачили – и давали требуемые им деньги. Окроме од, посланий и других стихов, он написал объяснение, почему разные размеры стихов так называются. Например: «Александрийские стихи называются так потому, что пишутся во весь александрийский лист»40. Он часто бывал и у нас и подносил стихи не только родителям и старшей сестре, и меньшой даже, четырехлетнему ребенку, из которых я помню три следующие строчки (см. выше. – В. Щ.)41
Среди сочинений Патрикеича, вспоминал Толстой, была также трагедия «в семи действиях с осьмушкой»42.
Замечательно, что о виршах Патрикеича помнили вплоть до конца 1850-х годов. Так, приведенные выше очаровательные стихи о ручках Наденьки Толстой (достойные пера Николая Олейникова) в слегка измененной форме приводятся в напечатанной в «Русском вестнике» повести Е. Нарской (псевдоним писательницы княжны Н.П. Шаликовой – дочери известного сентименталиста и свояченицы редактора журнала М. Н. Каткова):
– А вот вам еще quatrain, продолжал Ваня (он так любил смех Клавдии)? – Слушайте:
Ваши ручки
Как две тучки
Сходятся, расходятся
И при корпусе находятся.
– Безподобно! проговорила смеясь Клавдия43.
Возможно, что слухи о легендарном унтер-офицере, пиите и философе нашли отражение в образе отставного штабс-капитана Игната Тимофеевича Лебядкина в «Идиоте» Достоевского (достаточно вспомнить его стихи о ножке).
Наконец, на основании воспоминаний Е. Ф. Юнге русская писательница, скрывавшаяся под псевдонимом Ал. Алтаев, «материализовала» образ Патрикеича в своем историческом романе «Пасынки Академии» (1961), где описывается литературный вечер у Толстых, на котором присутствуют поэт Федор Глинка и баснописец Крылов. Приведем этот фрагмент целиком:
У бильярда, на середине комнаты, кончили стучать шарами. Федор Николаевич Глинка, маленький, худенький, черненький – «совсем блошка», говорила про него смешливая Машенька, – не дал, видно, спуска своему партнеру – стихотворцу еще екатерининских времен. Федор Николаевич считал себя большим поэтом и любил всех поучать. А старик Тимофей Патрикеевич всю жизнь мастерил вирши «на случай»: восшествия на престол, именин высоких особ или получения ордена… За это ему платили кто «красненькую», кто «синенькую» – рублей десять или пять, а то и «трояк», смотря по достатку, и приглашали пообедать, поужинать. Зато истинное утешение он доставлял главным образом непритязательным вдовам своими надгробными эпитафиями и очень гордился этим. Глинка снисходительно спрашивал:
– Что же ты пишешь теперь, дружок?
– Трагедию, – тоже не без чувства собственного достоинства ответил Патрикеевич, – александрийскими стихами. Ибо стихи такого рода следует писать только во весь александрийский лист. Кругом улыбнулись такому своеобразному определению формы стихосложения.
– А сколько действий в твоей трагедии? – продолжал расспросы Глинка.
– Семь действий с… одной осьмушкой.
Машенька едва удержалась, чтобы не фыркнуть.
Крылов спокойно посмотрел на обоих из своего уголка и бросил вполголоса Толстому:
– Вот она, житейская истина. Один в благополучии, а другой, почитай что, в нищете. И оба равно плохие поэты.
– Да-с, – с гордостью проговорил Тимофей Патрикеевич, – началом сей трагедии я самим великим Державиным был отмечен в оное время.
– Ох-ох-ох! – вздохнул на весь кабинет Крылов. – И каждой-то зверушке найдется на земле место…
Он закрыл глаза и точно погрузился в привычную полудрему44.
Не можем удержаться от соблазна указать на историческую иронию (ироническую рифму), связанную с этим описанием.
Ал. Алтаев – псевдоним писательницы Маргариты Ямщиковой (1872–1959). Ямщиковой она была по мужу, от тирании которого в свое время убежала без паспорта, вещей и с маленькой дочкой45. Видимо, фамилия Патрикеича, приведенная в воспоминаниях Юнге, обратила на себя внимание писательницы, таким странным образом посмеявшейся над своем ненавистным супругом.
Pulsuz fraqment bitdi.