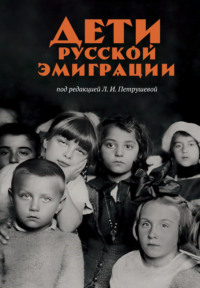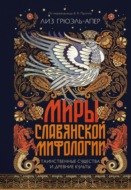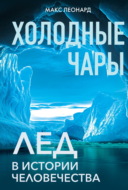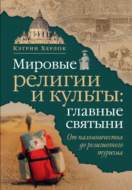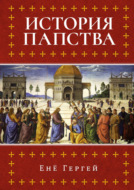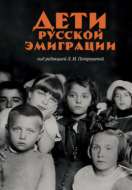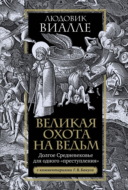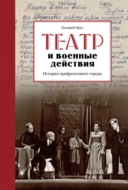Kitabı oxu: «Дети русской эмиграции», səhifə 2
Созданию широкой сети школьных учреждений в разных странах Европы способствовала деятельность и других эмигрантских организаций, например таких, как Российское общество Красного Креста, Комитеты русских эмигрантов в Эстонии и Латвии, Русский попечительный Комитет в Польше, Объединение русских учительских организаций, Союз русских педагогов в Чехословацкой Республике и многие другие.
Несомненно, очень весомый вклад в русское школьное дело внесли земско-городские объединения, восстановившие свою деятельность за рубежом, чей опыт был востребован и использован. Среди них Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей, Всероссийский союз городов, Временный главный комитет Всероссийского союза городов за границей, Всероссийский земский союз. Несмотря на то что объединения земских и городских деятелей были созданы для оказания всех возможных видов помощи – от создания бесплатных столовых до переселения беженцев в другие страны, – их роль в организации русских школьных заведений очевидна и бесспорна.
Благодаря настойчивой и целенаправленной деятельности представителей российских общественных организаций к оказанию помощи детям русских беженцев удалось привлечь внимание целого ряда международных организаций. Еще в Константинополе помощь русским беженцам была оказана Американским Красным Крестом, Международным комитетом Красного Креста, Христианским союзом молодых людей и др.
Большое значение для эмигрантских организаций, занятых созданием русских школьных учреждений, имело тесное сотрудничество с организованным в 1921 г. Верховным комиссариатом по делам беженцев при Лиге Наций, главой которого был норвежский полярный исследователь Ф. Нансен. Забота о русских детях, если и не являлась первоочередной задачей Верховного комиссариата, то все же относилась к категории важных. Представители РЗГК, РОКК и Совета послов входили в состав Совещательного комитета частных организаций при Верховном комиссариате Лиги Наций. При непосредственном участии Верховного комиссариата был осуществлен перевод русских детских учреждений, в том числе и школьных, из Турции в другие страны Европы. Решение этой задачи явилось важным фактором в создании широкой сети русских учебных заведений.
Большую роль Верховный комиссариат, а с 1931 г., после его ликвидации, Международное бюро имени Нансена сыграли в решении вопроса финансирования русских школьных учреждений. Как известно, эти организации не имели собственной финансовой базы, но они могли успешно содействовать поиску необходимых денежных средств у различных международных благотворительных и кредитных организаций. Особенно необходимой эта помощь становится в конце 1920-х – 1930-е гг., когда большинство стран мира охватил экономический кризис. Нехватка средств привела к нарастанию кризисных явлений в развитии русского школьного дела.
Однако следует признать, что самая большая заслуга в создании и деятельности русских школ принадлежала русским педагогам и воспитателям, которые в этих тяжелейших условиях не оставили своего благородного дела. Без их подвижнического труда, без их беззаветной преданности своему делу и долгу работа русской школы просто не состоялась бы. В большинстве случаев именно педагоги-эмигранты стали организаторами русского школьного дела за рубежом. Нельзя не согласиться с воспитателем Шуменской русской гимназии, А. П. Дехтеревым, который на съезде педагогов в Софии в 1929 г. сказал: «Здесь не служба, но служение детям, служение национальному русскому делу»7. Вся история русского школьного строительства в разных странах русского рассеяния подтверждает этот вывод.
Немало русских учителей оказалось в числе многих тысяч российских граждан, вынужденных покинуть Россию. Некоторые из них эвакуировались вместе со школами или в составе белых армий, некоторые выехали со своими семьями. Значительную часть русских педагогов за границей представляли учителя «имперских школ», которые оказались в изгнании в результате образования новых государств, возникших на территории бывшей Российской империи. Большую группу составили учителя, которые ранее не занимались педагогической деятельностью, но, оказавшись в эмиграции, пришли в беженскую школу, понимая необходимость обеспечения детей образованием в национальной школе.
Можно привести многочисленные примеры, когда учителям приходилось вместе со своими учениками ремонтировать школьные здания, проводить уроки в устной форме, самим готовить учебные пособия. Трудности в преподавании заключались еще и в том, что в одном классе проводились одновременно уроки для младших и старших школьников, среди которых были вполне взрослые юноши, старше 20 лет. Нередки были случаи, когда учителя по нескольку месяцев не получали заработанной платы, единственного источника их существования.
К числу подобных примеров можно отнести условия жизни и работы педагогов школы, созданной в 1921 г. для русских детей в беженском лагере в Салониках. Школа располагалась в бараке, в помещении бывшей операционной французского военного госпиталя, окна в котором были заклеены бумагой. К тому же условия пребывания здесь учителей и учащихся усугублялись тем, что лагерь располагался в малярийной местности, что не могло не отражаться на состоянии здоровья его обитателей.
Однако судьба русской национальной школы, особенно в начальный период беженства, зависела не только от экономического положения тех стран, где была открыта. Положение учителя было связано с отношением властей и общественных кругов той или иной страны к эмиграции из России в целом. В каждой из принимавших стран, где были созданы русские школьные заведения, имелись особенности в положении русского учителя.
Очень сложным оказалось положение русских педагогов в лимитрофных государствах, в которых часть выходцев из России находилась на положении национальных меньшинств, другую часть представляли беженцы из Советской России. Политика властей этих стран, направленная на выдавливание русскоязычного населения, не могла не привести к ухудшению его правового положения и, как следствие, к ухудшению положения русского учителя.
Так, в Бессарабии и Польше процесс разрушения русской школы начался еще в 1918 г., число русских учебных заведений резко сократилось, русские учителя, отказавшиеся принять гражданство этих стран, подлежали увольнению.
Не менее трудными были условия жизни русского национального меньшинства в прибалтийских странах, где число русских учебных заведений также значительно сократилось, правовое положение русского педагога стало сложным. К тому же многим из них, чтобы обеспечить себе сносное существование, приходилось искать дополнительный источник дохода. Например, в Финляндии учителя беженских школ, открывавшихся, как правило, в пригородных районах, годами безвыездно жили в дачных домиках даже в зимнее время. Работа русского учителя-эмигранта оплачивалась не только ниже работы финского учителя, но и ниже работы чернорабочего. До 1917 г. размер оплаты труда учителя в Финляндии, которая в составе Российской империи имела права автономии, был выше, чем в других регионах России. В Эстонии в летнее время, когда школьники были на каникулах, учителя ради куска хлеба вынуждены были заниматься добычей торфа, сланца, погрузкой бревен на баржи, погрузкой вагонов и др. К категории легких заработков относилась прополка огородов, сбор овощей, рыбная ловля, работа кухаркой или няней.
Отличительной особенностью пребывания русских эмигрантов в странах Центральной и Западной Европы являлась возможность для русских детей получать бесплатное начальное образование в государственных школах. Поэтому даже в таких крупных центрах российской эмиграции, как Германия и Франция, не сложилось широкой сети русских школьных заведений, способных обеспечить образование большому числу детей русских эмигрантов. Отсюда немногочисленный состав учителей, занимавшихся преподавательской деятельностью. При этом их положение и условия деятельности также нельзя было признать хотя бы стабильными.
Наиболее благоприятным признавалось положение русского педагога в славянских странах – Чехословакии, Югославии и Болгарии.
В Чехословакии создание русской школы являлось важной составной частью плана по оказанию помощи российской эмиграции, получившего название «русская акция». Все русские дети имели возможность учиться в русских учебных заведениях.
Именно в Чехословакии сосредоточились почти все центральные эмигрантские культурно-просветительские организации. Прага была центром жизни зарубежного русского учительства и русского школьного строительства. Достаточно отметить, что здесь были проведены три съезда представителей русских академических организаций – в 1921, 1922, 1924 гг., два съезда деятелей средней и низшей школы – в 1923 и 1925 гг., съезд по дошкольному образованию – в 1927 г., съезд по внешкольному образованию – в 1928 г., три съезда русских студентов – в 1921, 1922, 1924 гг., три съезда Объединения русских учительских организаций за границей. Здесь осуществляло свою деятельность Педагогическое бюро по делам средней и низшей школы, координировавшее работу русских школьных учреждений в разных странах. Здесь же издавался журнал «Русская школа за рубежом».
В беженской школе работа учителя была поручена не только профессиональным педагогам, но и представителям других профессий, среди которых были инженеры, врачи, чиновники, офицеры и др. К работе зачастую привлекали тех, кто раньше занимался частным преподаванием или репетиторством. Нередко число занявшихся преподавательской деятельностью превышало число профессиональных педагогов. Например, в Болгарии в 1924 г. из 125 педагогов, работавших в русских школах, высшее образование имели 65 человек, среднее – 41 человек. Но процент профессиональных педагогов был невысоким. В Софийской гимназии общее число преподавателей составляло 20 человек, из них профессиональных педагогов было только десять человек, в Галлиполийской гимназии – из 17 преподавателей только семь были профессиональными педагогами, в Шуменской гимназии – из 15 преподавателей только пять, в Пещерской гимназии из 12 преподавателей только два имели высшее педагогическое образование.8
Необходимость улучшения условий преподавательской деятельности и материального положения русских учителей способствовала созданию во всех странах, где обосновались русские эмигранты, уже в начале 1920-х гг. профессиональных учительских организаций. Однако со временем стало очевидным, что появилась также необходимость в создании организации, которая могла бы объединить русских педагогов из разных стран и координировать работу их союзов и объединений.
Начало объединению учителей положил съезд деятелей средней и низшей школы, созванный и проведенный в Праге в апреле 1923 г., на который прибыли полномочные представители школьных учреждений из разных стран – Чехословакии, Германии, Франции, Англии, Болгарии, Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Бельгии. Ряд делегатов, представлявших учительские союзы, приняли участие в организационном съезде русских педагогов, на котором было создано Объединение русских учительских организаций за границей. Главной задачей Объединения в первую очередь являлась забота об образовании русских детей, всемерное содействие в трудоустройстве своих членов, облегчение их материального положения, защита прав, установление связей с другими учительскими организациями и правительственными учреждениями, подготовка кадров для будущей России. При создании Объединения, без сомнения, был использован опыт работы существовавшего еще в России Всероссийского учительского союза, членами которого являлись многие педагоги-эмигранты. В 1928 г., когда отмечался пятилетний юбилей создания Объединения, в ознаменование этого события был выпущен значок с изображением К. Д. Ушинского, который носили учителя русских эмигрантских школ.
Исполнительным органом Объединения являлось Правление, которое ежегодно переизбиралось на делегатских съездах. Правление состояло из девяти человек, из которых пять должны были проживать в Праге и быть членами Союза русских педагогов средней и низшей школы в Чехословакии, остальные четыре представляли педагогические объединения в других странах: один член от Польши, один – от балканских стран, один – от западноевропейских стран и один – от прибалтийских государств. В первый состав Правления были избраны: А. В. Жекулина (председатель), В. Н. Светозаров, А. П. Петров, В. С. Грабовый-Грабовский, В. А. Ригана, Н. А. Ганс (представитель Англии, Франции, Бельгии, Германии), Н. Н. Кузьминский (представитель Латвии, Эстонии, Финляндии).
Выполняя решения 1-го делегатского съезда, Правление много внимания в своей деятельности уделило разработке проектов «Положения об управлении эмигрантской школой», «О правах и обязанностях педагогического персонала и школьной администрации», которыми должны были руководствоваться русские школьные заведения в разных странах.
Уже в начальный период своей работы Правление провело обследование положения русских учителей. Через своих представителей в разных странах и в результате переписки с местными учительскими объединениями Правление организовало распространение специально разработанных анкет среди педагогов, с которыми удалось установить связь. В результате были собраны сведения о положении учителя-эмигранта, условиях его жизни, правовом положении. Полученные данные позволили составить обзоры положения педагогов в Европе и Маньчжурии, вошедшие в книгу «Русский учитель в эмиграции», изданную в Праге в 1926 г.
В течение всего периода деятельности Правление Объединения русских учительских организаций за границей много внимания уделяло решению вопросов, связанных с ухудшением положения русских педагогов в разных странах и старалось своевременно вмешаться с целью оказания им необходимой помощи. Один из многочисленных примеров. В марте 1924 г. Министерство народного просвещения Латвии приняло решение об увольнении 75 % всех учителей-иностранцев, в том числе увольнение грозило 80 русским учителям. Немалую роль в том, что было уволено только 16 человек, сыграло Правление Объединения русских учительских организаций за границей.9
Вопросы трудоустройства оставшихся без работы педагогов были в числе приоритетных задач, стоявших перед Объединением. Серьезные попытки трудоустроить безработных педагогов предпринимались не только в европейских странах, но и в США. В результате проведенных переговоров Американское общество по образованию предложило Объединению русских учительских организаций предоставить сведения о русских педагогах за границей с тем, чтобы включить их в кандидатский список на учительские места в США. Однако желающих переехать в США в тот период оказалось всего девять человек.10
К числу важнейших задач, стоявших перед Правлением, относилось содействие созданию учительских организаций в тех странах, где процесс создания еще не был завершен или не начинался. В число таких стран вошли Франция, Бельгия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Правление Объединения предпринимало все возможные меры, чтобы активизировать работу по созданию педагогических организаций в этих странах.
На момент проведения 1-го делегатского педагогического съезда в 1924 г. в состав Объединения русских учительских организаций за границей входили две учительские организации от Греции, две от Болгарии, две от Югославии. Поэтому большое внимание Правление стало уделять работе по объединению в каждой из указанных стран существовавших там отдельных разобщенных учительских организаций в одну. Если объединение учительских организаций в русских гимназиях в Салониках и Афинах произошло относительно легко и в 1925 г. был создан Союз русских педагогов в Греции, то более трудной задачей оказалось объединение учительских организаций в Болгарии и Югославии. Главной причиной такого положения явились острые идейные разногласия в учительской среде, которые в тот период давали мало надежд на вхождение каждого из педагогов, даже при условии профессиональной заинтересованности, в единую организацию, в которой состояли членами его политические противники.
Со временем эту проблему удалось решить только в Болгарии. Общее число русских преподавателей в Болгарии к этому времени составляло 224 человека. Из них 125 человек работали в русских учебных заведениях. 99 человек – в болгарских школах, и являлись членами Объединенного союза болгарских учителей11. В ноябре 1924 г. в Софии состоялся съезд русских педагогов, на котором преподаватели русских учебных заведений объединились в Союз русских педагогов в Болгарии. До этого времени в стенах одного учебного заведения – Шуменской русской гимназии – существовало две организованные группы русских учителей, каждая из которых имела свой устав. Обе группы в своей деятельности противостояли друг другу, попытки их объединения до созыва съезда ни к чему не приводили.
В Югославии обучалась примерно половина детей эмигрантов, посещавших русские школы в Европе. Здесь осуществляли свою деятельность около 300 русских педагогов, которые неоднократно предпринимали попытки создать профессиональные объединения12. Еще в 1921 г. здесь был образован Союз русских педагогов в Королевстве СХС. Однако в 1925 г. из-за идейных разногласий из его состава вышли некоторые члены, которые создали Русское педагогическое общество, объединившее в своем составе 87 членов13. Председателем Общества был избран профессор А. П. Доброклонский. В октябре 1923 г. начал свою деятельность Союз деятелей русской демократической школы на Балканах во главе с профессором В. Д. Плетневым. В него входило 24 члена14. В феврале 1924 г. было создано Общество преподавателей русских учебных заведений, находящихся на территории Королевства СХС. Председателем Общества был профессор И. М. Малинин. Число членов Общества составляло примерно 120 человек15.
Правление Объединения русских учительских организаций за границей предприняло меры, способствовавшие объединению сохранивших свою деятельность организаций. Однако положительных результатов добиться не удалось. В состав Объединения русских учительских организаций за границей по-прежнему самостоятельными членами входили две учительские организации – Союз деятелей русской демократической школы на Балканах и Общество русских преподавателей в Королевстве СХС.
Члены Правления проводили большую работу по установлению связей с отдельными учителями, в том числе в странах с малочисленной эмиграцией. Сведения, полученные из Венгрии, Австрии, Италии и вольного города Данцига, показали, что только Италия и город Данциг имели относительно большое число проживавших там учителей. В таких условиях не возникало необходимости в создании профессионального союза русских педагогов. При этом отдельные педагоги из этих стран поддерживали тесные связи с Правлением Объединения.
К июлю 1926 г., когда в Праге был проведен 3-й делегатский съезд педагогов, в состав Объединения русских учительских организаций за границей входили: Общество русских педагогов в Болгарии, Союз русских педагогов в Греции, Союз деятелей русской демократической школы на Балканах (Югославия), Общество русских преподавателей в Королевстве СХС, Объединение русского учительства в Финляндии, Союз русских преподавателей в Германии, Педагогический совет русской гимназии в г. Данциг, Союз русских педагогов средней и низшей школы в Чехословацкой Республике, Объединение русских учителей в Англии, Союз русских учителей-эмигрантов в Эстонии, Союз русских педагогов во Франции. Не входили в состав Объединения, но имели с ним тесные контакты: Союз русских учителей в Латвии, Ковенское товарищество русских преподавателей, Варшавская группа русских учителей, ряд русских учителей в Италии. Не входили в состав Объединения учительские объединения в Китае, хотя попытки привлечь их к работе были сделаны. В дальнейшем особых изменений в организации учительских союзов не произошло. Правда, со временем некоторые из них закрылись. Например, Варшавская группа русских учителей к 1926 г. прекратила свое существование.
К концу 1920-х гг., когда начался мировой экономический кризис, деятельность Объединения русских учительских организаций, как и деятельность учительских организаций в разных странах, по объективным причинам постепенно прекратилась.
К учителю-эмигранту жизнь предъявила много суровых требований. Перегруженность педагогической работой в школе отягчалась борьбой за сносные условия жизни. Тем не менее русский учитель в новых труднейших условиях жизни не только приспособился к ним, но и оказался достойным преемником лучших традиций российской школы. Русские педагоги-эмигранты с честью выполнили возложенную на себя миссию.
«Здесь я могу окончить образование, учиться и жить спокойно и, не боясь, говорить правду. Но детство, дорогое детство прошло и не вернется никогда»
(из сочинения ученицы Шуменской гимназии)
Для преобладающего числа детей, севших за парту в русской беженской школе, начался новый этап в их жизни. Многое из того, что пришлось пережить, осталось в прошлом, школьные учителя и воспитатели стали значить больше, чем в обычной жизни. Не менее важное значение национальная школа имела для русских детей и в более поздний период, когда надежд на возвращение на Родину не осталось. Она не только позволила им получить образование, но и помогла определиться и выбрать профессию. Большинство школ было реформировано, их программы обучения стали включать в себя новые предметы, преподававшиеся в учебных заведениях Европы, что позволило в будущем рассчитывать на получение высшего образования. Это стало возможным благодаря огромному подвижническому труду русского педагога и общественного деятеля, содействие которым оказали и международные организации, без помощи которых решить эту задачу было невозможно.
Исторические источники, имеющиеся в распоряжении современных историков, дают различные показатели численности детей русских беженцев, в том числе детей школьного возраста, поскольку их регистрация не проводилась. Трудности в собирании подобной информации носили и объективный характер. Как уже упоминалось выше, русские беженские школы возникали стихийно без конкретного плана. Поэтому те данные, которые удавалось получить, достаточно быстро устаревали. К середине 1920-х гг. экономическое состояние большинства европейских стран стабилизировалось, уменьшилось стихийное передвижение беженских масс из одной страны в другую. Появлялись объективные условия для укрепления позиций уже существовавших эмигрантских школ. Тем не менее статистические сведения о численности детей и в этот период, собранные организациями, занимавшимися школьным строительством, также нуждаются в уточнении.
По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. число русских детей в Европе составляло 19 526 человек16 (по данным Американского Красного Креста – 20 500 человек: на Балканах – 10 847, в Финляндии – 6096, Эстонии – 2420, Африке – 1128).17 В. В. Руднев в книге «Зарубежная русская школа. 1920–1924» (Париж, 1924) привел как более близкие к истине следующие данные: численность детей школьного возраста, нуждавшихся в национальной школе, составляла 18 000–20 000, русская беженская школьная сеть в Европе к 1 января 1924 г. включала в себя 43 средних учебных заведения и 47 низших, в которых обучалось 8835 детей (6937 – в средней, 1898 – в низшей, в интернате содержалось 4380 детей).18
По сведениям РЗГК, к началу 1930 г. в европейских странах продолжали свою деятельность 118 учреждений, созданных для детей русских эмигрантов, которые посещали 7673 человека: дошкольных учреждений – 29 (число детей в них 820 человек), начальных школ и приютов – 52 (число детей в них 1452 человека), средних школ 37 (число детей в них 5401 человек).19
Русские учебные заведения за рубежом по своему происхождению делились на две основные группы. Одну из них составляли беженские школы, созданные в странах, где расселились беженцы из России, другую группу составляли бывшие «имперские школы», сохранившиеся на территориях государств, отделившихся от России (Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Бессарабия). Эти школы посещали дети коренного русского населения и дети эмигрантов.
Анализируя положение и перспективы развития беженской школы в Европе, 2-й съезд педагогических организаций отметил несоответствие между числом русских эмигрантов и числом детей, посещавших русскую школу в перечисленных выше условных группах. В славянских государствах с общим числом беженцев в 110 000 человек было открыто 42 школы, которые посещали 5510 учащихся, в лимитрофных государствах с общим числом беженцев 220 000 человек открыта 31 школа, которую посещали 2850 учащихся. В то же время в государствах Центральной и Западной Европы с общим числом беженцев 420 000 человек открыты 17 школ с числом учащихся 620 человек.20
Примерно таким же это соотношение оставалось и в конце 1920-х гг., что подтверждают данные РЗГК. К 1928–1929 учебному году в западноевропейских государствах осуществляло свою деятельность 120 школьных и дошкольных учреждений, в которых обучалось 7500 детей. В то же время в славянских странах, где численность эмигрантов из России составляла 75 000 человек, в русских национальных школах обучалось около 4900 детей, в местных – около 3200. В западноевропейских странах число российских эмигрантов составляло 325 000 человек. При этом в русских школьных заведениях обучалось 2600 детей, в местных – 650.21
Вопрос финансирования школьных учреждений являлся одним из самых важных. Поиск стабильного финансирования всегда оставался в центре внимания. Основные денежные средства на помощь русским беженцам в основном находились в распоряжении Парижского земско-городского комитета. Поэтому преобладающее большинство детских учреждений, созданных в Европе, были организационно связаны с этим комитетом. Средства на их содержание РЗГК получал из так называемых «русских источников» (от Совета послов), от правительств славянских стран, от иностранных гуманитарных организаций. Поскольку размеры денежной помощи, которую удавалось собрать, постоянно сокращались, РЗГК главное внимание сосредоточил на финансировании культурно-просветительских учреждений и, главным образом, русских школ с целью сохранения уже созданной в Европе их достаточно широкой сети. Кроме школ финансировалась лишь деятельность Бюро труда, некоторых юридических и медицинских учреждений в ряде стран.
На 2-м съезде педагогических организаций в докладе В. В. Руднева «Финансовое положение и перспективы беженской школы» отмечалось, что общий бюджет русских школьных учреждений составлял в 1924 г. 16 500 000 франков. Из них 3 500 000 фр. (21 %) поступило из русских источников, 13 000 000 фр. (79 %) – из иностранных источников. Бюджеты на поддержание русской школы в различных странах строились по-разному. Так, в славянских государствах финансовая поддержка составляла 97 % от общего числа поступивших из иностранных источников средств и распределялась следующим образом: 6 500 000 фр. (50 %) – Югославия, 5 000 000 фр. (39 %) – Чехословакия, 10 000 фр. (8 %) – Болгария22.
Первой приняла огромную волну беженцев с юга России Турция. По сведениям Союза земств и городов, в 1921 г. численность русских беженцев составляла 90 000 человек23, из них 2852 ребенка24. Как известно, Галлиполийский период в истории беженства длился всего около года. От огромной волны русских к 1924 г. на берегах Босфора осталось около 10 000 человек25. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, к 1926 г. в Стамбуле осталось около 5000 русских26. Политические и хозяйственные условия не позволяли думать о прочном оседании в Турции русского беженства. Условия жизни в этой стране были чрезвычайно трудными. Отсутствие жилья, безработица, голод, эпидемии сопутствовали пребыванию здесь русских изгнанников. Положение усугублялось еще и тем, что жить им пришлось в совершенно чужой и непривычной социокультурной среде без знания языка и обычаев народа этой страны. К тому же в Турции в этот период была очень сложная внутриполитическая обстановка, связанная с национально-освободительным движением, которое возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк. В 1921–1922 гг. подразделения Русской армии были эвакуированы в Болгарию и Югославию. Исходя из создавшейся ситуации, члены ВСГ, много сделавшие для создания русских школ в Турции, поставили перед собой неотложную задачу перевести их в Чехословакию, Болгарию, Сербию и другие европейские страны.
В 1920 г. несколько русских школ были открыты на острове Халки, на острове Лемнос, в беженских лагерях «Селимье» и «Тузла». В июне 1920 г. в Константинополе была открыта Крестовоздвиженская гимназия, финансовую поддержку которой оказывал американский проф. Уиттимор. В марте 1922 г. гимназия была переведена в Болгарию (в Пещеру). В декабре 1920 г. в Константинополе была открыта гимназия ВСГ с интернатом, попечительский совет которой возглавила А. В. Жекулина. Работа гимназии финансировалась Земгором. Гуманитарную помощь оказывали проф. Уиттимор, Американский Красный Крест, Международный Красный Крест и др. А. В. Жекулиной, которая использовала личное знакомство с заместителем министра иностранных дел Чехословакии В. Гирсой, в 1921 г. удалось перевести учащихся Константинопольской гимназии в полном составе, а также преподавателей и членов их семей из Турции в Чехословакию, в Моравскую Тржебову. На базе первой Константинопольской гимназии была создана вторая. Эта Константинопольская гимназия была переведена в Болгарию и дала начало Шуменской и Долне-Ореховицкой гимназиям.
В феврале 1921 г. в Галлиполи командованием Русской армии по инициативе баронессы О. М. Врангель для детей, находившихся в лагере, была учреждена гимназия, среднее учебное заведение, в котором обучался 191 ученик. Все преподаватели избирались Педагогическим советом и утверждались командиром 1-го армейского корпуса. В июне 1921 г. гимназия стала носить имя барона П. Н. Врангеля. Условия работы педагогов были чрезвычайно трудными – гимназия разместилась в палатке питательного пункта, организованного Американским Красным Крестом, ученики всех классов занимались одновременно, им не хватало столов и скамеек, учебников и тетрадей. Финансирование гимназии осуществлял ВСГ. При гимназии был создан интернат. С ликвидацией галлиполийского лагеря часть учащихся гимназии была переведена в Болгарию, другая часть вместе с учениками Константинопольской гимназии – в Чехословакию.