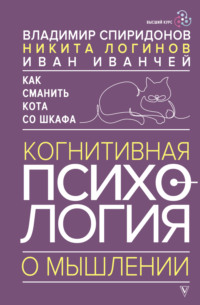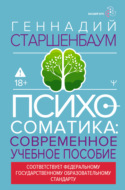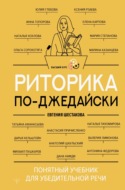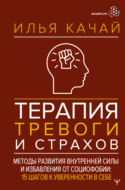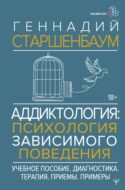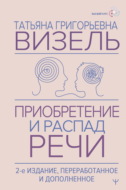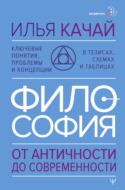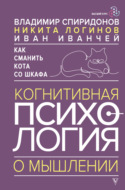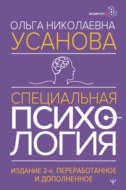Kitabı oxu: «Как сманить кота со шкафа. Когнитивная психология о мышлении», səhifə 2
Предшественники и соседи когнитивной психологии
Полезно представлять, в каком контексте возникла и делала первые шаги когнитивная психология. Здесь не обошлось без изрядной доли везения: ей предшествовали и с ней соседствовали очень интересные и сильные научные и инженерные направления7.
Начнем с самой заметной и значимой сопредельной области – развития электронно-вычислительной техники. Разработка первых устройств такого рода потребовала решения огромного количества теоретических и прикладных проблем, что имело важное значение для когнитивной психологии.
Определяющую роль в осознании возможностей и необходимости ЭВМ сыграла Вторая мировая война, недаром существенная часть ученых, о которых речь пойдет ниже, принимала активное участие в тех или иных военных разработках. Оставим за скобками технологические, материаловедческие и иные блестящие достижения, сделавшие возможным возникновение первых компьютеров, и обратим внимание на принципы работы этих устройств.
Первое, что следует отметить, – случившийся в начале XX века радикальный поворот в развитии логики. Английские математики, логики и философы Альфред Уайтхед и Бертран Рассел, опираясь на идеи немецкого логика Готлоба Фреге, совершили решительный переход от аристотелевской логики высказываний (примером может служить любое утверждение или их комбинация на естественном языке, скажем, «эта книга интересная») к новым логическим системам, что дало начало математической логике. Результаты этого прорыва были изложены в фундаментальном труде Уайтхеда и Рассела Principia Mathematica (1910–1913). Новая логика претендовала на универсальность (вплоть до описания оснований математики), в том числе за счет возможностей оперирования абстрактными символами. Всё это оказалось крайне востребованным для зарождающейся компьютерной техники.
Алгоритмическую структуру, манипулирующую абстрактными символами в ходе вычислений8, в 1930-е гг. описал английский математик Алан Тьюринг. Ныне известная как «машина Тьюринга», она, как утверждается, позволяет смоделировать алгоритм любой сложности. Состоит эта воображаемая машина из бесконечной ленты памяти, разделенной на ячейки, которые могут быть пустыми или содержать какой-либо символ из заранее заданного набора («алфавита»), и специального устройства чтения-записи (иногда его называют управляющим). Устройство может перемещаться по ленте в обе стороны и считывать информацию из ячеек, стирать или записывать в них буквы. В каждый момент времени машина находится в определенном состоянии: она считывает букву из ячейки и может перейти в следующее состояние, т. е. записать ту или иную букву в ячейку и передвинуться на одну позицию влево или вправо, а может и остаться на месте. Действие машины целиком определяется ее состоянием и прочитанной буквой. Если состояние является заключительным, машина останавливается. Возможные состояния машины задаются ее программой: совершая операции, она действует автоматически, не требуя управления человеком. Программа как запускает машину, так и останавливает ее. Машина Тьюринга – удачный прообраз действий, которые совершает большинство современных компьютеров.
Несмотря на свои громадные размеры, ненадежность и невеликое быстродействие, первые ЭВМ оказались очень удобным объектом для сравнения с человеком. Имея строгое описание действий машины в ходе проведения вычислений, разумно задаться вопросом, как аналогичные процессы происходят в человеческом мышлении. (Ведь Тьюринг пытался формализовать именно «человеческие» рассуждения.) Четкая логическая организация работы первых компьютеров позволила задать очень конкретные вопросы про процессы переработки информации человеком: про ее получение, кодирование, хранение, поиски в памяти и т. д. И это в заметной степени направляло психологические исследования. Так что появление компьютерной метафоры было, конечно, совсем не случайным.
Тьюрингу принадлежит и прекрасная идея о том, как проверить, мыслит ли машина, не вступая в очень сложный разговор о том, что значит мыслить. Группе наблюдателей предлагается отличить ответы компьютера на вопросы, заданные в письменной форме на естественном языке – русском, английском, китайском и т. д., – от ответов живого человека. Понятно, что мы маскируем передачу вопросов и получение ответов: для принятия решения наблюдатели могут ориентироваться только на тексты – их форму и содержание. Подобная процедура получила название «тест Тьюринга». И если наблюдатели не смогут отличить ответы компьютера от ответов человека или сомневаются в своем выборе, то считается, что компьютер (специальная программа) прошел этот тест. Значит, машина может мыслить.
К настоящему моменту известно по крайней мере одно успешное прохождение теста Тьюринга. В 2014 году быстродействующий компьютер по имени Eugene смог настолько хорошо притвориться человеком, что убедил треть группы экспертов в ходе специальных тестов. Это ровно столько, сколько нужно. Занятно, что авторы программного обеспечения (программисты Владимир Веселов, Евгений Демченко и Сергей Уласеня) воспользовались целым набором психологических приемов, чтобы добиться правдоподобия. Их система изображала тринадцатилетнего подростка, который «претендует на то, что знает всё на свете, но в силу своего возраста не знает ничего», обладает специфическими чертами характера и неважно владеет английским языком.
Нужно добавить, что с развитием больших лингвистических моделей прохождение теста Тьюринга можно считать технической задачей. Такие проекты, как ChatGPT, показали, что при очень большом количестве данных искусственные нейронные сети могут не только сымитировать связную речь, но и создать впечатление мыслительного процесса. При этом мало кто среди ученых и среди программистов (за небольшим исключением9) считает, что ChatGPT обладает сознанием и реальным мышлением.
Принципиальное значение для будущей когнитивной психологии имели работы по теории информации американского инженера и математика Клода Шеннона. Ему принадлежит несколько основополагающих идей в интересующей нас области.
Еще студентом Шеннон обнаружил, что два состояния электрического реле – включено и выключено, – как и других аналогичных устройств, можно описать с помощью взаимоисключающих логических значений истины и лжи. Затем он выдвинул и обосновал предположение о том, что с помощью электрических схем (цепей) можно моделировать основные операции мышления и на этой основе совершать любые (логические) вычисления. Собственно, этим шагом была доказана возможность создания и заложены теоретические основы любых ЭВМ. Шеннон приложил массу усилий для обоснования тезиса о том, что информацию можно и должно рассматривать в отрыве от любого конкретного предмета или носителя – как выбор между двумя равновероятными альтернативами. Приведем по этому поводу еще одну знаменитую цитату Винера: «Информация – это информация, а не материя или энергия»10. Минимальной единицей информации, введенной Шенноном, является бит (сокращение от английского binary digit – двоичная цифра). Это объем информации, позволяющий совершить выбор одного сообщения из двух альтернатив. Любой бит информации сокращает количество равновероятных альтернатив вдвое.
Подобные представления об универсальной природе информации, которая может передаваться и «пониматься» совершенно различными устройствами, предвосхитили идеи когнитивных психологов об универсальных когнитивных процессах, которые оперируют информацией с опорой на символьную репрезентацию.
Не меньшую роль сыграло еще одно своеобразное междисциплинарное исследовательское направление – кибернетика (от др. – греч. kybernetike – руководство, управление). Винер и другие ранние кибернетики постулировали, что процессы управления в машинах, живых организмах и обществе в целом чрезвычайно похожи. И поэтому их можно изучать и описывать, опираясь на единые теоретические принципы. Такое сближение позволило рассуждать не только о живых организмах, но и о машинах, «стремящихся к своим целям» и для этого оценивающих (вычисляющих) разницу между целью и фактическим состоянием дел, чтобы уменьшить ее с помощью последующих усилий. Так были введены понятия передачи информации и обратной связи, на основе которых живая или неживая система может целенаправленно действовать и оценивать результаты своих попыток. Нетрудно приложить подобные идеи к нервной системе, которая тоже передает информацию и управляется положительными и отрицательными обратными связями. В этом случае можно анализировать ее на разных уровнях, в том числе и как целое (т. е. живое существо), которое стремится к какой-либо цели и управляется на основе перерабатываемой по ходу дела информации.
Еще одним мощным авторитетным предшественником когнитивной психологии был бихевиоризм (от англ. behavior – поведение) – исследовательское направление, считавшее предметом своего изучения поведение. Наиболее радикальные представители этого подхода (например, один из его создателей, американский психолог Джон Уотсон) в первые десятилетия ХХ века настаивали на том, что индивидуальное сознание человека, его «внутренний мир», недоступно для научного исследования. Таким образом, на долю психологической науки оставался поиск взаимосвязей между стимулами (внешними измеряемыми физическими воздействиями на живой организм) и реакциями (такими же внешне фиксируемыми ответными действиями организма). При этом все процессы между стимулом и реакцией оказывались в «черном ящике», т. е. недоступными для изучения. Первые бихевиористы оказались прекрасными специалистами в экспериментальном анализе поведения, особенно процесса научения – формирования новых навыков.
Позже классический бихевиоризм Уотсона сменился значительно более теоретически изощренным подходом, получившим название «необихевиоризм» («новый бихевиоризм»). Его представители (например, американские психологи Эдвард Толмен и Кларк Халл) продолжили совершенствовать методы экспериментального анализа поведения, но при этом в значительной степени усложнили свои теории. Если для их предшественников поведение имело лишь внешнюю структуру, то теперь в схему между стимулами и реакциями были введены так называемые промежуточные переменные. Например, цели, когнитивные карты, гипотезы и другие процессы, которые в значительной степени расширяют круг ответных действий организма и делают их более гибкими и точными. Таким образом, необихевиористы научились описывать сложное целенаправленное поведение. (За введение когнитивных переменных теорию Толмена даже иногда именовали когнитивным бихевиоризмом.) Но чтобы остаться в пределах своих запретов на изучение внутренней реальности, Толмен изменил принцип объективности, принятый в этом подходе. До его работ объективным считалось то, что можно непосредственно наблюдать и измерить. А новый принцип утверждал, что объективным является то, что необходимо для объяснения: обученная крыса, т. е. знающая путь к кормушке, в лабиринте ведет себя так, как будто у нее есть когнитивная карта этого лабиринта. Но это просто теоретическая гипотеза исследователя, а не описание внутреннего мира крысы. При таких основаниях психология могла быть не только экспериментальной, но и в какой-то степени спекулятивной (теоретической и рассуждательной) наукой. Впоследствии это не раз было использовано когнитивистами.
Кроме того, бихевиоризм оказался значим для когнитивной психологии и еще в одном отношении. Преодолевая запрет на изучение внутренней реальности, связанный с засильем работ по изучению поведения в американской психологической науке, когнитивисты, если пользоваться сильными метафорами, добились «возвращения образов из изгнания»11, ввели «в науку понятия, долгое время находившиеся „не у дел“»12, «вернули в экспериментальную психологию сознание»13. Т. е. совершили ни больше ни меньше когнитивную революцию! Этот термин широко используется для описания событий середины 1950-х гг. Так что бихевиоризм выступил не просто предшественником, но и историческим противником и даже антиподом нового научного направления, несмотря на явное стремление обеих сторон к доказательности и экспериментальной точности.
Еще одним заметным предвестником когнитивной психологии можно считать разнообразные (в основном европейские) исследования познавательных процессов и сферы познания в целом. Они вполне успешно существовали и до появления информационных представлений когнитивной психологии. Формально эти исследователи и исследовательские группы принадлежали к разным университетам, странам и теоретическим школам, но именно они задавали фронтир (передний край) в психологическом изучении познания. Когнитивным психологам пришлось апеллировать к этим работам: спорить, развивать или уточнять их. Кроме того, в связи с жутковатыми политическими событиями в Европе 1930-х гг. и Второй мировой войной многие европейские ученые перебрались в США и оказались непосредственными участниками становления когнитивной психологии. Отметим несколько значимых имен и исследовательских направлений.
Группа в основном немецких психологов создала в первой трети ХХ века новый мощный подход – гештальтпсихологию (от нем. Gestalt – фигура, образ, форма). Гештальтисты начали с исследования восприятия. Они экспериментально обнаружили целый ряд новых феноменов, например фи-движение – «кажущееся» движение, которое имеет место только в сознании наблюдателя (рис. 1.3), и выявили целостную природу образов восприятия. В несколько парадоксальной форме эту идею можно представить так: целое больше совокупности своих частей. Имеется в виду, что у целого есть свойства, которые есть только у него и которые отсутствуют у его составных частей по отдельности. В примере с феноменальным движением очень непросто объяснить, как из набора статичных изображений возникает сильная иллюзия движения (как и в случае с кинопленкой, состоящей из неподвижных кадров). И этого точно нельзя добиться, просто суммируя ощущения, возникающие в связи с активностью нейронов сетчатки. Такое целое, которое не сводится к своим частям, и есть гештальт.

Рис 1.3. Фи-феномен – иллюзорное движение. Образ движения, возникающий при последовательном включении неподвижных источников света
Затем, помимо исследований восприятия, гештальтпсихологи стали изучать и мышление – процесс решения задач. В серии экспериментов с шимпанзе немецкий психолог Вольфганг Кёлер смог показать, что они способны к интеллектуальному поведению – установлению не наглядных, а функциональных связей между частями проблемной ситуации, когда каждая часть задачи встроена в структуру отношений с другими элементами. И за счет этого животное находит решение – путь к цели. Момент, когда обезьяна обнаруживает такие связи между условиями задачи и существенно изменяет свое поведение, Кёлер назвал инсайтом14 (озарением). В этот момент происходит резкое изменение, и все части проблемной ситуации находят «свое» место в гештальте. Например, обезьяна, стремясь достать банан, подвешенный высоко к потолку клетки, может использовать деревянный ящик, лежащий в стороне, в качестве опоры для прыжка (рис. 1.4). Для этого его нужно установить в нужном месте клетки – прямо под бананом. Цель голодной обезьяны – банан. Ящик – средство достижения этой цели. Функция ящика – «удлинить» прыжок. Когда обезьяна ставит ящик в нужное место клетки, прыгает с него и достает банан, Кёлер говорит о гештальте. После инсайта все части проблемной ситуации во взаимосвязи получают свои функции, что и ведет к достижению цели. Вскоре подобные теоретические представления были подтверждены и в ходе экспериментов с людьми. Хотя люди способны решать значительно более сложные задачи, принципиально их мышление работает аналогично.

Рис. 1.4. Эксперименты В. Келера с шимпанзе
Швейцарский психолог Жан Пиаже разработал чрезвычайно подробную теорию онтогенетического (возрастного) развития человеческого интеллекта и существенно обогатил само понимание этого явления. Вектор возрастного развития интеллекта является практически универсальным: набор и последовательность этапов, как казалось этому исследователю, едины для всего человечества.
На первом этапе происходит координация восприятия и моторики (движений) на основе целенаправленных действий и возникает сенсомоторный интеллект. Здесь формируется способность действовать с предметом, учитывать его очертания, вес, фактуру, совершать с ним управляемые движения.
Второй этап стартует от того момента, когда ребенок начинает говорить. На этом шаге развития действия координируются на основе образов, и именно здесь возникают знаменитые феномены несохранения количества, объема, величины, открытые Пиаже (рис. 1.5). В отечественной психологии их именуют феноменами Пиаже. Ребенок интуитивно выбирает один наглядный признак в качестве замены сложного целого: скажем, высоту столба жидкости в качестве замены для ее объема (см. третью строку таблицы на рис. 1.5). Иногда оба первых этапа объединяют под названием «дооперациональный интеллект».

Рис. 1.5. Феномены Ж. Пиаже
Третий этап развития – этап конкретных операций. Это согласованные между собой и хорошо управляемые перестановки или преобразования любых конкретных предметов или веществ: пуговиц, воды, игрушек, чисел – практически чего угодно. Они выступают основой для координации образов и формирования первых настоящих понятий, т. е. обобщений, объединяющих группы предметов на основе общего для них признака. Появление конкретных операций приводит к исчезновению феноменов Пиаже. Как показали более поздние исследования, конкретные операции появляются только в результате специально организованного обучения (например, в начальных классах школы).
Заключительный шаг в развитии интеллекта – этап формальных операций – также связан со школьным обучением, но уже в старших классах. Это процедуры более высокого уровня. На их основе происходит координация конкретных операций, и индивидуальному мышлению становятся доступны такие формальные системы, как алгебра или логика.
Третий и четвертый этапы развития относятся к операциональному интеллекту. Пиаже считал, что этапы развития закономерно сменяют друг друга и достаточно жестко привязаны к возрасту ребенка.
Английский психолог сэр Фредерик Чарльз Бартлетт (один из трех известных нам психологов, которые за свои исследования и разработки получили рыцарский титул) – заметная фигура в области изучения человеческого познания. Две его наиболее известные книги были посвящены процессам памяти и мышления.
Экспериментально изучая запоминание, Бартлетт обнаружил, что память не фиксирует информацию буквально, а видоизменяет ее по определенным «правилам». Это не было откровением для его современников, однако, опираясь на остроумную методику, он смог многое узнать об этих правилах. Наиболее известная эмпирическая процедура Бартлетта напоминает игру «Испорченный телефон» (сам он называл ее последовательным припоминанием): первый участник, выслушав относительно длинное сообщение от ведущего, пересказывает его второму, не слышавшему исходного текста, второй – третьему, третий – четвертому, и так семь или восемь раз. Понятно, что по мере пересказа содержание текста сильно изменяется: количество информации сокращается, многие детали и подробности выпадают, меняется состав описанных действующих лиц и предметов, а также их свойства, появляются неожиданные добавки со стороны участников и т. д. Однако за кажущейся произвольностью изменений встает относительно жесткая схема, которая направляет и ограничивает воспоминания участников. В случае наличия какой-то истории в исходном сообщении именно ее сюжет и будет управлять пересказами. Бартлетт смог выделить и проанализировать несколько типов подобных схем, структурирующих припоминание.
Приведенные краткие описания различных исследовательских подходов показывают, что к началу 1950-х годов психология познания была вполне уважаемой и развитой областью, и когнитивным психологам пришлось очень постараться, чтобы не затеряться на этом насыщенном фоне и продвинуться дальше предшественников. Три названных европейских исследовательских направления очень по-разному повлияли на раннюю когнитивную психологию. Так, о воздействии гештальтпсихологов и Пиаже можно говорить только в отрицательном смысле. Сторонники информационных представлений о психике не слишком жаловали сложные познавательные структуры, стремясь к более простым («элементарным») описаниям. Также когнитивные психологи поначалу практически не задумывались и об изучении развития психики. Напротив, понятие когнитивной схемы было заимствовано и получило широчайшее распространение в исследованиях и публикациях того периода, позволив удачно описать целый ряд разноплановых результатов.

Рис 1.6. Схема когнитивных наук Дж. Миллера
Отметим еще целую группу наук-соседей, которые вместе с когнитивной психологией претендовали на название и статус когнитивных. Очевидец и участник тех исторических событий американский психолог Джордж Миллер представил их набор в виде схемы-шестиугольника (рис. 1.6). И когнитивная лингвистика, и нейронаука, и философия (сознания), и антропология, и искусственный интеллект (область моделирования с помощью компьютера процессов решения задач человеком) наряду с когнитивной психологией выступали активными участниками междисциплинарного проекта «Когнитивная наука». Редкий случай, когда рождение нового научного направления можно датировать с точностью до дня. С точки зрения Миллера, это 11 сентября 1956 года, второй день симпозиума по проблемам переработки информации в Массачусетском технологическом институте. В этот день был сделан целый ряд докладов, заложивших основы исследования познания с позиции информационного подхода15. Перечислим их, чтобы подчеркнуть междисциплинарный характер происходящих событий. А. Ньюэлл и Г. Саймон представили один из первых вариантов искусственного интеллекта – программу «Логик-теоретик», Н. Рочестер рассказал о проверке с помощью компьютера психофизиологических теорий Д. Хебба, В. Ингве – о статистическом анализе речевых явлений (пауз), позволяющем изучать синтаксис, Н. Хомский сделал доклад о порождающей грамматике, Г. Шикали – об опознании изображений, Дж. Миллер – о функционировании и объеме кратковременной памяти, Д. Светс и Т. Бёрдсолл – об основных положениях теории обнаружения сигнала. Примечательно, что за столь разнородным содержанием участники семинара увидели нечто общее и объединяющее их всех.
Рисунок 6 также иллюстрирует связи между шестью науками: сплошные линии обозначают области междисциплинарных исследований, сложившиеся к 1978 году16. Все шесть потенциальных составных частей будущей науки связывал интерес к «внутренним» процессам, участвующим в переработке информации. Предполагалось, что это достаточная причина для объединения: на основе общих намерений и совместных разработок постепенно сформируется единая когнитивная наука. Увы, этот план со всей очевидностью потерпел неудачу. Глядя из 2024 года, мы видим, что великого объединения не произошло. Хотя междисциплинарных исследований стало существенно больше: на приведенной схеме практически все линии должны стать сплошными. Поскольку эта история еще не закончилась и названные науки продолжают активно развиваться (в том числе в плане междисциплинарных исследований), точку здесь ставить явно рано. Однако пока своеобразие предмета и методов каждой из них явно перевешивает возможные тенденции к сближению.
Таким образом, когнитивная психология появилась в весьма насыщенном научном и не только контексте и стала достойным продолжением идей, часть из которых была сформулирована еще до Второй мировой войны, а часть возникла в ходе решения технических, медицинских, социальных, управленческих и т. д. проблем, которые принесла с собой война. Когнитивные исследования стали синтезом целого ряда разработок (некоторые мы кратко описали выше), что дало возможность посмотреть «свежим взглядом» на человеческое мышление и психику в целом.
Отметим еще один момент, характерный для любой новой области исследований, особенно на первых этапах ее развития. Участники когнитивной революции с удовольствием вспоминали атмосферу свободного научного поиска, царившую в первые годы становления когнитивной психологии, – многочисленные семинары и встречи на конференциях, где обстановка располагала к свободному обсуждению и высказыванию нетривиальных идей, отсутствие жесткой научной иерархии, когда вне зависимости от предыдущих заслуг все располагают равными правами на обладание истиной. Подобная интеллектуальная атмосфера – еще один полноправный участник возникновения когнитивной психологии.