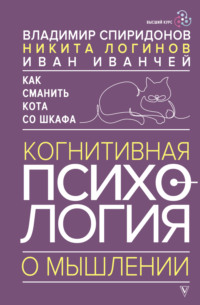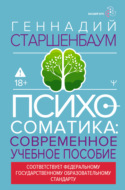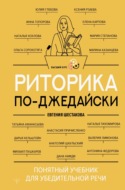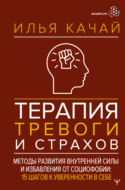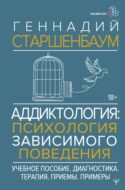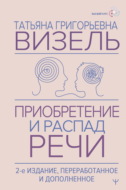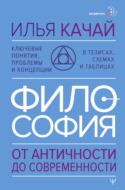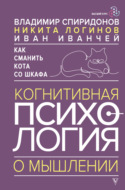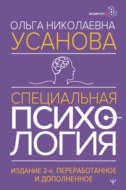Kitabı oxu: «Как сманить кота со шкафа. Когнитивная психология о мышлении», səhifə 3
Становление когнитивной психологии в СССР
Вклад отечественных ученых в развитие когнитивной психологии формально исчезающе мал: описанные события происходили в других странах (в основном в США), от которых СССР был отделен железным занавесом. Но поскольку наука имеет не национальный, а универсальный характер, процессы развития соответствующих фундаментальных и прикладных областей обнаруживают много сходства. Чтобы создать собственную компьютерную технику и устройства, обладающие искусственным интеллектом, любой стране необходимо решить примерно один и тот же набор теоретических и технических проблем. Поэтому развитие информационного подхода шло в СССР схожим образом. Любопытно взглянуть, как примерно аналогичные процессы разворачивались в совершенно иных социальных условиях. И почему когнитивная психология не возникла тогда и в нашей стране.
Для начала имеет смысл вкратце описать состояние тех отечественных областей исследования и практических разработок, синтез которых на Западе привел к становлению информационного подхода в психологии и не только в ней. Несмотря на заметную изоляцию отечественной науки от мировой, отдельные области исследований были на высоком уровне, в первую очередь биологические науки – точнее, та их часть, что непосредственно относится к нашему рассказу. Несколько блестящих теоретиков в условиях жесткого идеологического (а часто и персонального) давления смогли последовательно раскритиковать наивные условно-рефлекторные представления о работе центральной нервной системы, предложив значительно более сложные и правдоподобные теории.
Сложное поведение и человека, и животных плохо поддается описанию на языке условных рефлексов. Подобная критическая работа по отношению к классическому бихевиоризму, который был очень похож на концепцию отечественного физиолога И. П. Павлова, была проведена в американской психологии еще в 1920–1930-х гг., после чего стимул-реактивные теории в значительной степени сошли со сцены. В нашей стране жесткий идеологический диктат со стороны государственных органов задержал этот процесс на несколько десятков лет, требуя от авторов критических исследований в этой области изрядного личного мужества.
Вместо принципа рефлекторной дуги Павлова, с помощью которого могут регулироваться только самые простые движения (такие как болевые или оборонительные рефлексы), были предложены теории, описывающие движение как сложную систему, управляемую не только внешними стимулами, но и собственными целями и задачами живого существа. А главное – обратными связями, информирующими о достижении или недостижении цели и об отклонении от выбранной траектории движения к ней. Иными словами, в новых теориях движение имело не «линейную», а «кольцевую» организацию.
Обратные связи были представлены в теории функциональной системы физиолога Петра Кузьмича Анохина под названием «санкционирующая афферентация» (от лат. afferens – приносящий), а в более поздних работах – «обратная афферентация». Первый термин появился еще в 1935 году – даже раньше, чем у основателя кибернетики Винера. Чуть позже обратные связи были описаны в теории рефлекторного кольца физиолога Николая Александровича Бернштейна (рис. 1.7) под названием «сенсорные коррекции». Обе названные концепции описывают построение движения (а теория Анохина – и не только движения) как гибкий, изменяющийся по ходу дела процесс, реализующий собственную программу. Обратные связи позволяют реализовывать очень сложные действия, корректируя их в зависимости от промежуточных результатов.

Рис. 1.7. Рефлекторное кольцо Н.А. Бернштейна
В теории Бернштейна можно найти и первые идеи о кодировании информации и смене кодировки в ходе решения двигательной задачи: программа движения исходно представляет собой образ будущего результата – цель, которую нужно достичь. Но чтобы начать движение к нему, образ «переводится» на язык моторных команд, руководящих движениями. В целом обе названные теории были созданы для описания активного поведения, которое не является реакцией на внешние стимулы, но направлено на достижение собственных целей живого существа. Для своего времени эти концепции с такой задачей справлялись вполне успешно.
Еще одним важным направлением исследований выступала нейропсихология – пограничная область между психологией и нейронауками, которая изучает взаимодействие работы мозга и психических процессов как в норме, так и при нарушениях того или другого. Одной из ключевых фигур нейропсихологии выступал психолог Александр Романович Лурия, фактически один из создателей этой области исследований в нашей стране и яркий представитель одной из ведущих отечественных научных школ – культурно-исторической психологии. Боевые действия во время Великой Отечественной войны повлекли за собой появление огромного количества раненых, и Лурия активно исследовал нарушения мозговых механизмов психики у раненых с локальными поражениями мозга. Кроме того, как и многие другие специалисты (в том числе Анохин и Бернштейн), он посвятил много усилий лечению и реабилитации таких людей.
Теоретические идеи Лурии о взаимодействии мозга и психики объединили, с одной стороны, культурно-исторические представления о развитии и работе человеческой психики, а с другой – результаты более традиционных исследований связи психики и мозга. Лурия смог предложить теорию, пригодную для анализа этих связей как в нормальных, так и в патологических случаях (например, при ранениях или травмах).
Культурно-исторический подход классика отечественной психологии Льва Семёновича Выготского описывает психику взрослого человека как включающую в себя высшие психические функции (ВПФ). Среди них можно назвать произвольную память, произвольное внимание, вербальное мышление и др. Все они характеризуются следующими качествами: произвольностью (вы можете в определенных пределах самостоятельно управлять названными психическими функциями), осознанностью (вы осознанно ставите себе задачу запомнить или быть внимательным) и социальностью (ВПФ формируются прижизненно за счет усвоения культурного опыта). Последнее приводит к тому, что такие функции обладают особой структурой, включая в себя культурные средства – знаки, с помощью которых только и можно управлять своей психикой и своим поведением.
Любая ВПФ состоит из ряда необходимых составных частей. Очень упрощая, можно сказать, что связь между психическими функциями и мозгом организована как бы на двух уровнях: на уровне отдельных звеньев, из которых строится ВПФ, и на уровне всей функции, связанной с мозгом как целым. Примерно так можно описать системную локализацию ВПФ в головном мозге.
Эти идеи Лурия дополнил теорией о трех функциональных блоках мозга (рис. 1.8): один связан с активацией, т. е. с количеством (энергетических) ресурсов, которые имеются в наличии и могут быть потрачены на решение текущих задач, второй отвечает за переработку поступающей информации, а третий – за планирование и организацию поведения.

Рис. 1.8. Функциональные блоки головного мозга по А.Р. Лурия
Так были разработаны вполне современные на тот момент теории, которые можно было использовать для развития информационного подхода или кибернетики. Активное движение в ту же сторону происходило и в других областях науки и техники. К началу 1930-х годов советская математика превратилась в передовую область исследований, весьма разветвленную и представленную плеядой выдающихся имен. Выделить круг основных действующих лиц здесь очень непросто. Андрею Николаевичу Колмогорову принадлежат фундаментальные работы по теории вероятностей, теории информации, теории алгоритмов и математической логике. Он же является автором статьи «Кибернетика» в 51-м томе второго издания Большой советской энциклопедии. Андрей Андреевич Марков – младший в своих исследованиях развивал теорию алгоритмов и в конце 1940-х годов предложил еще один способ формального определения алгоритма, сопоставимый с машиной Тьюринга, – нормальный алгоритм (сам автор называл его алгорифм). Также должны быть отмечены работы Петра Сергеевича Новикова по математической логике и теории алгоритмов.
Помимо «чистых» математиков, в развитии теоретических основ и практики программирования заметную роль сыграли математики в каком-то смысле «прикладные».
Алексей Андреевич Ляпунов разработал операторный метод программирования, позволивший описывать структуру программы не на языке машинных кодов, а на обобщенном уровне, удобном для самих программистов. Так был сделан один из решающих шагов к современным символическим языкам программирования. Ляпунов же в начале 1950-х годов прочитал в МГУ и МЭИ первые лекционные курсы по программированию. В 1958 году им была основана знаменитая серия выпусков «Проблемы кибернетики», в которых были представлены и популяризированы первые достижения отечественного программирования (рис. 1.9).
Андрей Петрович Ершов заложил основы теоретического программирования. Он и Михаил Романович Шура́-Бура́ занимались автоматизацией программирования – они авторы одних из первых компьютерных программ-компиляторов, создающих другие программы.
Леонид Витальевич Канторович разработал концепцию крупноблочного программирования и впоследствии стал лауреатом Нобелевской премии по экономике «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

Рис. 1.9. С 1958 г. выходит серия выпусков «Проблемы кибернетики»
Лазарь Аронович Люстерник, Александр Александрович Абрамов, Виктор Иванович Шестаков и М. Р. Шура-Бура в 1952 году написали книгу «Решение математических задач на автоматических цифровых машинах. Программирование для быстродействующих электронных счетных машин», которую принято считать первым отечественным учебником по программированию. (Доступ широкого читателя к ней, однако, был ограничен.)
Под редакцией Гелия Николаевича Поварова в 1958 году вышел первый перевод на русский книги Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине». Ему же принадлежит удачный русский неологизм – системотехника.
Эти и многие другие специалисты заложили основы отечественной школы программирования и разработали теоретический базис и практические воплощения информационного подхода17.
Параллельно с программированием бурно развивалась отечественная вычислительная техника. Сергей Алексеевич Лебедев в 1945 году создал первую в стране ЭВМ – МЭСМ (Малую электронную счетную машину) (рис. 1.10). Она умела решать дифференциальные уравнения и их системы. Лебедев был главным конструктором и последующих разработок: БЭСМ (Быстродействующей, или Большой, электронной счетной машины), М-20, М-40 и других. И если перечисленные машины были ламповыми, то затем его сотрудниками были спроектированы и созданы ЭВМ на интегральных схемах. Исаак Семёнович Брук со своими коллегами в 1951 году разработал М-1 – первую ЭВМ на полупроводниках. В 1953 году успешно прошла испытания ЭВМ «Стрела», главным конструктором которой был Юрий Яковлевич Базилевский. В 1954 году был разработано семейство ЭВМ «Урал» (главный конструктор – Башир Искандарович Рамеев). Под руководством Виктора Михайловича Глушкова в 1965 году была создана серия ЭВМ «МИР» (версия расшифровки названия: Машина для Инженерных Расчетов). Это была одна из первых ЭВМ, рассчитанных на одного пользователя, – то, что позже стали называть персональными компьютерами. Любопытно, что, когда в 1973 году готовилось очередное издание энциклопедии «Британника», статью «Кибернетика» заказали именно Глушкову.

Рис. 1.10. МЭСМ – первая отечественная ЭВМ
Очень заметным – вначале прикладным, а затем и фундаментальным – направлением кибернетических исследований стал, как его тогда называли, машинный перевод. Он был задуман в нашей стране как решение задачи перевода англоязычных и не только текстов на русский язык с помощью ЭВМ. (Нетрудно догадаться, что в США в те же годы решалась аналогичная проблема перевода русскоязычных текстов на английский.) Этот проект очень быстро превратился в обширную исследовательскую область в силу объективной многосторонности самой задачи и широкого научного кругозора главных организаторов отечественных кибернетических исследований – адмирала-инженера Акселя Ивановича Берга и А. А. Ляпунова. Здесь вместе с математиками работали лингвисты: теоретические разработки в области лингвистики очень быстро оказались фундаментом машинного перевода. Математик и лингвист Владимир Андреевич Успенский писал, что работами двигала иррациональная потребность отыскать в языке законы, своей строгостью напоминающие математику.
Возникли невозможные до того в нашей стране математическая, инженерная и структурная лингвистика. Естественный язык оказался предметом формального описания: скажем, были предложены математические модели грамматики, которые затем оказались чрезвычайно уместными для характеристики языков программирования. Были созданы первые исследовательские группы и лаборатории машинного перевода, в 1957–1960-х гг. прошли первые заметные конференции, издавался «Бюллетень Объединения по машинному переводу» под редакцией лингвиста и переводчика Виктора Юльевича Розенцвейга (при том что само это объединение было полуреальным). Несмотря на повышенное внимание к проблемам структурной лингвистики, не были обойдены вниманием и более традиционные предметы лингвистического анализа, а также семиотика (наука о знаках и знаковых системах). Эти исследования сформировали новое поколение отечественных лингвистов (отметим среди многих корифеев, начавших в те времена свою научную карьеру, Игоря Александровича Мельчука и Вячеслава Всеволодовича Ива́нова). Во многом эти исследования были межпредметными – активное участие в них принимали А. Р. Лурия и дефектолог Иван Афанасьевич Соколянский.
Значимость работ отечественных кибернетиков и лингвистов легко подчеркнуть тем, что заметная часть их публикаций достаточно быстро переводилась на английский и становилась доступной широкому кругу зарубежных специалистов. Не так обстояло дело с физиологами и психологами: их немногочисленные переводы появлялись с большим опозданием. Книгу Анохина18 на Западе издали только в 1974 году, а книги Бернштейна – только после его смерти (в 1967, 1969 и 1996 годах). Еще одного отечественного классика, упомянутого выше Выготского, перевели лишь через двадцать восемь лет после его смерти в 1962 г.19 На этом фоне особняком стоит фигура Лурии, который прекрасно знал английский и активно публиковался за рубежом, но и у него в период с 1944 по 1957 годы был значительный перерыв в публикациях.
Большую часть перечисленных в этом разделе математиков можно назвать кибернетиками. Часто они и сами себя так именовали. Однако само положение кибернетики в нашей стране некоторое время было тревожным и сомнительным. Реакция советского партийного и философского истеблишмента на кибернетические публикации была не просто критической, но резко отторгающей, причем по самым грозным основаниям – идеологическим. Упомянутая выше первая книга Винера вышла на английском в 1948 году и в СССР сразу попала «под замок» – в спецхран. Кибернетика была объявлена служанкой капитализма, реакционной лженаукой, «наукой» мракобесов. Добавим еще несколько штрихов: «Кибернетики ничуть не заботятся о том, чтобы подкрепить свои чудовищные утверждения хоть какой-нибудь научной аргументацией… Два кибернетика – или любое другое их число – могут с одинаковым упорством твердить одни и те же избитые идеалистические положения и делать из них одни и те же неправильные выводы, но от этого ни положения, ни выводы не станут достоверней». К сожалению, в этом шабаше приняли участие и отдельные психологи (например, М. Г. Ярошевский, выступивший с разоблачительной статьей в прессе; часть приведенных выше цитат взята именно из нее20).
В этих условиях небольшая группа представителей точных и технических наук начала активную борьбу за реабилитацию кибернетики и спасение всей линии связанных с ней исследований. Важность ЭВМ для военного и хозяйственного применения была бесспорна.
Основным действующим лицом здесь выступил математик и инженер Анатолий Иванович Китов, автор одной из первых защищенных в СССР диссертаций по программированию и впоследствии руководитель головного вычислительного центра Министерства обороны СССР. Его с полным правом можно назвать спасителем кибернетики и всего информационного подхода в нашей стране. Учитывая идеологический характер нападок, ситуация была более чем серьезной. О «подводной» стороне этой истории известно немного. Наблюдаемая часть состояла из нескольких ярких публичных выступлений сторонников кибернетики. Решающие события произошли в 1955 году, когда одна за другой вышли две принципиальные статьи – «Основные черты кибернетики» математика Сергея Львовича Соболева, А. И. Китова и А. А. Ляпунова в журнале «Вопросы философии» (основном идеологическом рупоре тех времен) и «Техническая кибернетика» А. И. Китова в журнале «Радио». Эти статьи доказывали прикладную ценность кибернетики и всего связанного с ней комплекса идей, а также необоснованность идеологических нападок на нее. В итоге кибернетика, а заодно с ней и информационный подход были спасены.
1955 год считается датой снятия партийного запрета с кибернетики. В следующем году Китов выпустил книгу «Электронные цифровые машины» – первое открытое систематическое изложение разнообразных вопросов, связанных с ЭВМ. Затем очень быстро появились книги Игоря Андреевича Полетаева21 «Сигнал» (1958) и Модеста Георгиевича Гаазе-Рапопорта «Автоматы и живые организмы» (1961). Обе помимо достаточно сложных профессиональных разделов включали в себя и научно-популярные части, немало способствовавшие известности разрешенной теперь науки. Для Китова же эта история закончилась плохо: несколько позже он был исключен из рядов КПСС и уволен с работы.
Несмотря на отмену запретов и бурное развитие кибернетики и информационного подхода, когнитивная психология на отечественной почве так и не прижилась. Не возникло и никакой отечественной альтернативы. Любопытно разобраться, почему вышло именно так.
К 1950-м годам вся исследовательская психология в СССР была относительно небольшой как по численности ученых, так и по количеству публикаций и проводимых работ. Можно отметить ее прикладные успехи (например, при реабилитации раненых в ходе Великой Отечественной войны), и явное повышение авторитета (в 1947 году психология и логика стали обязательными предметами в старших классах школы и оставались таковыми до 1958 года). Но, несмотря на это, психология, хотя и косвенно, оказалась под огнем идеологической критики, прозвучавшей на так называемых Павловских сессиях22 1950 и 1951 годов.
Стремление к тотальному государственному регулированию содержания научных исследований и минимизации контактов с Западом привело к жестким оргвыводам, после которых физиологи, невропатологи, психиатры и психологи приходили в себя несколько лет, а изоляция от зарубежных научных веяний стала еще более полной. Так что на непосредственное участие в когнитивной революции у отечественных психологов шансов не было.
При этом в СССР проводились вполне профессиональные исследования познавательных процессов, а в конце 1950-х – начале 1960-х гг. с некоторым запозданием относительно американской психологии появились работы, которые можно с полным правом отнести к когнитивным. Большей частью они были направлены на прикладные цели и связаны с инженерной психологией – областью исследований, которая занимается взаимодействием человека с техническими устройствами и возможными ошибками, которые могут возникнуть при этом. Управление сложной техникой связано с громадными рисками и требует квалифицированных операторов. Исследованием их труда и занимались в первую очередь инженерные психологи, по необходимости обращаясь и к познавательным процессам. Психолог Владимир Петрович Зинченко в 1961 году организовал в НИИ автоматической аппаратуры первую в стране лабораторию инженерной психологии. В 1962 году был создан ВНИИ технической эстетики, который, помимо промышленного дизайна, занимался широким кругом проблем, включая инженерно-психологические.
Развитие советской психологии в 1960-х шло поступательно. Чуть ранее, в 1955 году, возник журнал «Вопросы психологии» – первый и единственный тогда в СССР научный психологический журнал. В 1966 году были созданы два первых психологических факультета – один в Московском, второй в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) государственных университетах. Начали шире издаваться труды отечественных авторов и переводы западной психологической литературы. Отметим сборник «Психология мышления»23, в котором под одной обложкой неожиданно встретились гештальтисты, специалисты по искусственному интеллекту и когнитивные психологи К. Дункер, Г. Гелернтер, Г. Саймон, А. Ньюэлл, Дж. Шоу и другие. В 1971 году состоялось открытие Института психологии Академии наук СССР – ИП АН (его организатором и первым директором был психолог Борис Фёдорович Ломов). Это второй научно-исследовательский институт по психологии в нашей стране – первый (Психологический институт при Московском университете) был создан психологом и философом Георгием Ивановичем Челпановым на средства мецената С. И. Щукина почти за 60 лет до этого – в 1912 году.
В 1970-е годы на факультете психологии МГУ появились Лаборатории психологии восприятия, вполне когнитивные по своей тематике исследований. Единственная русскоязычная монография тех лет с термином «когнитивный» в заглавии принадлежит перу психолога Бориса Митрофановича Величковского24. В 1987 году он же создал на факультете психологии МГУ первую и единственную в СССР кафедру когнитивных исследований, просуществовавшую, правда, недолго.
Но ни в 1960-е, ни в 1970-е, ни в 1980-е годы отечественная когнитивная психология так и не возникла, несмотря на бурное развитие когнитивных исследований в других странах, наличие в нашей стране сильных научных «соседей» и даже явный запрос на изучение труда операторов сложных технических систем. Не появилось ни исследовательского направления, которое опиралось бы на так или иначе понятые информационные представления о познании, ни специализированных исследовательских центров, ни университетских программ, ни тематических конференций или научных журналов, ни отдельной специальности в аспирантуре.
С одной стороны, нужно учитывать жесткие внешние ограничения: психология как социальная наука подлежала строгому идеологическому контролю. Следование определенному набору представлений о человеческом мышлении и сознании (скорее, принятой в этой сфере риторике) и цитирование классиков марксизма-ленинизма считалось обязательным, причем в списках литературы к любой публикации они стояли на первых местах. Еще на памяти автора этой главы против группы студентов факультета психологии МГУ в середине 1980-х были выдвинуты обвинения в идеализме за доклады, прочитанные на студенческой (!) конференции (правда, она проходила не в столицах, а в крупном провинциальном университете). Доступ к западной литературе, необходимой, чтобы ориентироваться в новых научных тенденциях, был ограничен, сам набор книг и журналов, поступавших в библиотеки, – достаточно беден. Таким образом, возможности для интеллектуального маневра были весьма невелики. Но вряд ли дело исчерпывалось только этим.
Когнитивная революция в американской психологии была следствием недовольства доминирующими теоретическими установками бихевиоризма (как и множества других причин). Предложенная ранними когнитивистами теоретическая альтернатива обещала много больше. Победы в теоретических дискуссиях (чего стоит одна знаменитая рецензия американского лингвиста Ноама Хомского на книгу американского психолога-бихевиориста Б. Ф. Скиннера!25) и яркие исследования и публикации достаточно быстро распространили новые веяния среди психологов. Хотя и переоценивать темпы этого процесса не стоит.
В нашей стране всё происходило иначе. Идеологический прессинг советской власти явно вызывал недовольство, но, по-видимому, оно не очень касалось распространенных в отечественной психологии теорий. Наиболее изощренные из них – культурно-исторический подход и психологическая теория деятельности – явно несли на себе печать отклонения от марксистского шаблона хотя бы в сторону его усложнения и могли быть противопоставлены официозу. В их пользу говорили и биографии авторов и сторонников, испытавших на себе гонения и запреты. Такие теории тоже предполагали изменения в понимании человеческой психики и поведения, хотя, возможно, не столь радикальные, как информационный подход. И сторонники названных теорий активно подчеркивали их «очевидные» преимущества. Даже в тех случаях, когда авторы сочувственно относились к когнитивной психологии, несложно найти у них прямые указания, на чьей стороне правда. Характерная цитата: «<…> современная когнитивная психология оказывается совсем не такой „революционной“, какой она выглядит в глазах своих сторонников. <…> подчас весьма трудно понять, в чем же состоял смысл этой новейшей революции в психологии, так как многие постулаты по-прежнему связывают когнитивную психологию с бихевиоризмом и предшествовавшими ему направлениями. Ближайшая перспектива изучения психических, в том числе когнитивных, процессов состоит в действительном преодолении как бихевиоризма, так и ментализма. <…> Эта перестройка, как показывает весь опыт советской психологии, безусловно, возможна на базе психологической теории деятельности или в более широком контексте – философии диалектического материализма»26.
Anokhin P.K. Biology and Neurophysiology of the Conditioned Reflex and its Role in Adaptive Behavior. Oxford, New York: Pergamon Press. 1974.
Bernstein N.A. The Coordination and Regulation of Movements. New York: Pergamon-Press, 1967.
Bernstein N.A. Methods for Developing Physiology Related to the Problems of Cybernetics. // In A Handbook of Contemporary Soviet Psychology / ed. M. Cole and I. Maltzman. New York: Basic Books, 1969.
Bernstein N.A. Dexterity and Its Development. / ed. M. L. Latash and M. T. Turvey. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1996.
Vygotsky L. Thought and language. / ed. A. Kozulin. Cambridge, MA: MIT Press. 1962.
Pulsuz fraqment bitdi.