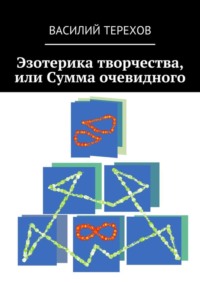Kitabı oxu: «Эзотерика творчества, или Сумма очевидного», səhifə 4
Глава 8. Непарадоксальная вселенная
Каждая система – уникальна, и также уникальна и единственна во вселенной структура каждой системы, и каждая система как субстанция. Но есть одна структура, которая является особой структурой: свободной структурой. Абсолютно свободная структура – это само мироздание.
Можно ли формулу «Система = Субстанция + Структура» в частном случае, в отношении всего мира, преобразовать в формулу
«Универсум = Универсум как субстанция + Структура универсума»?
Такая формула при метасистемном подходе должна считаться неверной, потому что такая формула преобразуется к виду
«Универсум = Всеобщая пирамида + Простая модульная структура»
В метасистематике в отношении вселенной, как принципиальное положение, должна быть принята иная формула:
ВСЕЛЕННАЯ = СВОБОДНАЯ СТРУКТУРА = СВЕРХСЛОЖНАЯ СТРУКТУРА
Мироздание – единственная структура, которая не является системой. Почему? Потому что, оно не является субстанцией. Она не является сущностью и не может иметь параструктуру. Справедливость этого положения необходимо пояснить.
Всё дело в том, что любая система может быть чёрным ящиком, или иначе, субстанцией, лишь по отношению к каким-либо иным, «внешним» системам и структурам. Но, так как под вселенной понимается всё сущее без остатка, весь мир целиком, то вне вселенной по определению не может быть ничего, – в противном случае её нельзя было бы назвать вселенной (в русском языке слово, обозначающее это понятие, образовано от слова «всё»). Вселенная должна рассматриваться как свободная структура, или иначе сверхсложная структура. Она – не парадоксальна, потому что не является всеобщей «пирамидой», то есть простой системой. Под простой системой понимается система иерархическая, целостная и единая, с определимыми элементами структуры.
Такое понятие, которое включает в себя что-то, но это что-то «в сумме» не является целым, может вначале показаться странным. Но эта странность объясняется привычными метафизическими стереотипами мышления: укоренившемся в нашей культуре представлением об эксклюзивности двоичной логики и исключающего классифицирования в мышлении, о котором пойдёт речь в Части V.
Современные представления основаны на формуле «Мир – целостен», и эта формула принята не произвольно: она имеет важнейшее психологическое значение. Эта формула внедрялась в современную культуру на протяжении жизни многих поколений. Она принималась нелегко и не сразу, а её защита носит драматический характер. Джордано Бруно высказал преждевременную идею о множественности миров, и оказался на костре.
Понимая психологическую сверхценность формулы целостности вселенной, эту формулу всё же необходимо признать неверной, она неадекватна представлению о сверхсложности мира. Парадокс всеобщей пирамиды состоит именно в том, что вселенная рассматривается как система. А это логически означает следующее.
С одной стороны, по определению, она включает в себя, в свою структуру, всё. Но с другой стороны, представленная модульной схемой, модель вселенной оказывается ничем иным, как системой, и, следовательно, не только имеет структуру, но и является субстанцией. Но ведь субстанция – это чёрный ящик, то есть система, которая рассматривается «снаружи», извне. Существование чёрного ящика всегда предполагает существование чего-то вне него.
Это и есть парадокс всемирной пирамиды в явном виде: всемирная пирамида должна включать в себя всё, но что-то в процессе рассуждений оказывается вне нее. Психологически и исторически корни этой канонической метафизической картины мира лежат в «первобытной логической ошибке».
В качестве иллюстрации рассмотрим образную реконструкцию истории возникновения и развития метафизической картины мира, конечно же, в чрезвычайно утрированном виде, в первом очень грубом приближении.
Эта история началась в древнейшие времена, когда человек только-только начинал задумываться об устройстве мироздания. Само это понятие – мироздание – было ещё сырым и неопределённым. Первобытный человек-философ начинал рассуждать об устройстве мира, но забывал включить в него себя, так как рассматривал мир, – в силу специфической инерции мышления, – отдельно от себя. А именно, так же как и любую вещь в мире: с позиции стороннего наблюдателя.
Этот первобытный философ умозрительно представлял мир с позиции наблюдения, которая находилась вне этого мира. Он мысленно рассматривал мир, но ведь рядом с ним был он сам, как его внешний, сторонний наблюдатель и исследователь. При этом себя и свою позицию он как бы не замечал, он этого не осознавал. Затем философ и его последователи стали обнаруживать возникающие парадоксы в рассуждениях, но вместо того, чтобы отказаться от парадоксальной картины мира, они в силу определённых условий продолжали её достраивать, модифицировать, подлатывать и маскировать тупики парадоксов.
Вместо того, чтобы включить в картину мира себя, они выделили понятия времени, развития, становления и движения как всеобщие понятия, а именно как философские категории. Эти категории являются слоями картины мира, и противопоставлены остальным модулям мироздания.
(Категории характерны для канонического метафизического мышления, которое в связи с этим можно также назвать категориальным мышлением).
Это не устраняет парадокс, так как устранить его принципиально невозможно без отказа от всей метафизической схемы.
Затем у философа появлялись представления о некоем всемирном разуме или какое-либо другое «сверхсильное» понятие, которое призвано было окончательно скрыть парадокс всемирной пирамиды. Он не замечал при этом, что такой всемирный разум – это тень его собственного разума, которая падает на придуманную им метафизическую схему. И это тень того самого разума, который изначально логически был неявно исключён из картины мира.
Сравним эту небольшую реконструкцию с положением Зигмунда Фрейда о том, что мировоззрение – это «проекция психического на внешний мир». Такая «проекция психического» имеет многие аспекты. На уровне мировоззрения, как представлений об универсуме, проекция психического воплощается в метафизическое мировоззрение.
Появившиеся в европейской культуре понятия объект и субъект, выражают всё то же метафизическое расслоение мировоззренческой схемы мироздания. Эта дихотомия как бы более явно выделяет разум, исключённый из космологической схемы, парадоксальным образом не включая его в схему. Современный человек, следуя сложившемуся стереотипу, считает, что мышление категориями объект/субъект придаёт мышлению большую реалистичность. Эта дихотомия также парадоксальна, как и всё метафизическое мышление. На самом деле, эта дихотомия только укрепляет метафизический стереотип. Чем сильнее апелляция к объективности, тем менее реалистичными могут быть выводы.
А вы разве никогда не замечали, как люди, апеллирующие к объективным фактам и данным, к объективному мнению или представлению о вещах часто отстаивают свои корыстные интересы, а не общую для всех истину? Разве вы никогда не замечали, что, чем сильнее объективная аргументация (особенно, если она направлена лично против вас), тем более агрессивным кажется вам оппонент и тем более искажёнными его доводы?
Какие же условия не позволяют философам отказаться от простых метафизических представлений, как только обнаруживается метафизический парадокс? Эти условия описаны Томасом Куном в его книге «Структура научных революций». В соответствии с его терминологией, любое метафизическое мировоззрение следует назвать парадигмой.
Метафизическое ядро не просто парадигма, оно – парадигма парадигм. Мировоззрение – интеллектуальная, информационная система. Мировоззрение является частью коллективного разума человеческого сообщества или каких-либо групп. Мировоззренческие идеи живут и эволюционируют на протяжении периодов значительно превышающих жизнь отдельного человека. Информационные системы существуют вне времени, поэтому они не могут умереть.
Другая причина живучести метафизической парадигмы парадигм – в её психологической сверхценности. Целостность личности – важнейшее достояние современного homo sapiens. Она настолько ценна, что ради неё имело смысл посылать еретиков на костёр. Она настолько важна, что ради неё приходится жертвовать адекватностью, достоверностью всевозможных картин мира.
Глава 9. Основная тавтология
Выполнив три логических шага, мы выяснили, что не существует всеобщих параметров и свойств. Даже такие всеобщие, казалось бы, понятия как пространство и время, в действительности – частные и относительные. И это очень легко показать. Многие системы и объекты не имеют ни одного параметра или свойства, которое могло бы быть описано, как длина иди длительность, положение в пространстве или одновременность. Можно сказать, что они существуют «вне» времени и «вне» пространства.
Четвёртая эвристика – шаг назад.
Существуют ли всё-таки свойства всеобщие, присущие всем объектам и системам без исключения?
Время и пространство часто рассматривают как философские категории. Ничего более всеобщего, как будто бы, и представить невозможно. Стереотип, прочно внедрившийся в сознание людей, как будто подсказывает, что более общих понятий и быть не может. Но если даже время и пространство не универсальны, то, что же тогда можно считать всеобщим? Наше мироощущение настолько привязано к понятиям времени и пространства, что даже когда неприменимость этих понятий становится совершенно очевидна, мылящий интеллект не может допустить возможности отказа от них.
И вот, в силу этого, появляются спекулятивные понятия вечного и бесконечного. И хотя по смыслу можно как бы догадываться, что вечное или бесконечное – это то, что не имеет начала и конца, в этих понятиях содержится неявное утверждение: если что-то не имеет начала и конца, то не потому, что это что-то существует вне времени и пространства, а потому, что начало и конец находятся где-то, где они недоступны для человека.
Начало и конец как будто есть, …но с другой стороны их как будто бы и нет! Но что же такое бесконечность? В математике есть определение бесконечно большой величины: это такая величина, которая больше любой взятой сколь угодно большой величины. Это определение – не что иное, как описание алгоритмической модели с неограниченным циклом, то есть модель мысленного динамического процесса с неуказанной точкой выхода. Понятие бесконечного определяется с помощью алгоритма, некоторой неопределённое число раз повторяемой мысленной операции, которую предлагается мысленно выполнить в пространстве и времени. Так как динамический процесс – это система в пространстве и времени, то получается, что определение бесконечности не мыслится вне пространства и времени.
Но каких? Каких-то «реальных» или «физических», или каких-то «внутренних» и «психологических» Этот небольшой нюанс психологически и логически абсолютно неразрешим для мыслящего интеллекта, хотя кажется очень простым.
На первый взгляд нужно только внимательно и аккуратно разобраться и расставить точки над i. Сказать, – вот это относится к реальным или физическим объектам, а вот это – к мысленному, внутреннему психологическому процессу математических рассуждений.
Например, Н. Винер пытался таким образом прояснить математическое представление о бесконечности. Его объяснение не очень пространно и возникает иллюзия, что он успешно справился с парадоксом. Действительно успешно, но… не окончательно!
Природа этого нюанса – в особенностях объективации и исключении наблюдателя (Об исключении наблюдателя – см. следующие части книги, и в гл. «Мифы доктора Фрейда»)
Такое представление о бесконечности похоже на короткое замыкание в электросети, парадокс замыкается сам на себя. Эта короткозамкнутая модель – модель очень сильная. Её сила вовсе не в структуре самой модели, не в красоте, исключительной правильности или особой логичности этой модели. Её исключительная сила – в соответствии природе мышления человека. Особенность человеческого мышления – использование алгоритмических моделей для моделирования нединамических (нетемпоральных) объектов и систем.
Три первые эвристики начинались с вопроса об измерении параметров объектов. Измерение является сравнением объектов с эталоном. Результат сравнения с эталоном будет значением параметра или количественным выражением свойства. Например, если объект обладает таким свойством как масса, то соответственно возможно измерение массы. Масса объекта, выраженная в единицах измерения, например, в килограммах в системе СИ, будет его параметром «по массе». Если же объект, например, обладает таким свойством как информационная ёмкость, то результат соответствующего измерения, выраженный в соответствующих единицах (битах, байтах, символах и т.п.) выражает его информационную ёмкость.
Если всеобщие свойства существуют, то какие? Поскольку измерение – это сравнение (с эталоном, инструментом измерения), то объекты, имеющие протяжённость, можно сравнить по длине, объекты, имеющие цветность – по цветности, и т. п. Каждый эталон или инструмент измерения обладает именно тем свойством, для измерения которого он предназначен. Это похоже на утверждение «масло – масляное». В сущности, это и есть тавтология. А по какому свойству можно сравнить любые два предмета или любые две системы, или любую систему с любым объектом?
И вот ответ:
любые объекты или системы можно всегда сравнивать между собой.
Этот ответ может казаться непонятным, так как он представляет собой тавтологию и не отвечает прямо на поставленный вопрос. Это утверждение означает, что сравнивать и сравнить можно всё, даже абсолютно несвязанные или разнородные вещи. Для того чтобы сравнивать что-либо не обязательно, чтобы сравниваемые объекты или системы имели явное общее свойство. Если сравниваемые объекты и системы не имеют ни общих свойств, ни параметров, то они не имеют между собой ничего общего. Можно условно сказать, что они имеют общее свойство «никакое». Это свойство – ничто, нуль-свойство.
Но если не обнаружено общих свойств, или, иначе говоря, обнаружено нуль-свойство, то, что при этом было эталоном? Эталоном служит сам наблюдатель: эксперт, который сделал вывод об отсутствии общих свойств, о несоизмеримости и несопоставимости исследуемых объектов или систем. Только при наличии наблюдателя-исследователя имеет смысл говорить о нуль-инструментах и нуль-свойствах.
Четвёртая эвристика приводит к удивительному открытию: при наблюдении и исследовании любых объектов и систем присутствует наблюдатель (исследователь).
Эта формулировка – тавтология. Это – основная тавтология метасистематики. Ценность основной тавтологии в том, что она способна раскрывать парадоксы.
Нуль-свойство – не совсем ничто. Сравнивая два объекта, не имеющих между собой ничего общего, наблюдатель как минимум должен их воспринимать. А это означает, что у каждого их этих объектов или систем на самом деле есть нечто общее с наблюдателем. Это нечто можно обозначить как наблюдаемость. Так что нуль – это отнюдь не ничто.
Наблюдаемость означает не только возможность видеть, слышать или ощупывать исследуемый объект. Исследуются и умозрительные вещи, и совершенно абстрактные представления, которые явно нельзя наблюдать как что-либо конкретное, материальное. Исследователь, может применять для наблюдения простой или сложный инструментарий. Это – косвенное наблюдение. Исследование также может протекать на протяжении времени превышающее время жизни отдельного человека или народа.
Мыслящий интеллект может исследовать любые системы или объекты, и вот что интересно отметить: результат исследования всегда продуктивен, даже если этот результат выражается в том, что между исследуемыми объектами или системами не обнаруживается ничего общего. Если это утверждение кажется не совсем понятным, вспомните крылатую фразу: «отрицательный результат – тоже результат».
В сравнении познаётся всё, и наиболее универсальными понятиями являются сходство и различие.
Предполагая, что сравнивать можно как минимум два объекта или системы, и что всегда существует наблюдатель, как правило, неявно исключаемый из схемы, можно условно выделить минимальную модель исследования: триаду исследования.
Число три в мифах, сказках и легендах всех народов мира играет какую-то особую роль. Это число интуитивно представляется многим людям каким-то особенным. Но почему именно три, а не, например, два. Ведь парность, симметрия – совершенно явное и очевидное свойство, часто встречающееся в природе, и число два также интуитивно имеет большой психологический вес. Но число три в психологической оценке «весит» больше всех чисел. Парность и симметрия хотя и часто встречающиеся, но не всеобщие свойства. Триада исследования выражает минимальную модель восприятия, а число три указывает на всеобщие свойства, – сходство и различие.
Сходство и различие как свойства-критерии используются в практике везде и всюду. Сам человеческий интеллект работает как ассоциативный механизм. Это узнавание, сравнение, восприятие, запоминание и воспоминание, ассоциативно-образное и ассоциативно-логическое мышление, и т. д.
Наука не может обойтись без аналогий, метафор и понятий, сопоставления и сравнительного анализа. Кто из современных людей не знаком со школьных лет, например, с периодической системой Менделеева, второй сигнальной системой Павлова, или понятием целого числа в математике хотя бы поверхностно? А что можно вспомнить о сравнительном анализе? А есть ли вообще специализированная «теория сравнительного анализа»? Многие специалисты по роду своей деятельности каждый день многократно произносят слова «сопоставить», «сопоставление». В Общей теории систем известен «метод аналогий», но достаточно ли он описан, достаточно ли разработан и логически распространён, достаточно ли он содержателен?
Лучше дело обстоит в патентоведении: в нём, ясно и чётко нормативно-законодательно определены понятия сходства, тождественного подобия («сходство до степени полного подобия»), существенных отличий, мировой новизны и полезности как нормативных терминов.
Сходство, тождественное подобие и различия – это метасистемные критерии, но называть их свойствами не совсем верно, так как свойство – это нечто присущее определённому объекту или определённой системе. К этим критериям нужно добавит уникальность, единственность в мироздании каждой системы и каждого объекта. Эти всеобщие свойства-критерии имеют расширенное описание – см. Главу «Завершение Четвёртой эвристики».
Часть 2. Сверхсложная Вселенная
Глава 1. Догадка Джордано Бруно
В научной и ненаучной фантастике можно встретить словосочетание «параллельные миры». В фантастической литературе, как правило, под параллельными мирами понимаются некие физические миры, совершенно отдалённые и непонятным образом отделённые от «нашего» физического мира, и недоступные никакому восприятию и наблюдению. Есть разные варианты представлений о подобных мирах. Например, можно предполагать, что где-то в космосе на удалении, превышающим возможность современных астрономических наблюдений, могут совершенно изолированно существовать некие области, состоящие из материи, совершенно несовместимой с материей нашего мира, то есть наблюдаемого нами, окружающего нас астрономического мира.
Вот другой вариант толкования параллельных миров: они как бы проходят в пространстве сквозь нас, то есть занимают тот же пространственный объём, что и наш физический мир, но не имеют никаких точек соприкосновения с нашим миром, не могут взаимодействовать с ним и поэтому не наблюдаемы. Каким образом, почему? И, вообще, кого и что побудило выдвинуть столь фантастическую гипотезу? Этот вопрос остаётся несущественным для авторов, и непонятным для читателей, то есть просто модным литературным приёмом.
В строгом виде такие предположения абсолютно неинтересны и бессмысленны, именно потому, что такие гипотетические миры ненаблюдаемы. Поэтому авторы тут же вынуждены делать некоторые дополнительные допущения, что при некоторых очень редких и невероятных условиях параллельные миры всё же могут пересекаться, или как бы существует что-то вроде точек или областей наложения параллельных миров. Такой вариант вызывает любопытство публики, и открывается простор для творчества, на этом строятся сюжеты.
В современную культуру эта фантастическая идея – о «параллельных мирах» – пришла как видоизменённая и неузнаваемая идея Джордано Бруно о множественности миров.
Джордано Бруно не был первым, кто высказал предположение о множественности миров. Он сам взял эту идею у Демокрита, Эпикура и Лукреция. Демокрит учил, что миры бесчисленны и отстоят друг от друга на неодинаковые расстояния, одни из них находятся в расцвете, другие разрушаются. Лукреций считал, что Вселенная не имеет границ, миров существует множество.
Обвинения Аристотеля в «схоластике» появились в средневековой Европе. Джордано Бруно критикует Аристотеля и перипатетиков. Но обосновано ли?
У него идея множественности миров сочеталась с идеей единства мира. («Едино тело всего сущего». ) Он был убеждён, что мир состоит из единой субстанции: первооснова по своей потенции безгранична, в ней совпадают действительность и возможность, её нет предела ни во времени, ни в пространстве, она существует вечно и безгранично, и т. д. Бруно считал, что другие миры порождены той же самой субстанцией.
Философия Дж. Бруно предполагает формулу «мир – целостен». Но клерикальные круги увидели другое. Их раздражало свободомыслие дерзкого и скандального ноланца. Их пугало безоглядное неприятие им стереотипа жертвенности. Их пугала формулировка множественности миров, так как за ней смутно угадывалась идея не-целостности, не-единства мира.
Существуют ли «параллельные миры»?
Параллельные миры везде и всюду вокруг нас, и каждый пересекает их множество раз каждый день.
Давайте определим, что такое «параллельные миры».
Измеримые объекты можно сравнивать с одним и тем же эталоном, то есть производить измерения. Но измерения – это не только измерения длины или промежутков времени, веса или количества товара. Есть измерения, которые кажутся какими-то неточными, как будто не совсем определимыми. Чаще такие измерения называют не измерениями, а обозначают другим словом – оценка.
Как можно измерить красоту, или точно определить ценность, – именно ценность, а не информационный объём, – какого-либо информационного объекта, например, стихотворения или музыкальной пьесы?
Сравнивать можно не только что-либо выражаемое линейным параметром, но и структуры, в том числе многоуровневые иерархические структуры. Выйдя за пределы элементарной триады исследования можно заметить, что сравнивать можно не только два каких-либо объекта или системы, но и множество сходных, но при этом и различающихся, систем. Результаты сравнения можно отобразить в виде иерархической схемы.
Без сомнения, вам знакомы многие, широко известные научные классификации. В школе вы изучали биологию, и хорошо запомнили красочную иллюстрацию, которая есть в любом учебнике биологии, – дерево видов. В основании этого дерева находятся простейшие, затем оно разветвляется на растения и животных, и ответвление «животные» начинает ветвиться на позвоночных и хордовых, ещё выше отходят ветви птиц, рептилий и млекопитающих, и, наконец, где-то в кроне этого дерева располагаются веточки «приматы» и «homo sapiens».
Прочие научные дисциплины, так же как и биология, не могут обойтись без классификаций. Как отметил Томас Кун, наука начинается с классификации, которая проводится раньше, чем вырабатывается научный метод, или создаётся научная концепция, объясняющая природу исследуемых объектов.
Научные и иные классификационные схемы – это интеллектуальные модели реально существующих иерархий подобия. Иерархии подобия – это системные иерархии, сущностные иерархии.
Обратим внимание на понятийное различие между системными иерархиями (они же сущностные, модельные или субстанциальные иерархии) и структурными иерархиями (модульными структурами).
Структурная иерархия представляет собой иерархическую структуру элементов структуры. Каждый элемент или компонент входит в эту структуру. Такую иерархию можно назвать также иерархией соответствия, потому что каждый элемент структуры должен соответствовать этой структуре.
Например, в электропатрон, можно вкрутить электролампочку, рассчитанную на рабочее напряжение и с профилем и размером резьбы. Точно так же, любой винт можно соединить с гайкой профиля и размера резьбы. Любое механическое устройство можно собрать из узлов и деталей. В двигатель автомобиля можно залить масло марки. Исходный код компьютерной программы должен состоять из подпрограмм. Подзаконные акты должны основным законам и Конституции страны. Сотрудник должен занимаемому месту. А лечение определённой болезни проводится медиками с применением методик и лекарств. соответствующее соответствующим соответствующего соответствующих соответствующей соответствующих соответствовать соответствовать соответствующих
В системных иерархиях нет соответствия элементов, потому что как таковых нет и самих элементов (нет структурных элементов, а есть элементы схемы). Системы или объекты в системной иерархии не входят в какую-либо объединяющую их помимо наблюдателя структуру, хотя подобие существует и помимо любого наблюдателя, что может быть подтверждено другим наблюдателем. Структурой при наблюдении иерархии подобия является интеллектуальная модель (схема) такой иерархии. Сами же объекты и системы, включённые в такую иерархическую схему, обладают подобием и различиями. Связующим звеном, объединяющим их можно считать исследователя, мыслящий интеллект. Элементы схемы должны соответствовать схеме, а не системной иерархии.
Понятия «иерархия соответствия» и «иерархия подобия» аналогичны терминам «иерархия» и «гетерархия» у Марвина Мински, см. в книге «A Society Of Mind».
Если космологическую схему считать схемой, выражающей не структурную, а системную иерархию, то при таком подходе может быть не верно говорить о парадоксальности метафизического мышления? Ведь элементы схемы системной иерархии являются простым механизмом только в самой схеме, в действительности же описываемые ей объекты или системы ничего не связывает кроме исследователя. На самом деле, представление о всеобщей, вселенской системной иерархии также парадоксально, как и предположение о возможности всеобщей структурной иерархии.
К системным иерархиям относится также системный параллелизм. Реально существуют многие параллельные системы и даже… миры. Системный параллелизм может быть объяснён довольно просто как системное сходство или, иначе, аналогия.
Почему в какой-либо модельной иерархии системы имеют не только сходство, но и различия? Различия определяются тем, что рассматриваемая система или её компоненты «параллельно» принадлежат, по крайней мере, к ещё одной, системной иерархии. А вот сходство между рассматриваемыми сущностями или структурами определяется их принадлежностью к одной общей иерархии.
Вот один пример. Двигатели внутреннего сгорания можно разделить на карбюраторные и дизельные. Сходство между ними заключается в том, что и те и другие сжигают топливно-воздушную смесь внутри рабочих цилиндров. Различие же между ними заключается в том, что используются различные системы подготовки и впрыска топливно-воздушной смеси.
Рассматривая какую-либо систему можно провести множество параллелей. Проведение параллелей методологически означает поиск сходства и подобия с иными системами. Параллельность (параллелизм) систем означает сходство (или, другими словами, неполное подобие) существующих независимых, автономных и уникальных систем. Если выявляется полное подобие, тождественность систем, то это означает, что наблюдаются разные экземпляры (объекты) одной и той же системы. Параллельные системы аналогичны, а метод их сравнения – это методом аналогий. Этот метод известен в ОТС и используется в практике.
Каждая система уникальна и автономна. И это – всеобщая характеристика всех систем и объектов без исключений. Представление о параллельности систем обобщает и дополняет представление об уникальности, автономности и множественности воплощений систем. В случае очень больших сложных систем можно говорить даже… о «параллельных мирах».
Параллельную систему или мир можно определить так: автономная, обособленная система, – система не входящая во всеобщую иерархию (потому что таковая немыслима), хотя она сама может быть иерархической. Это – система, не входящая в иные иерархии, относительно которых её и можно называть параллельной.
Слышали ли вы когда-нибудь такие выражение, как «мир театра» или «мир театральной богемы»? А «миры Айзека Азимова»? Вы думаете, что это просто метафорические выражения, и всё? На самом деле – всё это реально существующие параллельные системы. Эти системы уникальны, они обособлены от иных систем. Эти системы имеют подобия с другими системами. Таким образом, эти системы входят в некоторые иерархия подобия или иными словами в системные иерархии. Они могут не входить в общую структуру с другими системами, но могут отражать другую параллельную систему, или рассматриваться как модель иной структуры.
Вот ещё примеры параллельных систем.
Ландшафт местности и её карта – это параллельные системы.
– Балет или музыкальное произведение – системы, состоящие из движений или звуков соответственно. Музыкальный стиль или теория, которой придерживался композитор, который написал это произведение – это уже другая система и о ней можно сказать, что она – параллельная система, то есть система параллельная музыкальному произведению.
– Здание театра и исполняемая в нём пьеса, текст этой пьесы, сюжет – параллельные системы. Они имеют области наложения: текст пьесы написан на основе сюжета, сюжет отражает события, которые могли бы иметь место или имели в жизни (является моделью жизненных событий), пьеса исполняется по тексту, конструкция здания учитывает его назначение, исполнение пьесы происходит в пространстве, ограниченном сценой и т. д.
– Мир физических тел параллелен миру математических систем, субстанций и структур. Физическая теория параллельна реальному миру физических объектов и параллельна миру математических объектов, так как использует математический аппарат для описания физических закономерностей. Можно утверждать и обратное: мир реальных физических объектов параллелен физическим теориям.
– Текст, соответствующая ему звуковая форма (чтение) и его смысловое содержание.
– Параллельны форма слова или словосочетания, его значение и его смысл. Слово или словосочетание всегда многозначно, многопланово, то есть параллельно относится к различным смысловым структурам. Это явление носит название омонимии. Значение слова, понятие также параллельны некоторому множеству слов: существуют синонимы. Этот пример можно было значительно расширить, рассмотреть множество структур и явлений, известных в языкознании и литературоведении.