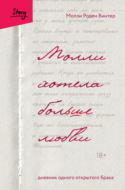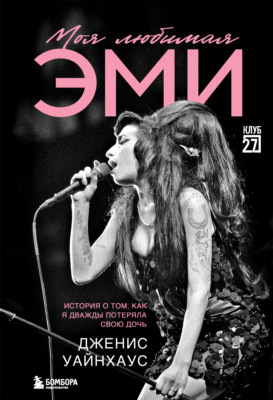Kitabı oxu: «Сундучок, полный любви История о хрупкости жизни и силе бескрайней любви», səhifə 2
Если рак невидим, это означало, что он может быть у кого угодно. Я представляла, как он переползает с одного человека на другого, как головные вши. В моем детском саду много говорили о вшах.
– Нет, – заверяла мать, – ты не можешь заразиться раком от Дейви или от меня. Это болезнь, которая живет внутри.
Однажды утром она вошла в мою комнату, держа что-то в руках, и откинула в сторону «принцессин» москитный балдахин, чтобы присесть на край кровати.
– Вчера вечером Дейви показался мне очень встревоженным, – заговорила она, – он летал по клетке. Поэтому я выпустила его и просто прижала к сердцу. Это, казалось, его успокоило. Так мы с ним просидели пару часов, а потом я перестала чувствовать его сердце напротив своего и поняла, что он умер.
Глядя на сверток в маминых руках, я почувствовала, что́ сейчас будет, и тело, напрягшись, этому воспротивилось. Я не хотела видеть. Я полузакрыла глаза, словно так мой взгляд пропустил бы только часть правды, однако мама откинула ткань, и он был там – между темными краями моих век, весь желто-зеленый и неподвижный.
– Можешь его потрогать, – произнесла она.
Очень медленно я выставила вперед один непослушный палец и погладила мягкие крапчатые перышки.
На Дейви смерть смотрелась какой-то древностью. Рептильные пленки закрыли оба ярких глаза, и я заметила – впервые за все время – чешуйчатые лапки и изогнутые когти. Он казался маленьким и чуточку чужим, как шестьдесят миллионов лет эволюции, спящие в тканевом коконе в руке мамы на моей кровати. Она долго сидела, позволив мне выплакаться, держа эту «окончательность» у себя на ладони.
Мы похоронили Дейви, проведя официальную церемонию на переднем дворе: вырыли могилку под живой изгородью и увенчали ее маленьким деревянным крестиком. Я рассыпала в раскоп побеги дафнии, выдернутые из кустов на заднем дворе, прежде чем мы опустили туда Дейви. Вокруг него расположились горками пшено и каракатица – все, что он любил. Я плакала, каждый произнес по нескольку слов, и все это время я чувствовала на себе взгляд матери.
Каждый раз за эти годы, когда у Дейви была линька, мама собирала выпавшие перышки со дна клетки и складывала их в прозрачную пластиковую коробку, где было много маленьких квадратных отделений, – такую же, как та, где она держала свои многочисленные таблетки. Там были длинные изящные маховые перья с кончиками, подрезанными под острым углом; пуховые грудные перышки, желтые, как лимонное масло; а в самом маленьком отделении ее любимые – крохотные перышки со щечек с маленькими голубыми веснушками. Она говорила, что, возможно, когда-нибудь использует их в каком-нибудь арт-проекте.
Мама не любила расставаться с вещами. Ящики и полочки шкафчиков в нашем доме были полны раковин и камешков, собранных во время долгих прогулок, старых писем, поздравительных открыток, фотографий, сложенных в обувные коробки. Даже оберточная бумага и пластиковые стаканчики от йогурта сохранялись и повторно использовались. Но по мере того, как прогрессировала болезнь, я начала видеть в ее бережливости новый смысл. В последующие годы я стала рассматривать каждый листок или цветок, который она подбирала и вкладывала между страницами книги, каждый отрез старой ленты, который она аккуратно скатывала в рулончик, каждую оторвавшуюся пуговицу, которую она бросала в свою корзинку для шитья, как доброе предзнаменование. Для меня каждая такая вещь символизировала ее веру в то, что у нее еще есть будущее.
Темой праздника по случаю моего пятилетия, первого из тех, что я помню, была «Алиса в Стране Чудес». До сих пор храню одно из огромных приглашений, которые мама сделала из плотной бумаги в форме серого цилиндра Безумного Шляпника. Вложенный внутрь список участников назначал каждому приглашенному определенную роль. Детям достались Чеширский Кот, Гусеница и Шалтай-Болтай, взрослые были колодой игральных карт, а я, разумеется, Алисой.
Родители привлекли на помощь бабушку Лиз, чтобы задрапировать переднюю веранду длинными полосами оберточной пищевой бумаги и разрисовать их так, чтобы они выглядели как вход в кроличью нору. Отец, игравший Белого Кролика, взял напрокат полный кроличий наряд в местном магазине карнавальных костюмов. Мама соорудила набор крокетных молотков-фламинго из пластиковых клюшек для гольфа, на которые натянула ярко-розовые нейлоновые колготки. Она приделала им круглые головы и мягкие тельца из стеганого ватина, соединенные длинными шеями. Напоследок снабдила стаю плюшевыми лапами и клювами и вытаращенными вращающимися глазами. Они лежали в полной готовности на задней веранде, рядом с набором шаров из пенополистирола, обернутых в ежиные иголки из искусственного меха. В день праздника я стояла на передней веранде в голубом платье и передничке, ожидая прихода гостей.
Все прибыли в гриме, с плюшевыми ушами и меховыми хвостами, мы собрались в столовой есть торт и пить молоко. Отец распечатал сценарий той сцены из диснеевского мультика, где Алиса попадает на безумное чаепитие, а мама соорудила гигантские карманные часы из картона и покрыла их золотой фольгой. В то время как Джейми (Мартовский Заяц) и подруга нашей матери Нэнси (Безумный Шляпник) читали свои реплики, мы изображали танец, в процессе которого гости намазывают часы Белого Кролика сливочным маслом, потом поливают чаем, потом мажут джемом. После этого мы играли в «крокей», стараясь закатить ежей с помощью фламинго в белые воротца, вкопанные в лужайку.
Мама оделась как кухарка Герцогини, водрузив на блестящие темные волосы высокий поварской колпак и повязав на талию белый фартук. Она прохаживалась между нами по заднему двору, время от времени выкрикивая: «Еще перца!» – и рассыпая всем на головы конфетти из гигантского шейкера, сделанного из пустой кофейной жестянки. В тот день ей исполнилось сорок два. Потом она говорила, что с нетерпением ждала, когда ей исполнится сорок. Она видела в этом новом десятилетии шанс отбросить прежние обиды и ожидания и начать более аутентичную главу жизни.
Моя память сохранила и отшлифовала день той вечеринки, сгладив острые углы. В тот день казалось возможным, что мамино лечение даст эффект. Она выглядела здоровой и сильной, стоя на черном настиле в белом колпаке и фартуке, обозревая результаты своих трудов. Она спланировала и осуществила мою именинную вечеринку так же, как управляла своими сложными лечебными процедурами и как делала все: скрупулезно, неустанно, в точных и мельчайших подробностях.
В другой раз они с отцом привлекли родственников и нарисовали ростовые изображения Дороти, Железного Дровосека, Страшилы и Трусливого Льва на огромных кусках картона, расставив их по дому для тематического праздника в честь Джейми по «Волшебнику страны Оз». Для него на вечеринку «Черепашки-ниндзя» изготовили и раздали всем участникам тканевые маски ниндзя, а отец в костюме Шредера разыграл сцену похищения нашей кузины Джесси. Для моей вечеринки «Под водой» мать много дней складывала косяк бумажных оригами-рыбок, чтобы они плавали сквозь водоросли из папиросной бумаги по потолку столовой. Среди всего ужаса маминой болезни праздники были той радостью, которую можно было ждать с нетерпением. Они стали походить на огромные деревенские фестивали. Друзья, родственники и соседи – все помогали воплотить эти зрелищные представления. В те недели, пока мать и отец готовили пышные зрелища, они казались счастливыми.
После каждого праздника родители не убирали украшения, и они накапливались, слой за слоем, пока дом не начал походить на музей детских фантазий. Больше десяти лет сцены из «Волшебника страны Оз» украшали стены. Рыбки продолжали плавать по потолку столовой. Огромные игральные карты стояли, прислоненные к перилам, точно пустые рыцарские доспехи, а почетный караул из ядрено-розовых фламинго, расставленных по передней прихожей, смотрел на нас выпученными глазами из-под утолщавшегося слоя пыли.
Родители, Питер и Кристина, встретились на вечеринке в Сан-Франциско в 1981 году и поженились два года спустя в том же городе. Он был бухгалтером-аудитором, она только окончила бизнес-школу. Отец за несколько лет до их знакомства уехал из Англии, но по-прежнему употреблял в речи типичные англицизмы. Он был красив, этакий гибрид Джеймса Дина и Хью Лори, с голубыми глазами и волосами оттенка клубничный блонд; и обе эти черты передал мне. Он всегда носил в кармане носовой платок и завязывал на нем узелки, чтобы напоминать себе о вещах, которые все равно забывал. Его полное имя было Питер Кингстон, однако моя мама называла его Питером Пэном.
Отец умел все превращать в игру. Самый маленький клочок поникшей травы перед церковью или банком был возможностью поиграть в «великого старого герцога Йорка» – мы маршировали строем вверх по холму, а потом так же строевым шагом спускались вниз. Он обожал сокращенные маршруты. Наш первый, бело-голубой дом стоял через улицу от начальной школы, которая каждый вечер запирала ограду детской площадки на замок. Отец взял кусачки по металлу, перекусил цепь, удерживавшую ворота, и повесил собственный замок рядом со школьным, чтобы его можно было открыть, когда нам хотелось там поиграть. Школа периодически заменяла цепь, и он покупал очередной новый замок. Несколько лет у меня был друг по имени Трэвис, чей дом стоял сразу за нашим. Отец выпилил прямоугольник из нашего заднего забора и приладил выпиленный кусок на петли с металлическим засовом. Потом пошел к дому Трэвиса и выпилил дыру и в его заборе. Проход, соединявший эти две дверцы, тянулся через небольшой промежуток между задними заборами соседей, густо заросший плющом и населенный пауками-волками. Время от времени отец проходился по этому переходу с мачете, срубая ползучие плети и расчищая для меня дорогу. Утром по выходным иногда покупал большой промасленный бумажный пакет маффинов и круассанов в местной пекарне, потом прятал его где-нибудь на старом сельском кладбище, которое располагалось в конце нашей улицы, пристраивая пакет на низко нависшей ветви дуба или под мраморной скамьей. Затем приводил нас с Джейми к воротам и указывал внутрь: «Идите и найдите свой завтрак!»
Отец предоставил маме быть ответственной за всю дисциплину – это роль, с которой она превосходно справлялась, хоть и терпеть ее не могла. Она вечно создавала какие-то правила, чтобы упорядочить ландшафт наших дней. Распечатывала маленькие меню на четвертушках листа и просила нас выбрать, что мы хотим на завтрак и обед с собой. Маленькие галочки, которые я ставила рядом с пунктами «изюм с орехами» и «котлетки из риса с тунцом», были контрактными соглашениями, обещаниями съесть эти блюда, поскольку я сама их попросила. Она делала нашу жизнь как можно более предсказуемой, стабилизируя все, до чего могла дотянуться. Время от времени пыталась поменяться местами с отцом и назначить его на роль блюстителя порядка.
– Давайте-ка все почистим зубы и наденем пижамы до того, как папочка придет домой, – говорила она, пока он проводил неторопливый вечерний обход окрестностей вместе с Типпи. – Он будет недоволен, если не ляжете в постель до его возвращения.
Иногда мы подыгрывали. При этом знали: на самом деле ему все равно, в какое время мы пойдем спать. Он был своего рода человеком-реквизитом в ее сольной кампании по наведению порядка в нашей жизни.
Не помню, когда родители начали спать в разных спальнях. Вот вроде бы еще вчера отец ночевал в самой большой комнате, сразу у лестницы на втором этаже, а вот он уже в соседней, гостевой спальне, где спал его отец, когда приезжал в гости из Англии. Когда я проснулась от дурного сна и побрела по коридору, чтобы забраться в родительскую постель, то обнаружила в ней только маму, так что там было сколько угодно места для меня, чтобы свернуться калачиком подле нее. Для меня данная перемена только это и значила – больше ничего. Я не связывала ее со ссорами, которые часто слышала по вечерам сквозь пол спальни.
Родители никогда не ссорились на втором этаже, но, видимо, не сознавали, что отзвуки конфликта могут просачиваться из кухни на второй этаж, проникая в пространство над ней. Иногда я притаивалась на лестнице или на диване под одеялом, чтобы слушать, как взлетают и затихают голоса. Я не запоминала ни одного слова, только кругообразные паттерны их споров, как одна тема перетекала в другую и сливалась с ней, пока все не начинало тонуть в трясине обиды. Я ни разу не видела, чтобы Джейми вышел из комнаты послушать эти разговоры. Казалось, он предпочитал отключаться от их голосов, уходить в книги, или в рисование, или в сон. Он всегда был тихоней.
– Джейми – ИН-троверт, а ты – ЭКС-траверт, – однажды объяснила мама, выделив эти слова голосом. – Вот почему он не всегда может играть, когда ты от него этого хочешь.
По сравнению с Джейми я была вечно буйная, шумная, требующая внимания. Гости нашего дома нет-нет да и спотыкались об экземпляр книги «Воспитание вашего энергичного ребенка», валявшийся на полу. Когда эти гости пытались покинуть наш дом, то обнаруживали, что я куда-то спрятала ключи от машины. Иногда я брала моток веревки и потихоньку привязывала гостей за ноги к ножкам стульев в столовой, пока они сидели за столом. Я терпеть не могла, когда кто-то выходил за дверь. И никогда до конца не верила, когда они говорили, что еще придут.
– Вот же ты подменыш, – пеняла мне мать, когда я содрогалась на полу после бурной истерики. – Наверняка фейри подменили моего человеческого малыша своим, когда я отвернулась. Ты должна была родиться в какой-нибудь большой итальянской семье, где все свободнее выражают свои чувства. А вместо этого тебе достались мы.
Она имела в виду, что наша семья, имевшая английские корни с обеих сторон, была до основания проникнута передававшимся из поколения в поколение дискомфортным отношением к бурным эмоциям. Чувства, особенно некрасивые, такие как гнев или разочарование, были вещами, которые следовало признать, а затем подчинить своей воле. Эмоции были ответственностью человека, который их ощущал, и ему стоило отправиться в свою комнату и пробыть там столько, сколько нужно, чтобы успокоиться, и лишь потом выйти. А слезы и споры, похоже, приберегались для темного времени суток, когда всем остальным полагалось спать.
В иные ночи, когда голоса родителей становились особенно громкими, я выбиралась из своего потайного укрытия и выходила прямо на их поле битвы. Встав между ними, я вопила, или плакала, или нарочно что-нибудь роняла – в общем, делала все, что могла, только бы отвлечь их внимание друг от друга и перевести на себя. Для них было безопаснее сердиться на меня, поскольку меня-то в конце концов точно простят.
По воскресеньям мы вчетвером проходили полтора квартала до дома бабушки Лиз, чтобы поесть блинчиков. Улица между нашими домами была обсажена деревьями гинкго, и малейший ветерок приводил их кроны в движение, заставляя трепетать миллионами крохотных зеленых вееров.
Мать моей матери была высокой жилистой женщиной чуть за семьдесят, с проблесками серебра в темных волосах, с голубем мира, вытатуированным на внутренней стороне запястья, и привычкой прищелкивать языком. Как и отец, она была англичанкой и до сих пор говорила с легким акцентом, хотя ей было всего восемнадцать, когда она познакомилась во время Второй мировой войны с моим дедушкой-американцем и вышла за него замуж. За десять лет они прижили четверых детей, из которых мама была последней. Как-то раз она рассказала, что, по ее мнению, ее родили, чтобы спасти брак родителей, и свою задачу она провалила. Те развелись, когда она была совсем крохой, и отец-политик уехал жить в Вашингтон. Там, на другом конце страны, снова женился и обзавелся еще тремя дочерями. Они с моей матерью никогда не были близки. Дед умер, когда мне было три года, и я его совершенно не помню.
В доме бабушки Лиз была красная парадная дверь, которой никто никогда не пользовался, и огромная пальма, которую медленно душил ползучий плющ, росший у фасада. В шкафу в прихожей она хранила стопки книжек с 3D-иллюстрациями, полные цветных изображений динозавров, морских созданий и галапагосских птиц, которые поднимались со страниц, когда их переворачивали. Крепко зажав одну из них, мы с Джейми боролись за возможность потянуть за картонный язычок, который заставлял приплясывать лапки голубоногих олушей или раскрутить колесико, раскрывавшее воротник веерной ящерицы.
Блинчики бабушки Лиз были не похожи ни на чьи другие, поскольку она добавляла в тесто обезжиренный йогурт (она произносила «йа-гУрт»). Она отрезала кусочек сливочного масла в сковороду и выливала на нее одну ложку жидкого теста, проверяя нагрев. Переворачивала блинчик, потом разрезала пополам, чтобы понять, пропекся ли. Пока она выливала на сковороду очередную порцию теста, мы с Джейми на пару съедали пробный блинчик, кисловатый от йогурта и пропитанный горячим маслом.
Бабушка Лиз была художницей и преподавала живопись в местном колледже. Ее второй муж Билл Квандт (отец дядюшки Кью) был фотографом, ему принадлежал маленький магазинчик стереосистем. После его смерти она вышла замуж в третий раз, однако в моих воспоминаниях тот муж остался только седой шевелюрой, мельком увиденной над спинкой кресла. К тому времени как я с ней познакомилась, бабушка Лиз занималась в основном офортами, и в студии показывала нам с Джейми, как вырезает рисунок или узор в воскообразном материале, называемом грунтом, которым была покрыта стальная пластина. Затем окунала пластину в кислоту, которая въедалась в оголенный металл, протравливая на поверхности рисунок. Далее покрывала пластину чернилами, и печатный пресс высокого давления переносил рисунок на бумагу. Пластину с однажды нанесенным рисунком можно было использовать для создания оттисков снова и снова.
С раннего возраста у Джейми проявились способности к рисованию. В отличие от меня, он, казалось, интуитивно понимал, как выводить линии на странице, чтобы собака была похожа на собаку, а дом – на дом. Пока они с Джейми делали зарисовки, бабушка Лиз позволяла мне трогать и брать в руки многочисленные красивые предметы, которые держала в крохотных отделениях старинного наборного ящика, висевшего на стене студии. Там были гладкие кусочки морского стекла и осколки неограненных полудрагоценных камней. Там были миниатюрные молочно-белые раковинки, идеальные в своей извивистой сложности, и потемневшие серебряные ключики, такие маленькие, что, казалось, должны были открывать дверцы домиков фей. Бабушка Лиз хранила их, только чтобы рассматривать и рисовать, но я была уверена: это вещицы, которыми гордился бы любой музей.
– Бабушка из нее куда лучше, чем мама, – с легкой завистью не раз говорила моя мать. – С нами она никогда так не общалась.
В те давние времена бабушке Лиз, работающей матери пятерых детей, действительно не хватало внимания на все и всех. Детство моей мамы было разделено между ремесленным, богемным миром бабушки Лиз и богатым консервативным миром отца, и в обоих привязанность и близость являлись дефицитным ресурсом. От бабушки Лиз мы с Джейми получали все то нежное внимание, которое не досталось маме, словно время одновременно и усилило, и смягчило ее любовь.
Осенью после празднования моего пятилетия, когда листья гинкго вдоль нашей улицы окрасились золотом и стали опадать, образуя шелковистые кучки, мама начала проводить в доме бабушки Лиз все свободное время. Неделю за неделей я видела ее, казалось, только в те моменты, когда она или была на полпути к дверям, или только-только вошла в дом, с развевающимися по ветру длинными волосами, с узорчатой керамической миской овсянки в руке. «На ходу» – так она это называла. Наши завтраки по воскресеньям прекратились, поскольку, как говорила мать, бабушка недостаточно хорошо себе чувствует, чтобы жарить блинчики. У нее тоже рак, объяснила нам мама, но не в груди и не в костях, а в легких.
Однажды утром в начале декабря мать усадила нас с Джейми для разговора.
– Вы знаете, что бабушка Лиз очень больна.
Мы кивнули.
– Так вот, этим утром мне позвонили и сообщили, что она угасает, и я поспешила к ней так быстро, как могла. Как раз когда я переступила порог, она испустила последний вздох и умерла.
Мама говорила просто и ясно, но на последнем слове голос дрогнул. Мы с Джейми молчали. Должно быть, я плакала, однако мне запомнилось лишь ощущение, будто мать говорит нам что-то очень-очень важное. У бабушки был рак, и она не выжила.
Потом мама спросила:
– Вы хотите ее увидеть?
Деревья гинкго стояли обнаженные, когда мы шли к дому бабушки Лиз. Их ветви крест-накрест расчерчивали туманное небо, точно сошедшие с одного из ее офортов. В воздухе витал чистый запах земли после дождя. На мне было лиловое шерстяное пальтишко с крупными фиолетовыми пуговицами по переду, я держала мать за руку, и три моих шага приходились на один ее. Джейми с отцом следовали за нами.
Мы прошли в парадную дверь бабушки Лиз, которой никто никогда не пользовался, мимо высокой пальмы, полузадушенной плющом, в заднюю часть дома. В непривычно тихой кухне стояла холодная плита. Гостиная выглядела так же, как и всегда, вся в осенних коричневых и жжено-оранжевых тонах, которые бабушка обожала. У одной стены стояла статуя антилопы, которую в любом другом декабре бабушка уже украсила бы бусами и мишурой.
Приближаясь к двери спальни, я все замедляла и замедляла шаг. Внутри меня копился страх. Мне никогда раньше не приходилось видеть мертвого человека. Сквозь дверной проем я видела людей, суетившихся и перемещавшихся туда-сюда, что-то поправляя и расставляя. Мало-помалу придвигаясь ближе, я мельком увидела угол бабушкиной кровати, а на нем край ткани. Я знала это платье – длинное, красочное, приятное на ощупь. Его привычность придала мне достаточно храбрости, чтобы войти.
Поначалу я нарочно затуманивала зрение, боясь прямо посмотреть на фигуру на кровати. Моя мать и Антуанетта уже одели ее тело в ту одежду, которая должна была быть на ней при кремации. В щель между полуприкрытыми веками я увидела, что они сложили ей руки на животе, и разглядела длинную нить серебряных бус, покоившуюся на груди. Она была такой неподвижной! Собрав всю решимость, я сделала шаг вперед, чтобы посмотреть ей в лицо. В расслабленных линиях рта было какое-то глубокое умиротворение. Казалось, она улыбалась.
Со своего места у изножья кровати я наблюдала, как мама подошла к безмолвной фигуре, протянула руку и коснулась того места, где раньше теплилась жизнь. Эта картина въелась в мое сознание, как кислота, и навеки осталась вытравленной в нем.
Впоследствии я узнала от тети и дядьев, которые сидели у постели, что в свои последние недели бабушка пыталась заключить сделку с Богом.
«Возьми мою жизнь, – эти слова стали ее молитвой. – Забери меня и дай жить моей дочери».
Мама была четвертой из пятерых детей бабушки Лиз. Брат Билл был старше нее на десять лет, следующей родилась Антуанетта, а потом Уорд. Он жил в двух часах к югу от нас, в центре духовных ретритов и семинаров под названием «Маунт Мадонна», основанном на принципах йоги. Как и Уорд, моя мама интересовалась духовностью, и наши книжные шкафы содержали множество томов по буддизму, юнгианской психологии, философии и учениям нью-эйдж.
Когда мне было шесть лет, Уорд познакомил ее с супружеской парой из Буркина-Фасо, которая приехала читать лекцию в «Маунт Мадонне». Собонфу и Малидома Соме были духовными учителями, лекторами и писателями, которые постоянно жили в Окленде. Они как раз опробовали новую модель семинаров, вдохновленную традициями деревни, где оба выросли как коренные члены племени дагара. Они называли группу людей, которые приезжали участвовать в этой рассчитанной на год программе, куда вошла и мама, «деревней».
В течение следующего года группа из примерно пятидесяти человек ежемесячно собиралась в большом конференц-зале в Мерритт-колледже, где стены были сплошными окнами с видами на холм и залив. Несколько раз мама ездила в Окленд (на дорогу уходил час) одна. Иногда мы ездили вместе, и тогда за рулем был отец. Когда я впервые вошла в конференц-зал, меня встретила высокая женщина с круглым открытым лицом, широкими скулами и заметной щербинкой между двумя передними зубами. Собонфу всегда носила длинные платья с яркими принтами, повязывала длинные, заплетенные в косички волосы отрезом ткани соответствующей расцветки. Ее смех напоминал этакий радостный вопль. Она разговаривала со мной так же, как с присутствовавшими взрослыми, словно не видела между нами никакой разницы.
В деревне, где она родилась, ритуалам придавали большое значение, говорила Собонфу. Были частные и общественные; для празднования и для скорби; ежедневные, ежемесячные и ежегодные. Так люди осмысливали события своей жизни – и свидетельствовали жизни других. Они с Малидомой считали, что причина многих недугов западного общества – утрата ритуалов в жизни. «Деревня» была задумана как вместилище ритуала, импровизированное сообщество, целью которого было хранить общий опыт.
Все, что нужно для ритуала, говорила Собонфу, – выделить священное место и построить святилище. Чтобы создать его, заинтересованные люди должны задать намерение, договориться об общей цели. Они могут отграничить физическое пространство кру́гом из листьев, камней или золы. Чтобы построить святилище, нужны значимые предметы. Это могут быть фотографии, свечи, бусы, емкость с водой. Существуют пять первичных элементов, пять стихий, говорила Собонфу: вода, огонь, земля, природа и минерал. В зависимости от назначения ритуала определенный цвет или предмет может символизировать одну или несколько стихий. Они с Малидомой верили, что каждый человек связан с одной первичной стихией, определяемой годом его рождения. Моя мать была огнем – стихией снов, ви́дения и силы. Джейми был землей – стихией дома, заземленности, стабильности. Мой отец и я были минералом – стихией историй, памяти.
Встречи в конференц-зале длились часами, и когда мы с Джейми уставали и начинали вертеться, отец брал нас на прогулку по ближним холмам. Казалось, во время прогулок небо всегда было пасмурным, ветер гнал облака над нашими головами.
После первой такой встречи я спросила маму, у всех ли людей в «деревне» рак, как у нее. Она ответила: «Нет, все пришли туда по разным причинам». Особенно мама сдружилась с Джеем, героиновым наркоманом «в завязке», который ездил на «харлее» и всегда пах мятой и табачным дымом. Он часто оставался ночевать у нас на диване в гостиной, и по утрам я, спустившись со второго этажа, обнаруживала там его длинную, сонную фигуру с торчавшими с концов дивана конечностями. Поначалу я побаивалась его огромного тела и низкого голоса, но, когда он усаживал меня к себе на колени, в его сильных руках я чувствовала себя так, будто надежно пристегнута к креслу на аттракционе в парке развлечений.
Между ежемесячными общими встречами члены «деревни» собирались небольшими группами дома друг у друга. Собираясь в нашем, они всегда жгли шалфей, и этот запах стал ассоциироваться у меня с их присутствием. Я всегда была рада видеть Собонфу, и она, заметив, что я мнусь поблизости, всегда освобождала для меня место в их круге. Часто мне не хватало терпения просидеть больше нескольких минут, однако она неизменно привечала меня. Детей, говорила она, ни в коем случае нельзя исключать из ритуала. Собонфу помогла маме соорудить святилище перед камином возле кухни. Они поставили длинный деревянный складной стол и покрыли его тканью. Красной – в честь огня. На столе расположили фотографии моих бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, а также предметы, символизировавшие пять стихий. Впоследствии мать помогла нам с Джейми создать похожие святилища, только поменьше, в наших спальнях.
Собонфу говорила мне, что эти фотографии символизируют всех моих предков. Я могла набираться мудрости от этих людей, даже если никогда с ними не встречалась, поскольку они вступили в великое сообщество ду́хов. Я смотрела на фотографии, вглядываясь поочередно в каждую пару пиксельных глаз. Дольше всех смотрела на фотографию бабушки Лиз, мечтая, чтобы она рассказала мне, где находится сейчас и каково ей там. Все эти люди, думала я, знают, каково это – умирать. Со временем фотографии стали в моем духовном понимании чем-то близким к божествам, своего рода пантеоном предков, богами и богинями моего прошлого.
Мамин год в «деревне» пришел к кульминации в виде самого важного ритуала из всех: инициации. Собонфу объясняла, что она состоит из трех частей. Во-первых, путь: неинициированный член сообщества должен отринуть комфорт и безопасность дома и семьи, отважившись шагнуть в неведомое. Во-вторых, драма: он должен пройти какое-то физическое или эмоциональное испытание, имеющее целью проверить характер, решимость. В-третьих, возвращение домой: инициированный возвращался в общину, и его, изменившегося, привечали дома.
– Что придется делать маме? – спросила я Собонфу. И представила, как она тащит на спине гигантский валун.
– У разных людей инициация может быть разной, – ответила та. – Твоя мать проходит собственную инициацию. Ее болезнь. Вся ваша семья через нее проходит.
Из-за этого мама не участвовала в ритуале, когда другие члены «деревни» закапывались в землю по шею и часами оставались в таком положении.
Годы спустя, листая страницы черного альбома, я наткнулась на фотографию небольшой кучки предметов: крохотных раковин, керамических бусин, металлических ключей. Они напомнили маленькие сокровища, которые бабушка Лиз держала в отделениях наборного ящика на стене своей художественной студии. Я вытащила картонный сундучок и стала перебирать его содержимое, пока не нашла почти на самом дне маленькую, никак не помеченную коробочку, внутри которой что-то перекатывалось и гремело. Под фотографией в альбоме мама написала:
Мой дорогой друг Джей носил все эти маленькие сокровища в маленькой ладанке на шее все время ритуала инициации в «деревне». Поскольку я не могла участвовать, Джей делал все необходимое вдвойне – один раз за себя, другой за меня. В том числе лежал, закопанный, четыре часа. Эти вещицы были в земле вместе с ним.
Некоторые из этих предметов предназначены тебе, другие – Джейми. Используйте их для ваших святилищ. Они – носители мощной энергии, духа и любви. Храните их в тайне и безопасности. Люблю тебя, милая моя девочка.
Твоя мама
Я ощутила укол вины. Прошли годы с тех пор, как я разобрала святилище в своей комнате. Я не знала, как объяснить его присутствие друзьям, приходившим в гости. В то время я была подростком, и воспоминания о Собонфу, Джее и «деревне» начали тускнеть от времени и «отсутствия употребления». Эти собрания казались такими далекими от текущей жизни с ее экзаменами по геометрии, влюбленностями и друзьями, будто приснились.