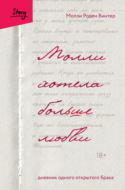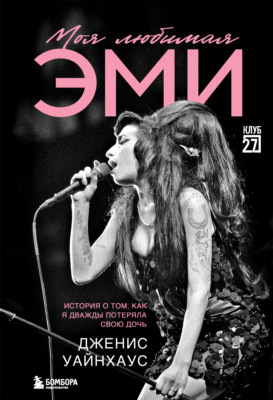Kitabı oxu: «Сундучок, полный любви История о хрупкости жизни и силе бескрайней любви», səhifə 3
Как ни странно, на том свертке не было никаких пометок, так что осталось неясным, когда, по мысли матери, я должна была открыть его и найти эти вещицы. Вертя в пальцах крохотные памятки прошлого, я ощутила прилив благодарности за предоставленное ими доказательство, что мои воспоминания о «деревне» не были придуманными. К тому времени большая часть моей жизни до смерти матери стала казаться сказкой, давно утраченным фантазийным миром мифов и магии. Но, подумала я, перекатывая в пальцах маленькую бусинку, эти годы были реальными, такими же, как вещи в моей руке.
Я не помню, зачем мы решили той зимой переставить мою кровать. То ли хотели прикинуть, как она будет смотреться у окна, то ли нам понадобилась одна из многочисленных вещей, которые постоянно заваливались между ней и стеной: книги, носки, пластиковые шпаги, волшебные палочки… Но когда мама ухватила ее под изножье и приподняла, звук, раздавшийся откуда-то из глубины ее тела, походил на пистолетный выстрел.
Крак!
Мелькнула доля секунды, пропущенный удар сердца между этим звуком и моментом, когда она упала. Мне было шесть лет, и я не знала, что делать, поэтому застыла в дверном проеме как вкопанная. Потом мать закричала.
Я никогда не слышала, чтобы кто-то издавал подобные звуки. Впечатление было такое, будто ее жгли заживо. Я продолжала стоять на месте, парализованная. Я боялась прикоснуться к ней, но слышать звук, который она издавала, было нестерпимо, как и видеть ее, извивающуюся на полу.
Постепенно сплошные крики разбавились прерывистым дыханием, и вот она уже смогла пустить поверх него пару произнесенных шепотом слов:
– Приведи… папу.
Это указание сбросило с меня оцепенение, и я побежала. Встретила на лестнице бегущего вверх отца и указала на дверь своей спальни. Он промчался мимо меня: та же паника, которая заставила меня застыть соляным столбом, подтолкнула его к быстрым, решительным действиям.
Вернувшись на порог комнаты, я смотрела, как он наклонился над матерью, касаясь ее тела мягкими, испытующими движениями. Он заговорил тихим успокаивающим голосом, задавая вопросы, заставляя ее дышать. Сквозь пелену ужаса я отметила странную, внезапную нежность между ними, такую интимную, как если бы застукала их за поцелуем. Мама всегда была такой сильной, такой великолепной. Трудно было представить, что она может в чем-то нуждаться или принимать такую мягкость. А теперь она плакала на ковре, и отец гладил ее по волосам. Через пару минут он начал поднимать маму на ноги. На это ушло много времени. Каждый крохотный миг заставлял ее резко втягивать в себя воздух или скулить. Наконец, она встала, тяжело привалившись к отцовскому плечу. Я стояла в стороне, пока он поддерживал ее, помогая преодолевать один мучительный дюйм за другим – по геометрическому узору моего ковра и дальше, сквозь дверной проем спальни.
После этого мать промучилась несколько недель, испытывая то усиливавшуюся, то затихавшую боль. Не знаю, встречалась ли она в это время с врачом, но, полагаю, распоряжения доктора Гонсалеса могли этого не допустить. Мать терпеть не могла лежать пластом, поэтому отец арендовал больничную койку-трансформер и поставил ее в комнате рядом с кухней, чтобы она не была заперта в одиночестве на втором этаже. В те недели я проводила вторую половину дня, сидя по-турецки у ее ног, наслаждаясь новизной явления – кровать посреди дома! В те дни, когда боль была терпимой, мы слушали «Бессмертного Хэнка Уильямса» на кассете, и она учила меня шить. Я научилась изготавливать подушечку для булавок, сложив вместе два квадратика ткани и ведя простой прямой шов по краю, оставляя в самом конце отверстие около дюйма в ширину. Потом вывернула получившийся мешочек наизнанку, набила белым наполнителем из полиэстера, положила внутрь пару веточек сушеной лаванды и зашила отверстие. В уголке неровным петельным швом вышила инициалы Г. К. – первые буквы своих имени и фамилии, а также наших с мамой имен, Гвенни и Кристина.
Однажды поздней ночью я проснулась от воя сирен и бело-голубых огней машины неотложной помощи, которые плясали по стенам моей спальни. Я подошла к окну и увидела, как два санитара достают носилки из задних дверец машины. Я видела машину «неотложки» только в кино и вдруг подумала, что носилки означают, что мама умерла. Мне было слишком страшно открыть дверь, поэтому я осталась дрожать в своей темной спальне. Шум шагов и голоса долетали до меня из коридора нижнего этажа. Показалось, что я услышала голос Собонфу, низкий и встревоженный. Пару минут – или часов – спустя я увидела в окно, как те же двое санитаров погрузили тело матери в машину и увезли прочь.
Впоследствии я узнала, что Собонфу тем вечером была в нашем доме вместе с другими членами «деревни», проводя ритуалы, чтобы помочь маме справиться с болью. Однако с этой болью справиться было невозможно, и, наконец, ее мучения стали настолько сильны, что кто-то позвонил в 911. Санитары, приехав, хотели уложить мать на носилки, но та сказала, что любое давление на спину невыносимо, и они долго искали способ перенести ее.
В больнице рентгеновские снимки показали компрессионный перелом. В какой-то момент после того, как она упала в моей комнате и неподвижно лежала на койке на первом этаже, ее позвоночник попросту сломался. Хирурги сумели стабилизировать место перелома металлическими заклепками, но один отросток, однако, всегда торчал в сторону, явственно выпирая под кожей. Перелом со временем зажил, но сделанные в больнице снимки, первые за эти несколько лет, показали его фундаментальную причину. Рак распространился в кости.
Родители рассказали нам об этом к концу весны. К тому времени мать уже сидела, нося поверх одежды громоздкий корсет для поддержки спины. После ужина мы вчетвером собрались в официальной передней гостиной, где обычно праздновали Рождество или устраивали званые ужины. Стены были окрашены в глубокий, бархатный красный цвет, два кожаных дивана были красными, и в ковре на полу тоже были красные нити. Обычно вся эта краснота делала комнату уютной, но в тот вечер казалась резкой, как тревожный сигнал. Мать и отец сели на один диван, а мы с Джейми на другой. За большими окнами было темно, на дубовом кофейном столике между нами стояла большая керамическая миска с водой и четырьмя красными плавающими свечами. Четыре свечи, поняла я, для четырех членов нашей семьи. И в продуманной композиции момента чуяла опасность.
Говорить начала мама. Я перебила:
– Зачем куры перебежали дорогу?
Она непонимающе уставилась на меня.
– Чтобы попасть на другую сторону!
– Ладно, Дженни, давай, угомонись.
Но я не могла. Я выдала еще одну шутку. Я изображала смешные голоса. Я вскочила, чтобы пересесть на колени к папе. Я перепробовала все известные мне способы, только бы не дать ей произнести слова, приближение которых чувствовала. Если я их не услышу, то они не будут, не смогут быть правдой. Наконец мать пригвоздила меня взглядом к дивану.
Она сказала, что умирает. Она не использовала слова вроде «метастатический» или «терминальная», но сказала, что рак разросся и распространился, что она не выздоровеет и врачи надеются лишь дать ей еще некоторое время. Она сказала, что продолжает искать новые виды лечения, что не сдалась и не сдастся никогда. Она хочет провести с нами столько времени, сколько ей смогут дать. Хочет остаться с нами больше всего на свете. При агрессивном лечении, сказала она, возможно, у нее будет год.
Это слово ударило в мое сердце, как в гонг. Год. Двенадцать месяцев. Пятьдесят две недели. Триста шестьдесят пять с четвертью суток. Достаточно времени, чтобы окончить один класс школы или посадить луковицы и увидеть, как они зацветут. За год можно отрастить волосы на шесть дюймов, выучить новый язык, зарастить сломанную конечность. Мне только исполнилось семь, и до этого момента казалось, что год – это долго. Я была потрясена, обнаружив, что год – это вообще ничто. Я посмотрела на четыре свечи на столике между нами.
Одна из них должна сгореть быстрее, подумала я.
Пока мать говорила, Джейми сидел совершенно неподвижно и молча. Он сидел, вжавшись в свой угол красного дивана, опустив веки, словно вот-вот уснет. У него, понимаю я теперь, был собственный метод попытаться не слышать того, о чем нам говорила мама. Пока она продолжала говорить, его ровное дыхание постепенно сменилось дрожащим, потом он начал судорожно хватать воздух, когда слезы полились по веснушчатым щекам. Я видела брата плачущим, только когда он падал и ушибался. К тому времени как все мы пошли наверх надевать пижамы, и я, и он обрыдались до изнеможения.
Доктор Гонсалес отказался считать мою мать своей пациенткой, когда ее рак распространился. Он заявил, что она недостаточно точно следовала протоколу, а то, что в больнице ей сделали рентген, было нарушением соглашения. Он оборвал все связи и предоставил ей самой разбираться, что делать дальше.
Я ни разу не слышала, чтобы мама говорила о том, что́ чувствовала, когда человек, которому она доверилась, бросил ее. Когда я пытаюсь поставить себя на ее место, то ощущаю такой всепоглощающий гнев и чувство предательства, что это пугает меня саму. Хочется встретиться с этим человеком лицом к лицу и заставить его понять, что никто на свете не мог быть более преданным той задаче, которую доктор Гонсалес поставил, чем моя мать. Она была создана для битвы такого рода. Ее требовательная, строгая, бескомпромиссная натура делала ее идеально подходящей для выполнения такой строгой программы. Полагаю, отчасти именно поэтому она изначально привлекла мать – позволяла ей чувствовать себя ответственной. Мама верила: если сделать все идеально, если отвечать высочайшим возможным стандартам, можно выжить.
Возможно, мать верила, что сама виновата в неуспехе лечения. Я представляю, как она мысленно перебирала последние три года, снова и снова. Может, не приняла вовремя таблетку? Забыла про клизму? Съела кусочек запрещенного мяса или выпила бокал вина? Через год или два после начала программы лечения по Гонсалесу она обнаружила, что специальная система фильтрации воды, которую по ее заказу установили в нашем доме, оказалась бракованной, и вода, которую она пила, была просто обычной водопроводной, возможно, даже менее чистой из-за неисправного оборудования. Когда мать это выяснила, она была в ярости и отчаянии. Она опасалась, что одна-единственная ошибка может пустить по ветру все старания. Может, продолжала винить в случившемся нечистую воду. Может, винить бездушный механизм было легче – не так ужасающе.
Много лет спустя я искала информацию по доктору Николасу Гонсалесу и узнала, что в те же годы, когда он работал с моей мамой, медицинский совет штата Нью-Йорк объявил ему официальный выговор за отход от принятых практик и назначил два года испытательного срока. Через пару лет предпринятое масштабное клиническое исследование не смогло найти никаких доказательств эффективности его методов лечения. Я также поговорила с онкологом, который лечил маму сразу после доктора Гонсалеса.
– Когда мы познакомились, – рассказывал доктор Ричардсон, – это была очень яркая, молодая, умная женщина, проделывавшая для лечения рака все эти странные вещи. Эти методы лечения были болезненными, потенциально вредными и очень дорогостоящими. Я не против альтернативной медицины и думаю, ваша мать именно поэтому захотела со мной работать, ведь я не морщил нос. Я согласился быть одной из спиц в колесе ее лечения. Но некоторые вещи, которые он заставлял ее делать, являлись опасными.
Я спросила, почему, как ему кажется, после всех основательных исследований мама выбрала тот путь.
– Умных людей, таких как она, тянет к подобным вещам, – объяснил он. – Людей, не следующих правилам, которые идут на риск. Они привыкли нарушать традиции. Это делает их успешными – но и уязвимыми.
Это было мне понятно, однако при мысли о последствиях ее решения – отвернуться от традиционного лечения в пользу чего-то нового и неопробованного – у меня темнело в глазах от душевной боли. Я хотела вернуться назад в прошлое, вырваться из мерцающей временной аномалии, как кто-то из героев «Звездного пути», и умолять маму принять другое решение. Я не знаю, спасло бы ее радиологическое и химиотерапевтическое лечение на ранних стадиях, но они могли дать шанс. А это, в конечном счете, все, о чем она просила, – шанс побороться за свою жизнь.
Кабинет детского психолога не был похож ни на один из врачебных кабинетов, которые я видела прежде. В нем была маленькая кухонька с холодильником, плитой, столом и двумя стульями, стоявшими на покрытом линолеумом полу. За кухонькой располагалась комната с ковром, полная книжек, игр, игрушек; в ней была даже миниатюрная песочница, установленная на пару шлакоблоков. Терапевт, которая велела мне называть ее Джуди, была высокой женщиной лет сорока с небольшим, с кудрявыми каштановыми волосами, носом, напоминавшим клюв, и карими глазами в приятных морщинках. Я оглянулась на мать, проходя в открытую дверь. Она сидела и читала в комнате ожидания, где ровно урчала машина белого шума. Корсет, который она продолжала носить, придавал ее телу под свободным зеленым хлопковым платьем странно квадратный вид. Она обещала быть там все время, пока я буду на приеме, и мне все равно потребовалось все мужество, чтобы выпустить ее из поля зрения.
Во время первого сеанса Джуди не задала мне никаких вопросов о матери или ее болезни. Она наблюдала, как я играю с маленькой песочницей, роя траншеи и туннели и наполняя их пластиковыми фигурками животных и диснеевских принцесс. Время от времени спрашивала, что я делаю и кто эти люди, населяющие мой маленький мирок. Я трудилась не покладая рук и едва удостаивала взглядом женщину, наблюдавшую за мной.
– Как все прошло? – спросила мать, когда мы возвращались к машине. Перед домом стояла огромная плакучая ива, свесив длинные щупальца на улицу.
Я пожала плечами. У меня не было слов для описания торжественного ощущения внутри той комнаты, полной игрушек. Мне предстояло время от времени возвращаться туда в течение шестнадцати лет.
Через пару недель после первого сеанса к нам домой пришла женщина из хосписа, и мы с ней сели на диваны в нашей красной гостиной. Я не знаю, где был в тот день Джейми, но женщина ясно дала понять, что приехала специально встретиться со мной. Она принесла закрепленный на толстом деревянном стержне длинный рулон ткани, который был весь обшит маленькими кармашками. На кофейном столике между нами она выложила с дюжину маленьких мягких подушечек, совсем как та, которую я шила вместе с матерью, когда та лежала в постели. Вместо инициалов на этих подушечках были вышиты слова. Печаль, счастье, страх и усталость. Женщина попросила меня выбрать все слова, которые описывали мои чувства, когда я думала о маминой болезни, и вложить их в кармашки.
– Как насчет этой? – спросила она, когда я закончила, указывая на слово «гнев». Я не стала брать ее со стола.
А в ответ лишь молча пожала плечами.
– Ты знаешь, нет ничего страшного в том, чтобы ощущать гнев, – сказала женщина.
Я кивнула.
– Может, самую чуточку гнева? – продолжала уговаривать она.
Стремясь угодить, я взяла подушечку в руки.
Я не вполне понимала, почему эта женщина так уверена, что мне следует гневаться из-за того, что мама больна. Я не помнила времени, когда она не была больна. Гневаться на это было бы все равно что злиться на земное притяжение.
Я злилась на свою мать. Она не позволяла мне есть все сладости, какие я хотела, и совсем не разрешала ничего сладкого после пяти вечера.
– Нам придется соскребать тебя с потолка шпателем, – говорила она, когда я выпрашивала очередное печенье.
Она часто теряла со мной терпение, обычно потому, что я не оставляла ее в покое, когда она разговаривала по телефону. Мама приказывала мне удалиться в комнату, где я вопила и швырялась в дверь разными предметами, полагая, что тем самым преподам матери урок, все равно не дав нормально поговорить. Тогда она врывалась в мою дверь с обжигающим взглядом. В эти моменты она была такой устрашающей, что я буквально падала на пол, подавая сигнал о капитуляции.
Мать всегда принимала сторону Джейми, когда мы ссорились, поскольку он умел провоцировать так, что никто этого не замечал, а у меня был один режим реагирования – ядерный. Особенную ярость я испытывала, когда она подражала моему нытью.
– Ты бы себя слышала! – в сердцах взрывалась она. – Я начну носить с собой магнитофон, чтобы демонстрировать тебе это!
Но даже на пике злости я знала: нам положено устраивать эти ссоры. Мы имели на них право, и они были драгоценны. За каждой ссорой, за каждым соревнованием «кто громче» нависали тени всех других конфликтов, которых у нас никогда не будет. Мама никогда не станет указывать мне, в какой одежде я не должна ходить на свидание, никогда не станет неодобрительно коситься на моего парня, мой выбор колледжа, места работы или стиля воспитания детей. Она никогда не отпустит пассивно-агрессивные комментарии по поводу того, как я вожу машину или в какой цвет решила покрасить комнату. Мне никогда не придется игнорировать ее советы насчет экоподгузников многоразового использования, а ей – мои взгляды на политику.
Так что, возможно, это еще одна причина, по которой я оставила ту маленькую подушечку на столе: гнев стал ресурсом, на который я была бедна. Я не могла объяснить этой доброй женщине с мягким голосом, что хочу еще так много лет гневаться на мать. Так много лет сидеть рядом с ней и вышивать наши инициалы на тысяче крохотных, бесполезных подушечек для булавок.
В конце весны мы с Джейми вступили в открытую при хосписе группу поддержки для детей смертельно больных пациентов. Мы приезжали к низкому серому зданию вместе, но потом нас разводили по разным комнатам соответственно возрасту. Мою группу вели две женщины средних лет с темными кудрявыми волосами. Мы усаживались за длинный стол в белой комнате. Я терпеть не могла ходить туда, но после всегда чувствовала себя лучше. Я никогда прежде не проводила время с другими детьми, чьи родители болели, и было одновременно странно и утешительно понимать: моя семья не уникальна, другие тоже как-то живут своей жизнью под непрестанное тиканье часов.
Воспоминания о той белой комнате стерлись, словно засвеченный снимок. Помню много раскрасок и цилиндрические пеналы, полные затупившихся карандашей. Еще помню смех. Та комната не всегда была юдолью печали. Совсем наоборот, одна стала одним из немногих мест, где суровая реальность маминой болезни интегрировалась с юмором и игрой. Женщины, которые вели группу, похоже, понимали, что дети не могут печалиться постоянно. Печаль приходит вспышками, а потом разум ищет, на что отвлечься. В той комнате было допустимо даже шутить о болезни и смерти. Как и многие поколения девочек до меня, я часто скакала по тротуарам, прыгая с одного бетонного квадрата на другой и распевая: «На черту не наступай, спину маме не сломай». В окружении детей из группы поддержки я могла рассказать о своей тайной, виновато звучавшей последней строчке: «Упс! Слишком поздно!»
В группе нас было около двенадцати человек, но единственными, чьи лица вспоминаются сколько-нибудь подробно, – брат и сестра, близнецы. Я помню Карлу и Хосе, потому что они покинули группу всего через пару недель после того, как туда пришла я. Однажды днем одна из кудрявых темноволосых женщин объявила:
– Сегодня последний сеанс Карлы и Хосе.
Мы все переглянулись, задаваясь безмолвным вопросом, уж не выздоровел ли чудесным образом их отец. Конечно же, именно этого тайно желал каждый для своего родителя, хотя мы редко говорили об этом желании вслух, поскольку целью занятий группы было принятие и признание, что это никогда не случится.
– Карла и Хосе на следующей неделе переходят в другую группу, – объяснила женщина.
Мы сразу же опустили глаза. Все знали об этой другой группе – той, что для детей, чьи родители умерли. Никто не решался заговорить.
– Они согласились прийти на последнюю встречу, чтобы рассказать нам о своем опыте, – продолжала она, – и это, как мне кажется, проявление удивительной храбрости и великодушия с их стороны.
Мы продолжали молчать.
– В общем, вчера, – медленно начала Карла, – мы поехали в больницу, чтобы попрощаться.
Их отец неделю пролежал в реанимации без сознания, с поочередно отказывавшими органами. Они рассказали, как обнимали его, как плакала мама, как они надеялись, что он каким-то образом сможет услышать, как они говорят, что любят его. Как они вышли из палаты до того, как врачи отключили механизмы, наполнявшие воздухом его легкие, а сердце – кровью. Никто, рассказывая, не плакал. Как мне показалось, они даже не выглядели печальными. Просто очень-очень усталыми. До конца сеанса все мы поглядывали на них со смесью жалости и благоговения. Они совершили путешествие в то место, куда направлялись все мы, и увидели на другой стороне невозможное.
После пары месяцев встреч руководители группы объявили, что подготовили для нас сюрприз. Они дали задание каждому написать своему больному родителю тайное послание на листке бумаги. Потом повели нас из белой комнаты, из стеклянных входных дверей здания на коротко стриженную лужайку снаружи. Там нас ждал мужчина с рядом вентилируемых ящиков, составленных по два и полных таинственного шелеста и шуршания. Мы выстроились рядом, и мужчина собрал у нас листки. Затем открыл сетчатую дверцу и осторожно вынул из ящика серого голубя. Объяснил, что это почтовые голуби, приученные носить сообщения. Когда подошла моя очередь, он вложил мое послание в маленькую пластиковую трубочку, закрепленную вокруг ножки голубя с белыми мазками на крыльях. Потом вручил птицу мне, показав, как держать, чтобы крылья оставались собранными под моими пальцами, и я ощутила под ладонью крохотное бьющееся сердечко. Я сделала шаг вперед, в сторону от этого мужчины, других детей и других птиц, потом еще шаг и еще, пока мы не остались вдвоем, только я и мой голубь. Я мысленно повторила написанное на клочке бумаги, потом подбросила маленькое теплое, трепещущее создание в воздух. Обеими руками, как подбрасывают горсть конфетти. Где-то рядом послышался щелчок фотоаппарата, когда кто-то сделал снимок. Сейчас, много лет спустя, я смотрю на него и вижу символизм освобождения. Я вижу, что он задуман как образ человека, который что-то отпускает.
Однако на том клочке бумаги вместо письма матери я написала пожелание. То же, которое наговаривала на каждую выпавшую ресничку, на каждую задутую свечку в день рождения, на каждый мост, туннель и одуванчик с тех пор, как узнала тайный смысл предрассудков. В этом пожелании было четырнадцать слов:
Я желаю, чтобы моя мама жила, и выздоровела, и больше никогда не болела раком.
Тем летом, когда спина матери зажила, она заложила несколько высоких грядок вдоль заднего забора на нашем участке, и мы стали пытаться вырастить овощи. Мы с Джейми сажали рядами морковь, салат и зеленый лук. У забора из древесины секвойи соорудили небольшую шпалеру из сетки, чтобы растить фасоль. Мы сходили в питомник Кинга за мешками плодородной почвы и прозрачными пластиковыми контейнерами объемом в полпинты, где продавались божьи коровки, чтобы не заводилась тля. В питомнике жил большой синий попугай, который, вместо того чтобы повторять то, что ему говорили, мотал головой из стороны в сторону и пронзительно вопил «Не-ет!», когда к нему обращались. Его деревянная жердочка была снабжена маленьким предупреждающим знаком для покупателей: мол, осторожно, птица кусается. Я выпросила разрешение нести божьих коровок домой, чтобы смотреть по дороге на их глянцевые красные спинки, крохотные черные паутинки ножек, на то, как они роились и переливались внутри, точно запертая ртуть.
Зайдя за границу нашего забора, я сняла крышку и стала горстями вынимать крохотных созданий, распределяя их по участку. Я сажала их на кудрявые листья салата, на розы и незабудки, на пиретрум, которым, как мне рассказывала мать, некогда заглушали боль и лечили лихорадки. Когда мне было четыре-пять лет, я играла, собирая цветы и листья в нашем саду, потом толкла их пестиком в ступке, которую нашла в кухне рядом со специями. К этой кашице добавляла капли воды и щепотки почвы, чтобы получить «эликсиры», которые хранила в маленьких бутылочках из цветного стекла. Иногда приносила маме очередной «эликсир», прося выпить его, в надежде, что он поможет ей выздороветь. И она притворялась, что делает глоток, а потом морщила нос, показывая, что у него ужасный вкус. Это меня успокаивало, поскольку настоящие лекарства всегда были невкусными. Выпустив на свободу последнюю копошившуюся рубиново-красную горсть, я понадеялась, что то, что я слышала о божьих коровках, правда и они приносят удачу.
Мы начали готовить собственный вонючий компост под зеленым брезентом в темном уголке сада. Мы не выбрасывали кухонные отходы и смешивали их с листьями и скошенной травой, вороша рассыпчатую мульчу садовыми вилами, обнажая дождевых червей. Прохладными утрами, когда мы руками копались в земле, мама разговаривала с нами о разложении, о том, как смерть одного растения дает жизнь другому. Она рассказывала об отце дядюшки Кью, Поппи Билле, которого обожала как отца и который умер, когда ей было тринадцать. Она рассказывала, как до сих пор свежи и ярки ее воспоминания о нем. Как может закрыть глаза и увидеть, как он делает длинную затяжку сигаретой «Кент» и выдувает в воздух ряд идеальных колечек.
Место, выбранное для грядок, затеняли высокие дубы, и выдернутые из земли морковки были тощими. Листового салата, пожалуй, хватило бы на одну порцию салата (который, я уверена, не стали бы есть ни я, ни Джейми). Вот фасоль, кажется, чувствовала себя неплохо. Теперь я понимаю, что урожай овощей не был главной целью.
Осенью я пошла во второй класс, а мама начала забираться ко мне в кровать по утрам перед школой. Едва выныривая из сна, я ощущала обнимавшие меня руки и сонно подвигалась в сторонку, чтобы освободить для нее место на кровати. Она говорила, что хочет, чтобы я запомнила, как она пахла и какой была на ощупь ее кожа. Она хотела напитать меня этой тихой любовью.
– Я боюсь, что забуду тебя, – призналась я однажды, когда мы вместе лежали в постели, глядя в потолок. Я чувствовала, что начинаю забывать бабушку Лиз, которая к тому времени два года как умерла. – Мне хотелось бы, чтобы у меня был фильм, где ты говоришь со мной, чтобы я могла смотреть его, когда захочу.
Той же осенью она начала первые циклы химиотерапии. Даже по сравнению с годами лечения по протоколу Гонсалеса химиотерапия давалась ей тяжело. В иные дни маме не хватало энергии, чтобы просто поднять голову. Неделями в каждом помещении нашего дома требовалось ставить где-нибудь в укромном месте по маленькой миске в форме розовой фасолины.
– Почему у них такая форма? – спросила я Джейми.
– Чтобы их можно было держать под подбородком, – объяснил он. – А еще вся рвота может стекать в края, чтобы посередине оставалось место для новой порции. Это высокие технологии, если уж так подумать.
В комнате ожидания онкологического отделения я не могла не сравнивать маму с другими пациентами, теми, что были худыми и лысыми. Эти люди больны по-настоящему, думала я. Не как моя мама. Больница пахла лизолом и хлоркой, и долгое время я считала запах дезинфектантов запахом болезни. После было еще много больниц, и все они путаются у меня в сознании: одни и те же запахи, одни и те же огни, одни и те же извилистые белые коридоры, ведущие в никуда. Ни одна не выделялась чем-то запоминающимся. Ни от одной не возникало ощущения реальности.
На неделе после Дня благодарения мать стала убирать многочисленные стопки бумаги, прежде загромождавшие обеденный стол, и день или два его деревянный овал проявлялся из-под них, как позабытое лицо. Потом на его пустую поверхность она поставила два сундучка, один из плетеных прутьев, другой из ламинированного картона. Потом появились коробки.
Коробок было много: маленькие картонные параллелепипеды, разрисованные морскими раковинами, и восьмиугольные жестянки, покрытые изображениями цветочных фей работы Сесиль Мэри Баркер. Были бархатные шкатулки-ракушки и крохотные контейнеры вроде тех, в которые мы складывали выпавшие молочные зубы. Была деревянная шкатулка побольше, с металлическими уголками, оклеенная японской бумагой, и тонкий цилиндр, который напоминал обрубок березовой ветки, пока не вытащишь потайной язычок. Была шкатулка, похожая на трех составленных друг на друга черепах, вырезанная из чего-то вроде кости, и плоский коричневый кожаный футляр, который открывался, если знаешь, куда нажать. Это нашествие коробок заставляло меня нервничать. Я одновременно и знала, для чего они, и не знала. Уверена, мама объяснила, но я не позволяла этой информации проникнуть в меня. Эти коробки, шкатулки, футляры относились к будущему, о котором я была не готова думать.
Иногда она садилась во главе стола, иногда к одной из его длинных сторон, перемещаясь по мере того, как завершала одну таинственную задачу и начинала другую. В иные дни часами сортировала и раскладывала предметы по этим коробкам, что-то писала на маленьких белых листочках для заметок и нанизывала их на ленточки. Как некогда корпела над результатами клинических исследований, так теперь склоняла темноволосую голову над яркими маленькими свертками, завязывая бантик за бантиком. Иногда Типпи сидела подле нее, настороженно подняв умную черно-белую голову, словно со стола мог упасть кусочек, который мы не доели.
Жаждая внимания, я пыталась отвлечь маму от проекта.
– Пойдем поплаваем!
Или:
– Давай поиграем в манкалу2, твой ход первый!
– Потом, пирожочек, я сейчас занята.
Значение слова «потом» сжималось с каждым днем.
Недели летели, и я начала ненавидеть эти коробки. Их было так много, как и лет, простиравшихся впереди без нее. Как могли какие-то коробки быть для нее важнее, чем я?! Я ревновала к себе будущей, к гипотетической девочке, о которой думала мама, в то время как я стояла прямо перед ней. Я представляла, как переворачиваю стол – и все эти коробки, ленты, списки и листочки для заметок падают на пол и разлетаются.
Только стол был слишком тяжелым для меня.
В том декабре отец выбрал дугласову пихту высотой в пятнадцать метров, более чем вдвое выше нашей обычной рождественской елки. Мы всегда сами спиливали для себя дерево на ферме в Себастополе3. Когда отец завел комель этого дерева в маленький деревянный трейлер, прицепленный к нашей машине, а верхушку привязал к крыше резиновыми тросиками, оно оказалось настолько длинным, что игольчатые ветви закрыли пару верхних дюймов ветрового стекла.
Pulsuz fraqment bitdi.