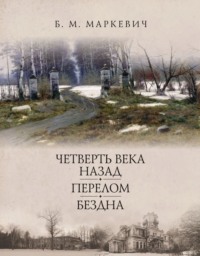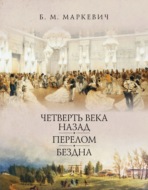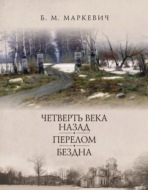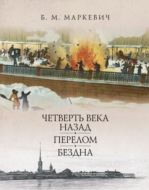Kitabı oxu: «Перелом. Книга 2», səhifə 13
XIX
1-Alles opponirende Wirken geht auf das Negative hinaus, und das Negative ist Nichts. Es kommt nicht darauf an dass eingerissen, sondern dass Etwas autgebaut werde-1…
Göthe.
Ha Арбате, в доме Лукояновых, шло ликование. Троекуров был объявлен женихом Александры Павловны… Марья Яковлевна, когда он в назначенный им день приехал делать предложение, не дала ему и договорить его en forme2, вскочила с места и, всхлипывая, отверзла ему свои объятия. «Знаю, знаю, – говорила она, – любите ее давно и она вас, я согласна, – a до сих пор не могла, сами должны понимать, – Сашенька слишком молода была, да и согласитесь, Борис Васильевич, что при ваших привычках»… Она запнулась: «Муж мой покойный оставил дочери по завещанию, нарочно для нее куплены, триста душ, незаложенные»… Троекуров прервал ее: «Сделайте милость, Марья Яковлевна, оставимте это: то, что вы даете вашей дочери, до меня не касается». Она замахала большими руками, уже смеясь сквозь непросохшие еще слезы: «Знаю, знаю, мой батюшка, вы тысячи всегда за грош почитали, так вам что это!.. A теперь все-таки остепениться надо будет, жена, дети пойдут; советую вам»… На лице его невольно изобразилось неудовольствие. Заботливая маменька испугалась, перебила себя опять на полуслове и поспешно зашагала к двери соседней комнаты, где вся бледная от волнения «в ожидании своей судьбы», как выражалась маленькая Лизавета Ивановна, сидела Сашенька. Мать вывела ее оттуда за руку и, подведя к Троекурову, проговорила протяжно и для большей, по-видимому, торжественности несколько в нос:
– Борис Васильевич Троекуров, мой друг, просит твоей руки. Я на это согласна, – остальное теперь зависит уже от тебя.
Бледная Сашенька от этих слов мгновенно заалела как маков цвет и молча, сияя райскою улыбкой, протянула жениху руку… Он горячо прильнул к ней губами…
Марья Яковлевна вытащила платок из кармана и погрузила в него свое снова омочившееся ради такой оказии лицо.
Лизавета Ивановна робко выглядывала на них из-за полуоткрытой двери, утирая глаза в свою очередь, крестясь и шепча от глубины сердца молитву «о благоденственном будущем житии» молодой приятельницы своей и ее нареченного…
Весть о их помолвке облетела в тот же день всю дворянскую Москву, с доброю половиной которой Лукояновы состояли в родстве или близкой приязни. Со следующего же утра и «ближайшие» эти, и дальнейшие ринулись на дом Марьи Яковлевны как на приступ. Дни триумфа настали для его хозяйки – триумфа, который рос в ее глазах с поздравлениями каждого нового лица и питал, как солнце падающими в него астероидами, свет свой и пламень всем тем обильным материалом бессильной злобы и зависти, которую ее счастливая игра внушала всем совместницам ее, маменькам, обладательницам дочек на возрасте… Действительно, на той многотрудной, тяжелой, требующей, говорят, самых специальных способностей тоне, которую на светском языке называют уменьем пристроить дочь замуж, savoir marier sa fille3, Марье Яковлевне удалось выловить такого осетра, пред которым всем остальным товаркам ее по ремеслу оставалось только ахнуть и развести руками… Не успели все они прийти в себя от смерти Ивана Акимовича Остроженки, забулдыги-лошадника, проводившего жизнь свою в клубах и у цыган, но залучить которого к себе в дом составляло в продолжение целых десяти лет предмет упорнейшего желания и хитроумнейших «подходов» со стороны каждой, уважающей свой дом московской родительницы, – a Марья Яковлевна, не говоря дурного слова, успела уж пронюхать, отыскать, обойти и окрутить никому еще неизвестного наследника всего этого богатства, и выдает теперь за него свою Сашеньку! Как же было, в самом деле, не вознедавидеть ее, не проклясть тайно и явно, не объявить «интриганкой», – a потому и не поспешить к ней с поздравлением, с возгласами радости, хотя бы для того, чтоб иметь случай при этом доставить себе удовольствие ввернуть со змеиною улыбкой: «Это такой сюрприз для всех, такая неожиданность!.. И где они успели познакомиться?.. Вы, впрочем, были всегда так умны, Марья Яковлевна!..» Марья Яковлевна была и в самом деле весьма умна в житейском деле, читала насквозь в душе своих добрых приятельниц и змеиными намеками не только не смущалась, a даже вызывала их и лакомилась ими, как бы сладчайшим блюдом, подносимым ей ее современниками в награду за блестящее исполнение материнских обязанностей, возложенных на нее Небом. «Ныне отпущаеши рабу твою с миром», – готова она была сказать себе после каждой новой колкости на сахарной подкладке, после каждого тонко-ядовитого намека на ее «интриганство»…
Явилась одною из первых известная читателю13 Женни Карнаухова, незлобиво носившая свое теперь тридцати уже с чем-то летнее девство, все так же продолжавшая благоволить ко всему миру и почитать себя необходимою для его блаженства и видевшая в помолвке Сашеньки с ее cousin свое создание, дело своего ума, своих «комбинаций» и забот. Она действительно радовалась, искренно умилялась, сердечно прыгала и лобызалась в восторге своем с «нареченными», с «другом своим» Марьей Яковлевной, с маленькою Лизаветой Ивановной, с крупною, как и она сама, грузинскою девой Катериной Борисовной. Явилась она в самый день сговора и с этой минуты являлась уже сюда каждый день, хотя на полчаса. Дом Лукояновых с его благорастворенною атмосферой «двух влюбленных сердец» обратился для нее в эдем, где могла она «отдыхать душой» от невыносимой скуки и тоски, испытываемых ею дома, в обществе зубастой маменьки, более чем когда гнетомой своим «mal de dos»4 и недочетами своих тщеславных грез (Толя, на которого она так долго глядела, как на звезду первой величины, ее Толя, вместо блестящей карьеры, проживал уже второй год без ног в Ахене на излечении), и которая на «établissement»5 самой Женни давно махнула рукой, как на вещь, раз навсегда поконченную и сданную в архив. Женни пользовалась этим и отсутствовала из дому, насколько могла чаще, уверив и мать, и самое себя, что Марье Яковлевне нельзя обойтись без нее «насчет приданого Сашеньки».
Почти ежедневно являлись и Овцыны, отец с сыном. Старый либерал видимо льнул к Троекурову. Чувство изящного, свойственное всем людям его эпохи, подкупало его в пользу будущего мужа его племянницы. Ему нравились в Троекурове его «аристократический», несколько холодный облик, сдержанность приемов и движений, простой, краткий, тщательно избегавший всякого книжного оборота склад речи – «вся эта какая-то смесь английского с лезгинским», объяснял он себе, тщательно скрывая, впрочем, такое свое преступное сочувствие от сына, пред которым бедный «Ламартин» робел, как рядовой пред строгим фельдфебелем. Иринарх, само собою, злился на Троекурова и тем сильнее, чем глубже сознавал бессилие свое пред ним. Употребляя одно из тех чужеземных выражений, которые в ту пору сотнями и целиком начинала переносить периодическая печать в русский язык, – Троекуров импонировал ему против его воли, осаживал, как говорится, одним словом, взглядом все те попытки к фамильярности или дерзости, которые ежедневно роились в намерениях и просились наружу из души злобного студента. Он не давал ему даже удовольствия раздразнить его своею прогрессивностью, и когда тот за обедом или ужином начинал «разрушать мир», по выражению Марьи Яковлевны, молчал глубоким молчанием, пока кто-либо не заговаривал о чем-либо постороннем, к чему он тотчас же и присоединялся… «Шваль великосветская, Печорин из военных усоносцев!» – измышлял Иринарх внутренно бранные слова по адресу будущего мужа двоюродной своей сестры… «И не проберешь ведь его ничем, вот что!» – принужден он был сознаваться с невыносимою досадой… Он однажды попробовал не ответить на поклон входившего в гостиную Троекурова и отвернулся, будто не видал его. Марья Яковлевна, заметившая это, вспыхнула вся от негодования. «Ты слеп, что ли, – крикнула она ему, – не видишь, что тебе кланяются?» Иринарх поднял на нее сверкающие глаза, но встретился на пути с глазами Бориса Васильевича, скользнувшими по нему на миг с таким всецелым, уничтожающим равнодушием, что он весь позеленел, торопливо мотнул головой в виде поклона и тотчас же вышел из комнаты…
Он давно «наплевал бы на этот дом», если бы не влекло его сюда двойным влечением к одному предмету – ко княжне Кире. Апостол «нового слова», как начинали говорить тогда в той же петербургской журналистике, он предвкушал в этой девушке с ее своеобразною и гордою красотой, дразнившею и возбуждавшею в нем то «естественное стремление», которое «чопорные пуристы искусственной морали называют всякими сентиментальными существительными на своем пошлом языке»14, будущую близкую сектантку и поборницу его «свободных учений»; ненавистник «Печориных из военных усоносцев», он угадывал в ней ту же, не высказывавшуюся, но несомненную в его убеждении враждебность к жениху их общей кузины…
Для него же в настоящую минуту наступило самое благоприятное время для теснейшего сближения с нею, возможность подолгу и беспрепятственно излагать ей свои теории, влиять на ее «развитие» невозбранным многоглаголанием своей «прогрессивной» проповеди. Марья Яковлевна была так поглощена самоуслаждением блестящей партии, которую устроила она для дочери, и блаженными заботами о ее приданом, что ни о чем ином не могла думать, ни на что другое не обращала никакого внимания. Иринарх проводил теперь целые вечера с княжною в каком-нибудь углу дома, читая ей вслух Былое и Думы или Современник, толкуя о «последних выводах науки» по Молешоту и Бюхнеру, Фейербаху и Карлу Фохту6, сочинениями которых снабжал он ее в изобилии, отмечая при этом в них места, в которые должна она была «вникнуть», и рекомендуя не читать остального на том основании, что «самый умный немец – все-таки филистер и не прочь сподлить здесь или тут пред старою пошлостью», между тем как она, склонясь над пяльцами, слушала его с обычным безмолвием, прерывая его лишь изредка каким-нибудь нежданным, часто несколько смущавшим его вопросом, или грамматическою поправкой какой-нибудь приводимой им цитаты на немецком языке, который он знал плохо… Внимательнее и оживленнее, замечал он, становилась она, когда он заводил речь о «женском вопросе», все по тому же поводу предстоявшего брака Сашеньки с Троекуровым, к которому он и относился всегда с крайним, насилованным ожесточением.
– Наша Александра Павловна достигла высшего ранга на своем служебном пути, – говорил он однажды, хихикая.
– Это какой же «служебный путь»? – спрашивала Кира, чуть-чуть улыбнувшись.
– А замужество! Ведь при нынешнем безобразном строе общества для женщин нет иных путей, иных задач в жизни! Выходи замуж – это ее единственная цель, промысел, работа, назначение! Выходи замуж – и как можно выгоднее, то есть употреби весь тебе данный ум, напрягай всю имеющуюся в тебе способность к притворству и лжи, чтобы продать себя наивозможно дороже, как продаются на Востоке гаремные невольницы, с тою разницей, что их там продают насильно другие, а у нас они сами воспитываются с детства на ремесло торговли собою!..
– Саша не продает себя, – неторопливо молвила на это княжна, – она влюбилась в… в этого господина, когда у него ничего не было, и ее мать и слышать не хотела, чтоб она шла за него.
– Саша! – принялся опять иронизировать Иринарх. – Да что ж такое сама-то эта любезная персона? Ведь это чистейший продукт нашего отвратительного патриархального курятника, и ведь дальше такого курятника не простираются ее способности мышления и желания. Вы говорите, она в этого «влюбилась», когда он был беден, и мать не соглашалась отдать ее за него. Ну а как вы думаете, если б он остался беден, и милая маменька все так же не отдавала бы ее за возлюбленного, наша кисейная родственница не пошла бы, по воле этой же маменьки, за любого старого подагрика с миллионом в шкатулке?
Кира закачала головой:
– Она упрямее, чем вы думаете… В крови это у нас, – промолвила она как бы про себя.
– Ну да, – прошипел он, уязвленный этими словами, – кровь у вас особая, княжая, специального химического состава, синяя что ли, a не красная, как у обыкновенных смертных! Вы до сих пор в это веруете, Кира Никитишна, вопреки самой простой логике…
«Верую», – отвечало, показалось ему, на это чуть-чуть заметное движение ее бровей.
Он вскипятился:
– Никакой крови нет-с! Есть среда, да-с – среда и влагаемыя ее в нас с раннего детства уродливые или здоровые естественные воззрения и понятия. A среда родивших и воспитавших всех нас, – князей, как вы с кузиной, и плебеев… как я, – яйца выеденного не стоит! Надо особенно сильную натуру…
Княжна подняла вдруг глаза, уложила локти на пяльцы и, продевая щерстинку в ушко высоко приподнятой иголки, прервала его вопросом:
– Что вы думаете, будет она с ним счастлива?
– Александра-то Павловна со своим нещечком? – возгласил Иринарх. – Помилуйте, таять будет, в лужу блаженства распустит свою идеальную особу! Что детей народит ему с благодарности с большой!..
Ее внезапно сжавшиеся брови заставили его примолкнуть.
– A он? – спросила она через миг.
– Господин Троекуров, то есть?.. Я полагаю, – протянул Овцын, – что сей сподвижник отечественного милитаризма и аристократ из российского музея древностей найдет в нашей кузине вполне соответствующую его вкусам и идеалам рабыню, которая что Иверской, что ему станет земные поклоны класть… Какого ему еще счастия нужно?
– Он… умен, – проговорила с расстановкой и каким-то загадочным тоном княжна.
Иринарха всего даже передернуло от злости:
– Умен… Вот и мой достойный родитель почитается тоже умником… В «чернокнижной» Английского клуба речи держит, между двумя пульками преферанса в великобританскую оппозицию играет, Маколеем7 до одури зачитывается, либеральные песни, что твой соловей, свищет. Так и у него, по-вашему, мозги в голове?
– Этот очень мало говорит, напротив, – небрежно промолвила Кира.
– Ну да-с, тот же объект, только с другого фаса. Ведь это у них всех та же игра в великобританский палисандр, насаженный на русское дубье. У господина Пушкина, помните, в стихах даже выражено: «сей двойственный собор» и даже какие-то «пружины смелые гражданственности новой»8, то есть которые они в невежестве своем мнят и по сю пору «новыми». Ну так вот-с, и изображают они собою в российских лицах сей знаменитый «двойственный собор», какой он там есть в Англии: родитель мой, например, пламенный «коммонер», из нижней говорильни9, ратующий потоками пустых слов за гроша медного не стоящие «вольности»; господин Троекуров – недосягаемый лорд, «краса и честь нации», дозволяющий себе разжимать зубы не для всякого и не во всякое время, разжимающий их на деле лишь для «сурового отпора» – это я опять-таки словами господина Пушкина выражаюсь, – всему тому, что здорово, свежо и молодо, всем законным требованиям современного демократического прогресса и гуманности…
Кира подняла голову как бы с намерением возразить или заметить что-то по поводу этих последних его слов, но опустила ее вновь тут же и проговорила только с неодобрительною, понял он, усмешкой:
– Вы, между прочим, и отца родного не щадите?
– Отца! – вскрикнул, позеленев, Иринарх. – Что такое отец? Случайность, в которой он так же неповинен, как я! Из-за чего же должен я щадить его более, чем другого? Заповеди-то Моисея отжили свой век, и этим пугалом современного человека не испугаешь. Хочешь почтения теперь, так требуй не в силу родительского звания, a ради настоящих прав на уважение тебя. А у моего Федора Федорыча какие такие имеются? Не из-за того ли мне его уважать, что у него на третьем слове «Европа» и очеса к небу? А этот самый европеец с русского крепостного мужика тянул последнее, пока и всех их, своих и матери покойницы мужиков, в карты не продул, а сына пролетарием по миру пустил… Не из того ли, что он мне чуть не с десятилетнего возраста предоставил волю жить, думать и пробавляться с кем, что и как мне вздумается, потому я, мол, твою свободу стеснять не хочу, – а в действительности потому, что тунеядничать в клубе интереснее, чем над мальчуганом с указкой сидеть?.. А я вам вот что скажу: покойница-мать моя в детстве выпорола меня раз розгами за то, что старую няню кулаком по лицу съездил, – так я ее до сих пор помню и экзекуцию ее надо мной почитаю во сто раз гуманнее, чем весь протухлый либерализм Федора Федоровича!.. «Либералы» во вкусе просвещенного моего тятеньки всю жизнь свою, поистине, были лишними человеками и пошлыми Гамлетами Щигровского уезда10, не способными во всю жизнь ни на какое путное дело и не додумавшимися ни до одной серьезной идеи.
– А вы… додумались? – промолвила Кира.
Иринарх сверкнул глазами:
– Еще бы!
Он схватил лежавшую на соседнем столике только что возвращенную ему княжной книжку Современника, быстро перелистал ее и, отыскав место, принялся читать:
«Ежели наши читатели поймут, что точно русская жизнь и русская сила вызваны на решительное дело, и если они почувствуют (подчеркнул он) законность и важность этого дела»…
Кира прервала его:
– Да, я помню и даже хотела спросить вас, что надо понимать под этим делом?
– Ненавидеть прежде всего! – так и отрезал он.
Тонкие ноздри ее как бы сочувственно дрогнули.
– А потом? – медленно протянула она.
– Уничтожать весь этот гнилой и гнусный строй прежней жизни с его угнетателями и пошляками.
– Какими способами?
– Всеми, какие у кого под руками! – воскликнул он, пожирая ее глазами. – Печатным словом, живою проповедью, неустанною насмешкой, ежечасным, ежеминутным протестом против мертвящих бредней старой феогонии11, против мрачного формализма семейной жизни, безгласности и покорности… Против всего того, – быстро и наклонясь к ней, проговорил он полушепотом, – что окружает и душит вас самих в этом доме… Скажите, разве вы не изнемогаете здесь, не возмущаетесь понятиями, складом, привычками всей этой затхлой среды?..
Кира нежданно откинулась затылком на свое кресло, прижмурила веки и словно уронила с губ:
– Да, душит!..
Все лицо Иринарха осветилось плотоядным пламенем.
Он торопливо откинул одною рукой прядь длинных своих волос, упавшую ему на лицо, схватил другою с пялец ту же книжку Современника, открыл ее.
– Слушайте, Кира Никитишна, точно про вас и для вас, – подчеркнул он, – писано:
«Не бойтесь за нее: она может на время или покориться, по-видимому, или даже пойти на обман, как речка может скрыться под землею или удалиться из своего русла; но текущая вода не остановится и не пойдет назад и все-таки дойдет до своего конца, до того места, где может слиться с другими водами и вместе с ними бежать к водам Океана»15.
– Да, – воскликнул он, дочтя, – вы та же «многоводная река», как Катерина Островского, вы можете «покориться на время», но не остановитесь на полпути! Придет день, – и я чувстую, что он близок, – когда вы бодро сорвете и отшвырнете от себя последние путы старой ветоши предрассудка и гордо отдадитесь новой, свободной жизни!..
– Я здесь не останусь, – промолвила Кира быстро и решительно.
Он потянулся к ней всем телом.
– Вы знаете, – заговорил он еле слышным, прерывающимся голосом, – что вам стоит только слово сказать… Я вам все устрою. У меня такие места есть… и связи… Никто не отыщет, не узнает…
Она быстро выпрямилась, глянула изумленно ему в лицо, видимо не понимая, о чем он говорит, и без слов встала и вышла из комнаты.
XX
Le génie est bien beau, j’aimerais mieux l’amour,
Si j’étais jeune fille1.
V. de Laprade.
Эти ли разговоры ее с Иринархом и «освободительные» книжки, которые давал он ей читать, или иные, тайно зревшие в ней помыслы, – только с каждым днем, казалось, становилась все мрачнее Кира, с каждым днем будто делалось для нее тяжелее общение с тою «средой», в которой жила она. Эдем, каким рисовался дом Лукояновых скучавшей у себя в семье княжне Карнауховой, представлялся чуть не одним из мытарств, ожидающих человеческую душу за гробом, обитавшей здесь княжне Кубенской. Ее здесь действительно «душило» все и вся… То праздничное настроение, та неустанная сутолока, что неизбежно воцаряется в доме невесты с самого дня помолвки и на многие и многие дни превращает его в какую-то Вавилонскую башню, – усиленно усердное прислуживание и возня слуг, поставщики и магазинщицы, шмыгающие с раннего утра со своими картонами, свертками и узлами, кипы материй, развернутых по столам и стульям, часовые споры о выборе бархата на шубу, букеты, подарки и сюрпризы, аханье горничных, примеривания и раздевания, встречи и проводы жениха, казенное умиление и приторные улыбки – все это раздражало ее до слез, до разлития желчи… Кира не выходила из своей комнаты до обеда; часто и к обеду не являлась она под предлогом головной боли или даже просто потому, что ей-де «есть не хочется», коротко отвечала она слуге, прибегавшему известить ее, что «господа уж все за столом сидят». В первое время Сашенька или сама тетка считали долгом подняться в этих случаях к ней после на антресоли, узнать, не заболела ли она в самом деле; но на вопросы их она так язвительно давала разуметь, что они ей докучают ими, что Марья Яковлевна объявила наконец: «Пусть, мол, она как хочет, так и делает», и оставила ее уже совершенно с этой минуты «без внимания»… Это являлось теперь новым поводом злиться нашей княжне. Она чувствовала себя как бы покинутою, заброшенною, как бы «пренебреженною» этими всеми ликующими, счастливыми людьми… Она, которую – давно ли! – целый край носил на руках, которая с самого детства привыкла почти к царственному обращению со всем ее окружавшим… Никогда еще так не было тяжело для нее сознание сиротства своего и одиночества – сознание падения с высоты, с которой, юная орлица, реяла она над общественным делом. Она не обманывалась насчет себя – она знала, что холодность к ней и отчужденность, которые она встречала кругом, были единственно ее делом, что стоило ей только протянуть руку, чтобы привлечь всю эту боязливо отстранявшуюся теперь от нее родственную среду… Но она – не могла, уста ее не способны были отомкнуться для повинных, «заискивающих», даже примирительных речей. Она могла сознавать себя in petto2 виноватою, пожалуй, но она умерла бы скорее, чем признаться в этом вслух, чем «отступиться», чем сделать шаг назад на пути, по которому вели ее душевные ее инстинкты… Да и на что ей было примирение, на что дружба, на что ласка этих людей?
«I learn’d to love dispair»16, – говорит байроновский шильонский узник. Княжна Кира привыкла любить «ненависть», которой поучал ее Иринарх Овцын; ей была люба и сочувственна его излюбленная проповедь против «гнилого строя» того общества, в котором не представлялось ей исключительного главенства; она «презирала» и почитала подлежащим разрушению все то, над чем властвовать не могла… Более всех других, быть может, возбуждал в ней враждебное чувство Троекуров – она никогда не говорила с ним, старалась не глядеть на него, и тем сильнее, чем менее могла она найти внутри себя поводов презирать его. Он был умен, что она прежде всего ценила в людях. Он был горд и независим, с тою к тому же особенною чертой присутствия «синей крови», над которою глумился Иринарх и которая именно, в глазах ее, определяла степень превосходства его над Иринархом. Он «пожил», по выражению ее отца, то есть многое видел, испытал, чувствовал, способен был определить, взвесить и оценить все это виденное им и испытанное… И этот «поживший», независимый, умный и снова богатый человек… к чьим ногам несет он все это? Что нашел он в простой, дюжинной девочке, какова это Сашенька, смиренной и равнодушной ко всему, что не ее гнездо, не ее «курятник», – да, Иринарх прав! для которой «нет лучше компании, как какая-нибудь ханжа Лизавета Ивановна», нет иного чтения, как «какой-нибудь Пушкин или глупейший Heir of Redcliffe173, над которым проплакала она два вечера сряду?..» Неужели красотою ее увлекся он? Но, во-первых, «красивы у нее только волосы и глаза, да и то глаза ничего не выражают, a цвет волос просто черный, как у всех, a лицо слишком безжизненно, и она очень скоро разжиреет». A во-вторых, «разве он никогда не встречал красивых женщин лучше Саши, не мог выбрать себе другой… более подходящей к себе?» – рассуждала Кира… «Что же после этого, – мысленно говорила она в заключение с желчною усмешкой, – что же это за герои, за лучшие этого общества, к чему служит им ум, чего добиваются и чем удовлетворяются они в жизни? Противны они, как и весь тот milieu4, из которого вышли!..»
A то самое простое и смиренное, что возбуждало в Кире такое высокомерное отношение к ее кузине, исполняло Троекурова каким-то целебным, умиряющим чувством. Острое ощущение недоверия и пренебрежения к людям, вынесенное им из недочетов и ошибок своего прошлого, таяло, как снег весенним первовремением, под теплом той, но испытанной им до сих пор, чистой, глубокой, «бескорыстной» женской привязанности, о которой говорил он Сашеньке в вагоне по пути из Петербурга. Долголетний «скиталец по мировой пустыне», он дорожил именно тем запахом «гнезда», тою благоухающею домовитостью, которыми исполнена была она. Разочарованный давно честолюбец, ему самому ничего иного не хотелось, как уложить будущую жизнь свою в рамки тех скромных горизонтов, далее которых не заходили ее девические мечты. «Довольно эпоса и драмы», готов он был сказать: «Ich auch war in Arcadia geboren»5, я тоже идиллии хочу!.. Сидя с нею по часам вдвоем в будуаре Марьи Яковлевны, уступленном как бы им теперь в исключительное владение, ему часто вспоминалась одна, прочтенная им в ранней молодости французская книга. Это была трогательная и милая история одного заключенного и полевого цветка, Бог знает как занесенного в зерне и расцветшего в щели его решетчатого окна, и на котором мало-помалу сосредоточиваются все заботы, все интересы и упования жизни бедного узника18. Он, Троекуров, точно так же теперь лелеял и холил распускавшийся пред ним драгоценный цвет молодой души, жадно любуясь каждым новым раскидывавшимся лепестком его, каждым оттенком его нежных, не поддающихся взгляду каждого красок. Для него, для него одного распускался он и благоухал; он один, сказывалось ему, был в состоянии понять всю его тихо проникавшую прелесть… «Мне кажется иногда, что я совсем не жила до сих пор, – сказала ему однажды Сашенька, нежданным движением схватываясь в восторге за голову, – точно какой-то ангел принес меня откуда-то из темноты, поставил сюда и сказал: вот оно что!» «Вот оно что!» – повторил он – и лучше, выше и умнее этих слов, показалось ему, не изобретал человеческий язык…
Свадьба их назначена была после Пасхи, на Красную Горку7, по известному московскому обычаю. К этому времени Троекуров должен был быть окончательно введен во владение наследством Остроженков, о чем усиленно хлопотал влиятельный в Москве чиновник Успенский, большой приятель и поверенный покойного Акима Ивановича, человек честный и хороший, которому Борис Васильевич и вверил все свои интересы. После венчания молодые должны были сесть в карету и ехать в отстоявшее на сто с чем-то верст от Москвы село Всесвятское, великорусское имение покойного, в котором он года за два до смерти начал постройкою новый, каменный, ныне только что оконченный, одноэтажный дом; в нем никто еще не жил, и комнаты стояли пусты, так как смерть унесла его владельца прежде, чем успел он сделать распоряжение о его меблировании. Троекуров предпочел основаться (предположения жить когда-нибудь в городе у них с Сашенькой и вовсе не было) в этом имении, a не в старом малорусском Остроженковском гнезде на берегах Сулы, с его строенным по планам Растрелли в Екатерининские времена «дворцом», – предпочел не столько ради близости к столичным центрам, сколько в виду тех тяжелых ощущений, которые могли ожидать его среди той дорогой ему, но соединенной с такими враждебными по отнощению его воспоминаниями старины. «Там тени ненавидевших меня с матерью мешали бы нам, кажется, не только спать, но и обедать», – говорил он с невеселою усмешкой Сашеньке, в воображении которой рисовалось так заманчиво синее небо Украины, каким знала она его по Майской Ночи Гоголя да по стихам «какого-то» Шевченки8, которые приносил как-то Мохов и которые ей так понравились, что она их выучила наизусть и читала с презабавным акцентом:
Садок вышневiш коло хаты
…
…
Дочка́ вече́рять подае́,
А маты хоче научаты,
Да соловейко не дае́.
«„Да соловейко не дае“, какая прелесть!» – повторяла она, декламируя их с загоравшимися глазами приятельнице своей, Лизавете Ивановне…
«Но с ним не все ли равно где жить, с ним везде рай, везде блаженство!» – говорила она себе теперь. Он принес ей план этого нововыстроенного дома в русском имении, в котором поселятся они, и указал ей между прочим на чертеж большой крытой террасы, выходившей в сад. Сад огромный, старинный, ветвистый, с глубокою и светлою речкой по самой середке его, – узнала она от бывавшего там Успенского… И там будет петь «соловейко», «петь именно тогда, когда мы туда приедем в конце апреля, и все в зелени, и по небу ходят те веселые беленькие тучки, что я так люблю, а вечером из-за большой-большой липы выплывают золотые рожки месяца, и мы с ним тут одни… Царица Небесная, чем заслужила я себе такое счастие!» – прервала себя девушка, закрывая обеими руками омоченные непереносимою полнотой этого счастия глаза свои.
О будущем обиталище своем говорили они каждый день. Дом оказывался по плану если не весьма обширным по числу комнат, то весьма удобным по размерам и расположению их: к тому же с обеих сторон его выстроено было по павильону «для гостей», небольшие здания, комнаты в четыре каждое, с балконом, выходящим в сад, как и терраса дома… Троекурову было досадно лишь то, что все это с иголочки.
– Выписать еще мебель от Тура или Galepin19, – говорил он насмешливо однажды за обедом по этому поводу, – и у нас будет так же модно, как в любой петербургской чиновнической квартире.
– Ах, батюшка, – вскликнула на это Марья Яковлевна, – не любите нового и модного, можете хоть на три дома старья из покровских-то хором Акима Иваныча перевезти велеть. Ведь битком там этим набито!
– Нет, – сказал, слегка поморщившись, он, – из этого дома я стула не возьму… и не пойду в него никогда, – домолвил он как бы нехотя.
– Внаймы отдадите с мебелью?
– И внаймы не отдам.
– Продадите?
Он повел отрицательно головой. Марья Яковлевна покосилась на него: «Мудренек-таки мой будущий зять», – пронеслось у нее в мысли.
– Так он у вас впусте и стоять будет?
– Так и стоять.
– До второго пришествия? – засмеялась она.
Он усмехнулся тоже.
Pulsuz fraqment bitdi.