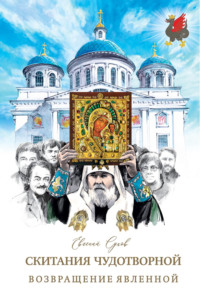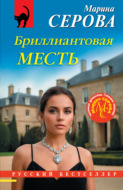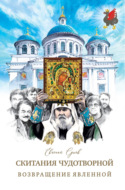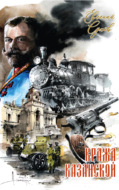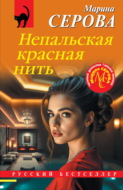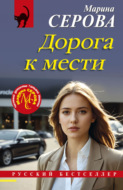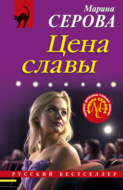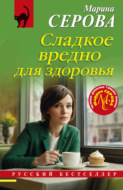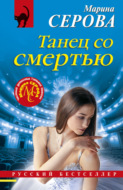Kitabı oxu: «Возвращение Явленной», səhifə 3
Глава 4
Мнимый расстрел
Более удачного названия, чем «Кресты», для столь мрачной тюрьмы было трудно придумать. На территории, где с размахом мог бы раскинуться парк, – с аллеями, скверами, фонтанами, клумбами, многочисленными насаждениями, цветочными оранжереями, была возведена огромная тюрьма, затмевающая своим масштабом все, что в Российской империи строилось до нее. Восемь пятиэтажных строений образовывали два огромных креста (соединенные между собой административным зданием), которые стали называться тюремными корпусами, над одним из которых высился пятиглавый храм Святого Александра Невского.
Кроме корпусов на территории тюрьмы были построены служебные помещения, больница, инфекционный барак, ледник, морг, а также мастерская кузнеца. Если в прежние времена каждая камера была рассчитана на одного-двух человек, то после семнадцатого года в каждую из них начали сажать не менее десятка заключенных. Зрелище было скверное, но узникам не приходилось выбирать.
Георгия Починкова посадили в переполненную камеру, в которой находились чиновники среднего ранга, работавшие во Временном правительстве, и несколько эсеров, обвиненных в заговоре. Позабыв про прежние разногласия, они вполне мирно общались и даже спорили на политические темы, но как-то без особой остроты, которая могла бы иметь место за пределами тюрьмы. Каждый понимал, что теперь им особенно нечего делить.
Разговоры обычно затевал куртуазный мужчина лет пятидесяти пяти с изысканными манерами, которые в тюремных стенах выглядели весьма неуместными и смешными. Не обращая внимания на кривые улыбки сокамерников, он продолжал в своей манере делиться впечатлениями, полученными в застенках. В «Крестах», в отличие от большинства присутствующих, он уже сидел полтора года, являлся самым настоящим старожилом, и ему было что поведать своим сокамерникам.
Указав на нары, на которых расположился штабс-ротмистр Починков, мужчина сказал:
– Когда меня привели сюда, вот на этой самой шконке лежал действительный статский советник32, обер-камергер императорского двора33 Борис Владимирович Штюрмер34. Большого ума был человек! На каких только должностях не побывал: и министром внутренних дел был, и министром иностранных дел, и председателем Совета министров Российской империи, и вдруг все пошло прахом! Чем-то не угодил Керенскому, и тот его сюда упрятал. Штюрмер все время жаловался на боль в боку, говорил – нет мочи терпеть. Наконец, его отвели в больницу, а он там и помер, сердешный. – Рассказчик уже поднес было ко лбу собранные в щепоть пальцы, чтобы перекреститься, но вдруг подумал, что времена нынче не те, и безвольно опустил руку. – А вот рядышком Иван Григорьевич Щегловитов35 лежал. Министром юстиции Российской империи был! Во время Февральской революции его арестовали. Потом в Москву его забрали и, говорят, там прилюдно и расстреляли!
– Да помолчал бы ты. И без тебя тошно, – угрюмо пробурчал с верхней шконки мужчина лет пятидесяти в костюме черного цвета и темном, сбившемся набок галстуке на тощей шее. Его арестовали около полугода назад прямо во время какого-то заседания, поэтому, в отличие от большинства присутствующих, он в своем костюме выглядел почти торжественно. Оставалось удивляться, каким образом ему все еще удавалось содержать одежду в надлежащем виде.
– Да пусть брешет, – весело отозвался уголовник, угодивший сюда за кражу месяц назад. Время шло, а судебное заседание еще не назначали. Похоже, что с навалившимися политическими делами о нем позабыли. Но он не унывал, воспринимая пребывание в камере как некоторую передышку. – Все равно делать особо нечего.
Приободрившись, куртуазный мужичонка продолжал:
– Я-то сам прежде в другой камере сидел. Со мной вместе дядька один был лысый во френче. Скучный такой, все время очки свои тряпочкой протирал. А потом оказалось, что это последний военный министр Российской империи, – протянул он с уважением, – Михаил Алексеевич Беляев36. Вот как оно бывает. Расстреляли его. Вывели во двор, пальнули залпом и нет человека!
– А сам ты за что сидишь? – спросил уголовник.
– Политический я, – ответил куртуазный.
– Очень неожиданно, – удивился старик лет семидесяти, называвший себя консерватором. – И к какой же партии вы принадлежите? Каких взглядов придерживаетесь?
– К партии не принадлежу, но вот взглядов придерживаюсь, – подумав, не совсем уверенно ответил куртуазный мужичонка.
– И каких же взглядов?
– Думаю, что левых… Поскольку от консерватора пострадал, от Бориса Владимирович Штюрмера…
– Это каким же образом? – хмыкнул старик.
– Я ведь театрал… Знаете, люблю посмотреть какую-нибудь премьеру. Народ приходит богатый, все нарядные, любят щегольнуть. Я смотрю: барин идет, а у него из кармана френча уголок кошелька выглядывает. Вот меня бес и попутал, взял я этот кошелек двумя пальчиками и вытянул его осторожненько у него из кармана. А потом пошел спектакль смотреть. И как не посмотреть, когда на сцене танцевала сама Ольга Преображенская37! А тут шум поднялся, оказывается, в том кошельке у бобра38 брошь была фамильная, он хотел ее своей супруге подарить на день Ангела. Вот кто-то меня и признал, – выдохнул мужичонка, – а потом меня в кутузку доставили. – С тех пор и сижу. Говорят: отдай брошь, тогда ничего тебе не будет. Да как же я отдам, если я кошелек уже передал. А потом, такая вещица больших денег стоит. Кто бы мог подумать, что я с тем самым бобром, Борисом Владимировичем, в одной камере буду сидеть. Попросил у него по-христиански прощения за свой грех, но он только отмахнулся: «Иди, говорит, с Богом, не до тебя сейчас». Только куда идти-то? Может, и пошел бы… Только дальше четырех стен никак не уйти. Вот теперь его уже и нет на этом свете, а я по-прежнему все сижу… Надеюсь, отсижу свой срок, а там и выйду.
– Постой, – встрепенулся уголовник, – уж не ты ли тот самый Маэстро?
– Он самый и есть, – скромно ответил куртуазный.
– Я же о тебе столько всего слышал! Кто бы мог подумать, что с таким мастером в одной камере сидеть буду? – взволнованно заговорил уголовник. – Скажу своим уркаганам, так и не поверят. – И он громко, не в силах сдержать раздиравшие его эмоции, выкрикнул: – Господа, знаете ли вы, какой это человечище! Это же сам Маэстро! Не было в Российской империи лучшего карманника, и вряд ли когда появится. Он работает только в театрах. И он наш, пролетарский! Говорят, что в Ла Скала39 он буржуев до нитки обобрал! Для меня честь сидеть с вами в одной камере!
– Вы преувеличиваете мои достоинства, коллега, – смиренно отвечал куртуазный. – Подрастает очень многообещающая молодежь. Уверен, что многих из них ожидает большое будущее. Если, конечно, новая власть их не перебьет… Я просто очень люблю театр, торжество музыки, возвышенную атмосферу. Это дамы, наконец! А какой в театрах буфет! Такого не встретишь нигде. Питаться-то как-то надо, вот и приходиться мне иной раз облегчать карманы состоятельных граждан… Уверяю вас, это не от жадности, а исключительно из любви к искусству. Я беру ровно столько, чтобы сходить на очередную премьеру и пообедать в буфете. Как всякий театрал, я не могу позволить себе ходить в театр в одном и том же костюме, вот и приходится каждый раз покупать новый, а это дополнительные траты. А потом, я хожу не один, а с дамами! И каждая из них очень шикарна. Как же я буду выглядеть, если не сделаю ей хороший подарок. Так что поймите меня правильно, господа, в какой-то степени я – просто жертва искусства.
Штабс-ротмистр Починков лежал на своей лежанке и, уперевшись взглядом в потолок, слушал развернувшийся диалог. Желания разговаривать не было. Но самое скверное состояло в том, что он не представлял себе свое ближайшее будущее. Вместе с тем его охватило какое-то равнодушие к собственной судьбе. Никому нет никакого дела до отдельно взятой личности, когда ломаются и крушатся целые империи. Судя по живописному рассказу Маэстро, каждого из сидящих здесь ожидает не самое благостное будущее. Если удастся уцелеть во всей этой кутерьме, то можно будет считать, что ему крупно повезло. Наступило черное время, когда министров к стенке ставят ни за грош, что уж говорить о каком-то штабс-ротмистре. Может, завтра и расстреляют. Икону забрали, продадут какому-нибудь толстосуму из Европы, деньги поделят, а ненужного свидетеля расстреляют.
В тюремном коридоре послышались шаги, некоторое время за дверью раздавались приглушенные голоса, после чего в замке заскрежетал ключ. Дверь с тягучим стоном раскрылась, и в камеру вошли два надзирателя.
– Починков, на выход! – сказал один из них, кольнув штабс-ротмистра неприязненным взглядом.
– С вещами?
– Можешь оставить. Они тебе больше не понадобятся, – ответил другой, мрачно хмыкнув.
– Ну вот, еще одного забирают, – произнес старожил камеры. – Жандармский офицер Григорьев тоже про вещички спрашивал, дескать, могут понадобиться. А ему ответили: «Там, куда ты пойдешь, одежда ни к чему». А потом вывели его и за окном раздался залп, больше мы его не видели.
Все устремили на штабс-ротмистра Починкова сочувствующие взгляды. Многого не нажил, но вот фуражку он заберет с собой. Помирать, так уж лучше с покрытой головой. Стараясь не смотреть по сторонам, Георгий твердой походкой зашагал к двери.
На него надели наручники и повели по длинному коридору. Спустились с четвертого этажа прямо в засаженный кленами двор, где пугливо шарахались долговязые тени. За спиной высилась пятиглавая церковь с белыми куполами. Настроение – так себе, пустое! Он совершенно ничего не чувствовал, все происходило как-то мимо него, словно на расстрел выводили кого-то другого, а сам он был лишь сторонним наблюдателем. Реальность не тяготила, хотя и навалилась со всей определенностью: сбившись в кучку, в сторонке стояло стрелковое подразделение красноармейцев, они курили махорку и от души злословили в адрес враждебного класса. На узкой лавочке сидел белобрысый офицер лет тридцати пяти, по-видимому, он должен был командовать расстрелом. Он курил какую-то заокеанскую дрянь, и дым от жженой полыни распространялся по всему двору. Здесь же высилась щербатая стена, к которой ставили приговоренных. Все предельно просто. Это тебе не виселицу сооружать.
В прежние времена исполнителей на расстрел обычно назначали. Добровольцев было не сыскать, дело это было подневольным. Боевые патроны смешивались с холостыми, чтобы каждый из стрелявших думал, что не его пуля убила приговоренного. Если после расстрела смертник оставался в живых, то офицер, командовавший расстрелом, был обязан добить приговоренного выстрелом в голову. Интересно, у большевиков такие же порядки, или они придумали нечто более злодейское?
Отшвырнув сигарету, офицер скомандовал:
– Подведите его к стене.
Голос у него оказался сильным и звонким. Несмотря на явную молодость, было видно, что он привык приказывать, и знал, что его приказ будет исполнен незамедлительно.
Штабс-ротмистра Починкова подвели к тюремной стене. Только сейчас, приблизившись к ней на расстояние вытянутой руки, он смог увидеть, насколько щербата стена. Сколько же народу возле нее расстреляли… Сто? Двести? А может быть, тысячу?..
Расстрельная команды вытянулась в строй.
– Можем завязать вам глаза, – предложил офицер.
Штабс-ротмистр усмехнулся:
– Ваша любезность не знает границ. Не утруждайтесь. Помру как-нибудь без ваших предложений.
– Дело ваше, – равнодушно пожал плечами офицер. – Может, вы имеете последнее желание? Постараюсь исполнить, если это будет в моих силах.
– Не играйте в благородство, это вам не к лицу. Впрочем, не хотел бы умирать со связанными руками. Если это вам ничего не стоит, снимите с меня кандалы! Хочу умереть свободным.
– Снимите с него наручники, – приказал офицер.
Подошедший надзиратель, повернув крошечным ключом в замке, снял с Георгия наручники и отошел в сторону.
– Готовьсь!
«Главное – не зажмуриться», – штабс-ротмистр Починков приподнял подбородок, стараясь смотреть выше.
– Целься! Пли!!
Прозвучал залп, от которого заложило уши. Из стволов винтовок поднимался темно-серый дымок от сожженного пороха. К своему немалому удивлению, Починков продолжал стоять на ногах. Говорят, что умирающие совершенно не чувствуют боли, но он знал, что через мгновение он рухнет бездыханным.
Вдруг неожиданно офицер подошел к штабс-ротмистру и сочувственно спросил:
– Как вы себя чувствуете?
– Для расстрелянного я чувствую себя вполне удовлетворительно.
– Извините, что я подверг вас такому нелегкому испытанию, но это было необходимо. Вы свободны!
– Это такая большевистская шутка, чтобы расстрелять меня завтра? Нет уж, стреляйте сейчас! Для меня один день ничего не решает.
– Я обладаю большими полномочиями и вправе решать, что с вами делать. А мои намерения таковы… Можете идти на все четыре стороны!
– Кто вы?
– В пятнадцатом году в штабе фронта я возглавлял отдел военной контрразведки. Сейчас занимаюсь тем же самым, но уже при нынешнем правительстве.
– И в каком вы звании?
– Подполковник.
– Какими словами мне благодарить вас?.. Господин подполковник… или, может быть, все-таки товарищ подполковник?..
Военный контрразведчик сдержанно улыбнулся:
– Можете называть меня господин подполковник, а можете товарищ Куракин. Как вам заблагорассудится, я не обидчивый.
– И каково это – предавать Россию… товарищ Куракин?
– Вы заблуждаетесь, господин штабс-ротмистр, Россию я не предавал. Я как раз служу России. А какого она будет цвета: белого или красного, для меня не имеет значения. Главное, чтобы она была! Так куда вас отвезти?
– Если вам не трудно, отвезите меня к моей невесте. Я давно ее не видел. Хочу забрать ее с собой, а дальше пусть будет так, как будет.
– Вы говорите о Марии Разумовской? – спросил Куракин.
– Именно о ней, – удивленно протянул штабс-ротмистр. – Вы с ней знакомы?
– Да. Это она попросила меня сделать все возможное, чтобы вытащить вас из «Крестов». И хорошо, что я успел. Иначе вас сегодня расстреляли бы.
– Как она узнала, что я в «Крестах»? – глухим голосом спросил Починков.
– Я ей сообщил об этом… Просматривал списки поступивших в «Кресты» и натолкнулся на ваше имя. Решил проверить, действительно ли вы тот самый Починков, о котором она мне как-то обмолвилась… Мне известно, насколько вы с ней были близки. Так что я не могу отвезти вас к Марии. Теперь она – моя жена…
Лучше бы вы меня расстреляли, подполковник. Почему вы этого не сделали? – простонал штабс-ротмистр. – В этом перевернутом мире Мария оставалась последней моей отрадой. Теперь я не знаю, что мне делать, – отвернувшись, произнес Починков.
– Я это сделал потому, что дал слово офицера спасти вас.
– Вы хотите сказать, красного офицера?
– А разве честь офицера имеет какой-то цвет? И своих убеждений я не поменял… Об этом знают и те, кто доверил мне защищать безопасность России… Давайте я вас все-таки выведу за пределы «Крестов», а там вы уж сами решите, куда вам следует идти. И не испытывайте моего великодушия, оно не безгранично… А дорогу к Марии забудьте навсегда! Такое решение будет лучшим для нас всех! Она уже сделала свой выбор и вряд когда-нибудь его изменит.
Они прошли мимо церкви Святого Александра Невского, выложенного из красного кирпича (из такого же были построены тюремные корпуса; в «Крестах» преобладал красный цвет, что угнетающе действовало на психику заключенных) и повернули прямиком на Арсенальную набережную, с которой доносился гул редко проезжающих машин. Выйдя за пределы внутренней стены тюрьмы, они дошли до другой каменной ограды, такой же высокой, обмотанной заржавленной колючей проволокой, и оказались у обшарпанного флигеля, притулившегося к стене казармы. Выход из тюрьмы преграждали кованые ворота с небольшой дверью.
Неожиданно громко, заставив вздрогнуть, прозвучала корабельная сирена с пришвартованного неподалеку судна.
Охрана, стоявшая у дверей, узнала в молодом офицере человека, обладающего большими полномочиями, и почтительно отступила. Дежурный по контрольно-пропускному пункту – грузный коренастый дядька лет сорока, из уважения к военному контрразведчику лично открыт дверь и стоял навытяжку до тех пор, пока подполковник Куракин со штабс-ротмистром Починковым не вышли за пределы узилища.
С Невы тянуло холодом, было зябко. На поверхности мутной серой воды чешуйками разбегался свет. Протяжно завывал стылый северный ветер. Грозовым фронтом надвигалась темная туча. Над головами шуршали сухими листьями ветки деревьев. Порывистый ветер подхватывал с земли мелкий сор и, словно играя с ним, уносил куда-то далеко.
Неожиданно с церкви Святого Александра Невского торжествующе и сладко заголосили колокола. Звук был густой и тягучий, словно нектар. Его хотелось пить. Починков глубоко вздохнул полной грудью, задержал воздух в легких. Шумно выдохнул. Вот, кажется, и напился.
Они помолчали, думая каждый о своем, потом, разбивая затянувшуюся паузу, Куракин спросил:
– Так куда вас отвезти?
– Пока не знаю. Пройдусь пешком, а там видно будет.
– Сделаем вот что… – вытащив из кармана френча блокнот, Куракин вырвал листочек и нарисовал на нем какой-то замысловатый знак. – Не советую вам долго разгуливать по городу. Скажу прямо: наступают худшие времена. А ваша строевая выправка выдает человека военного. Боюсь, что в следующий раз судьба не будет к вам столь милосердна… Мои возможности не беспредельны, может случиться так, что я буду не в силах вам помочь. Возьмите, штабс-ротмистр, – он протянул листок Починкову. – Советую вам уезжать из России, вас ожидает здесь скорый конец. Эту записку передадите человеку, который в ближайшие три дня будет вас ждать у Исаакиевского собора с двенадцати до часу дня. Он поможет вам перебраться через границу. Боюсь, что это единственное, чем я вам могу помочь. Может, вы хотите что-то передать Марии?
– Хочу… Скажите ей, что я буду помнить ее до последних дней.
– Обещаю. Считайте, что вас спасла икона, которую вы пытались уберечь. Куда пойдете сейчас?
– Пойду искать икону. У меня нет выбора, я обещал подполковнику Каппелю.
– И как же вы это собираетесь сделать?
– Как я это сделаю? – задумался Починков. – Для начала постригусь в монахи, а далее меня Господь надоумит.
– Что ж, теперь мне пора идти. Дела, знаете ли. И не обижайтесь на меня за этот мнимый расстрел, он был одним из условий вашего спасения, – он козырнул и быстрыми шагами пошел к автомобилю, стоявшему неподалеку.
Застучал дождь, поднимая в небольших лужицах настоящий переполох. Воздух еще более налился сыростью. Заметно вечерело, через час станет совсем темно. На облысевших кронах деревьев по-хозяйски рассаживались вороны, готовясь к предстоящему ночлегу.
Пережитая обида тяжелым холодным камнем провалилась куда-то под аорту. За какую-то минуту прошлое вдруг разом омертвело, покрылось толстым слоем пепла, словно погребальным саваном. Подняв воротник, штабс-ротмистр Починков поежился, прогоняя неприятную дрожь, и бездумно побрел неведомо куда.
Глава 5
Лондон
1920 год. Сентябрь
Неожиданное предложение
Магазины семейства Винц располагались в центральной части Лондона на коммерческой улице Хаттон Гарден, – в самой закрытой и загадочной зоне города. Отгороженная от остальных районов многочисленными тоннелями, подвалами, мастерскими, улица хранила немало зловещих тайн, большая часть из которых была связана с ювелирными ограблениями.
Наиболее значительное из них произошло в конце декабря 1678 года, когда в дом богатого ювелира вошли около двух десятков мужчин, заверив хозяев, что имеют ордер на обыск. Но едва они проникли в помещение, как тотчас заперли в подвале хозяина вместе со всем его семейством и принялись взламывать сейфы с драгоценностями. Одному из домочадцев удалось выскочить наружу и поднять тревогу. Услышав за дверью шум, грабители, прихватив с собой лишь малую часть из того, что они собрали, через черный ход выбежали наружу, а еще через два дня они были задержаны при продаже награбленного. После короткого следствия преступников незамедлительно повесили в поместье Тайберн, где на протяжении многих веков казнили лондонских злодеев и предателей.
Второй известный случай произошел в июле 1901 года, когда ворам удалось украсть ювелирных изделий на сумму более семи миллионов фунтов стерлингов, принадлежавших ювелирной компании «Graff Diamonds». Похитители оказались невероятно изворотливыми и сумели остаться безнаказанными.
На улице Хаттон Гарден совершалось и немало убийств: богатых клиентов, видных предпринимателей, блюстителей порядка и даже политиков. В число смертей, случившихся на Хаттон Гарден, вошла и казнь известного лондонского адвоката, больше походившая на судебный курьез. Случилось это в августе 1685 года, когда осведомителя и мошенника Томаса Дэнджерфилда после публичной порки поместили в тюрьму, размещавшуюся на улице Хаттон-Гарден. На выручку бедолаге пришел известный адвокат Роберт Фрэнсис. Однако в результате острой перепалки защитник ударил Томаса Дэнджерфилда тростью, после которой мошенник скончался на месте. Всеми окружающими произошедшее воспринималось как несчастный случай. Судьи не разделяли общее мнение, и известный адвокат был признан в убийстве и вскоре повешен на знаменитой виселице Тайберна, прозванной в народе «Деревом Тайберна».
Норман Вейц принадлежал к потомственным английским ювелирам, чья история рода началась еще в раннем Средневековье, когда Симон Кривой, оруженосец графа Лестра, стал продавать титулованным особам драгоценные камни, добытые им в разоренном Константинополе во время Четвертого Крестового похода40. Получая немалые суммы за свои трофеи, Симон Кривой однажды понял, что продавать драгоценности куда выгоднее и значительно безопаснее, чем добывать их во время кровавых сражений.
В последующие годы на долю семейства Вейц перепало немало жестоких испытаний, однако из каждого столетия они неизменно выбирались победителями, приумножая свое состояние.
Главное достижение семьи случилось немногим более ста пятидесяти лет назад, когда прадед Нормана – Томас Вейц, служивший у известного ювелира, Джона Баттерфилда Смита, вдруг неожиданно унаследовал состояние своего патрона, сделавшись при этом едва ли не самым богатым ювелиром Лондона. Ни детей, ни родственников у старика Смита не имелось, и с юридической точки зрения Томас Вейц заполучил несметные сокровища вполне легально, но липкий слушок, что расторопный малый помог старику отправиться на тот свет раньше положенного времени, еще долго гулял по лондонским гостиным.
Прабабкой Нормана Вейца была русская помещица, которая задолго до своего замужества, разочаровавшись в любви, постриглась в монахини и рассчитывала провести остаток жизни в тихой обители как «невеста Христова». Так бы оно и произошло, если бы однажды во время своего путешествия ее не заприметил молодой английский бездельник-аристократ Мартин Вейц, путешествующий по России. Влюбившись страстно в молодую монашку, он на следующий же день предложил ей покинуть богадельню и выйти за него замуж, но в ответ услышал звонкий девичий смех. Весь следующий год ему пришлось добиваться расположения красавицы, и когда инокиня ответила согласием, не было на земле более счастливого человека, чем белокурый Мартин. От большой любви за десять лет совместного проживания бывшая монашка нарожала восемь мальчиков и одну дочь, которые унаследовали фамильный ювелирный бизнес.
Русская прабабка, не приняв англиканскую веру, так до конца жизни и оставалась православной, и в фамильном большом доме, где всегда находилось место для всего многочисленного семейства, повсюду были развешаны иконы, которые она собирала со всего мира. Необыкновенная страсть к иконам передалась и Норману Вейцу, который не однажды приезжал в Россию и, невзирая на высокие цены, скупал древние иконы, становившиеся предметом гордости его коллекции.
О всякой старинной иконе, представляющей художественную ценность, Нормана Вейца извещали его эмиссары, работавшие по всей России. Не скупясь, ювелир дополнительно оплачивал их старания, если оказывалось, что они вдруг подбирали для него нечто особенное. Неделю назад от одного из своих людей он получил сообщение о том, что отыскался подлинник Чудотворной Казанской иконы Божьей Матери, и человек, владеющий ею (как он заверял, святыня досталась ему через третьи руки), готов был ее продать за пять тысяч фунтов стерлингов.
Новость выглядела ошеломляющей, в нее трудно было поверить. Ведь Казанская икона Божьей Матери исчезла из Богородицкого монастыря в 1904 году и, несмотря на серьезные попытки ее отыскать (поисками Чудотворной иконы занимались самые известные сыщики России; частные лица, включая самого старца Григория Распутина; сочувствующие; верующие; специальная комиссии при министерстве внутренних дел и даже царская фамилия), напасть на ее след не удавалось. Даже скептики сошлись во мнении, что Чудотворная погибла во время ограбления монастыря. И вот сейчас Норману Вейцу пришло сообщение, которое не могло не взбудоражить его.
Неужели это правда?
После получения донесения Вейц затребовал фото иконы и уже через неделю получил четкую фотографию и увеличенные снимки разных частей образа. Запечатлена была даже противоположная сторона доски, всецело соответствовавшая утраченной иконе.
Последующие несколько дней Норман Вейц посвятил изучению снимка, пытаясь отыскать в нем огрехи, что позволили бы перечеркнуть смелое предположение. Но чем пристальнее он всматривался в снимок, изучая малейшие трещинки и царапинки на лицевой стороне иконы, тем больше убеждался в том, что она подлинная. Да и запрашиваемая сумма была такова, что на нее можно было бы купить приличный замок. Смущал лишь оклад, который был не столь богат, каким он представлялся на более ранних фотографиях. На фотоснимках, сделанных еще до кражи иконы, бриллиантов было такое огромное количество, что они полностью покрывали ризу, а из них огромными пирамидальными островками выпирали изумруды. Нынешняя риза была куда поскромнее, и от прежней россыпи бриллиантов осталась лишь четверть, а там, где прежде торчали гигантские изумруды с александритами, были вставлены другие камни. Но все-таки эта была подлинная Казанская икона Богородицы, а потерянные драгоценные камни – ничто в сравнении с самой иконой.
Когда последние сомнения рассеялись, Норман Вейц телеграфировал эмиссару о своем намерении приехать в Петроград, чтобы взглянуть на Чудотворную икону. Не стоило испытывать продавца долгим ожиданием, ведь он может и раздумать, купить такую икону, пусть даже неимоверно дорогую, в России смогли бы около двух десятков коллекционеров, разбирающихся в в ценностях подобного рода.
От принятого решения на душе полегчало. Необыкновенный задался день, и его следовало отметить. Открыв бутылку шотландского виски, Норман Вейц сделал небольшой глоток и пошел в галерею, где были выставлены наиболее ценные работы знаменитых иконописцев. Фамильный замок XVIII века, построенный на берегу Темзы, доставшийся ему еще от прадеда, находился в западной части Лондона (рядом с родовым замком герцогов Нортумберлендов Сайон-Хаус) и был предметом его гордости. Приятно соседствовать с членами королевской фамилии, понастроивших здесь внушительных бастионов еще в раннем Средневековье.
Норман поднялся по высокой лестнице на второй этаж и зашагал по длинному коридору, по обеим стенам которого висели портреты его предков. В самом конце пассажа, встроенная в нишу и стыдливо прикрывшись ладонью, возвышалась ослепительно-белая мраморная Венера, привезенная из Афин. Пройдя насквозь обширную библиотеку со старинными фолиантами, Вейц подошел к высокой резной двери. Уверенно потянул на себя массивную ручку. Тяжелая дверь неожиданно легко поддалась. В огромном помещении с высоким потолком на всех стенах в два ряда висели иконы, подсвеченные мягким рассеивающим светом. В его коллекции были собраны сербские, болгарские, греческие и русские иконы. Последним он отвел две смежные стены у самого окна, они были представлены разными школами: владимирской, псковской, московской, казанской, значительно отличавшимися в стиле письма, но не уступавшие друг другу с точки зрения мастерства.
В самом центре коллекции Норман Вейц оставил пустое место, предназначенное для Владимирской иконы, которую ему обещали два года назад, что было бы хорошим вложением капитала. Сохранились сведения, что икона была написана самим евангелистом Лукой. Однако сделка сорвалась в последнюю минуту (позже стало известно, что посредника арестовали чекисты). Однако завешивать свободное место другой иконой Вейц не торопился, словно предвидел, что ему представится возможность разместить там икону, равную по значимости Владимирской. И вот, кажется, такой день настал, – пустующее место займет Казанская икона Божьей Матери.
Передали, что в Петрограде ветрено, и ему следует прихватить с собой теплый плащ.