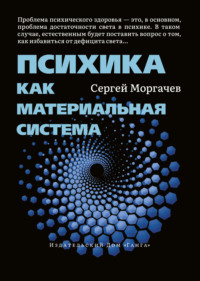Kitabı oxu: «Психика как материальная система», səhifə 3
Дело в том, что энергия света-сознания существует вне форм. А любые наши попытки припасть к какому-либо источнику энергии связаны с использованием форм: к чему бы мы ни прикоснулись, о чем бы ни помыслили, – все это формы: икона, крестное знамение, молитва, Евангелие, Тора, Коран, паломничество, святые мощи, мысль о направлении на Мекку или Иерусалим, буддистская мандала… Мы живем в мире форм. Поэтому свет в чистом виде – это только то, что дается нам не по нашей воле откуда-то сверху, извне нас. Сами мы увеличить запасы света каким-либо прямым путем не можем.
Поэтому с давних времен для этого существуют обходные способы.
Энергия тьмы – это далеко не что-то однородное. Энергии любви к женщине или, например, к красивым автомобилям – отнюдь не то же самое, что энергия любви к Богу. Существует целый спектр энергий тьмы, от легкой вуали до непроглядной мглы. Можно сказать и так: реальная тьма – это всегда некая смесь тьмы и света, и света в такой смеси может быть больше или меньше. Можно использовать также понятия «тонкое» и «грубое»: есть энергии тонкие и грубые.
В энергиях, связанных с исповеданием религий, много света. Созерцаете ли вы православную икону, молитесь ли в мечети, читаете ли буддийскую сутру, медитируете ли на написанном кистью дзенском круге (энсо) – все это пути получения света. Наиболее тонкая и светоносная энергия – это энергия форм, связанных с переживанием пустоты: уже упомянутый пустой круг, пустой горизонт на море или в степи, звездное небо.
Чтобы получать энергию света через объект культового поклонения, необходимо иметь его образ внутри, будь то Будда, Ковчег завета, Черный камень Каабы, Иисус или энсо: «По вере вашей да будет вам»14.
Похоже, что религия без фанатизма – наиболее практически надежный путь. Повезло тому, кто может ему следовать… Насколько я могу понять, этого же мнения придерживался и Экклесиаст:
«Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя? Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того».15
Но человек не решает сам, годится ли этот путь для него (или – он для этого пути). Собственно, есть три варианта: в сердце человека нет Бога (1); Он есть (2), и Его очень много (3). Человек просто обнаруживает, внутри какого варианта он находится.
* * *
Только благодаря свету сознания человек в состоянии твердо и прямо стоять на своих собственных ногах. Свет может быть отрефлексирован как некий стержень, столп базовой энергии внутри человека, его психический хребет, который его «поддерживает». Уступка сакрального внутреннего пространства силам бессознательного-тьмы, силам материи – это потеря самоидентичности. Это нарушение целостности и правильного положения «психического позвоночника»: говорят, что нечто «поколебало» человека, «согнуло» его или даже «сломало».
У человека два Я – Я-бессознательное, связанное с объектами (обусловленное) и Я-сознание, свободное и ни на что на завязанное. Они ощущаются соответственно как внешнее и внутреннее. Но как подлинное, то есть конституирующее идентичность, переживается только Я-сознание. Именно оно связано неким каналом, уходящим вверх, с океаном света-сознания, находящимся за пределом индивидуальной психики.
Человек соткан из света и тьмы, он не может быть другим, эта амбивалентность – его самая что ни на есть сущностная характеристика, и тьма – такой же истинный аспект бытия для него, как и свет.
Естественными для человека являются постоянные колебания между светом и тьмой, импульсами сознания и бессознательного. Эти импульсы противоречивы, но это следует принять как экзистенциальную данность. Вопрос стоит лишь о безопасности, связанной с мерой тьмы и мерой света. Слишком густая тьма губительна; но и слишком яркий свет, я подозреваю, плохо совместим с нормальным психофизическим бытием человека.
Бытие человека в мире света и тьмы иррационально. Воздать этому должное – единственный рациональный способ рассуждения в этой иррациональной ситуации.
Глава 2. Смыслы
«… Но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас – это радость и страх».
Б. Гребенщиков, «Сидя на красивом холме»
В психологической жизни смысл вездесущ, им все начинается и все им кончается. Смысл – емкое понятие, широкое обобщение, которое охватывает разные модусы бытования психического в зависимости и от аспекта, и от степени конкретности: от жизнеподобных образов физической жизни (людей, вещей) на одном конце спектра до смутных невербальных ощущений на другом. Смысл может быть архетипом, идеей, воспоминанием, мыслеобразом, переживанием, словом… Мы можем использовать и такие эквивалентные ему термины, как смысловой элемент и смысловое образование.
Попробуем описать понятие смыслового элемента под углом зрения того, какие функции он выполняет.
* * *
Прежде всего: в традиционном дуализме духа и материи смысловые образования выступают на стороне последней, в то время как на стороне духа обретается беспредметное самостное Я. Сколь бы ни были смыслы «тонкими», будь это даже крайне «призрачные» невербальные ощущения – все равно это формы, а формы (и нефизические в том числе) – это уже заведомо не ничто; это что-то, это объекты, сущности, это материя. Далее, в дихотомии света и тьмы смыслы проходят по ведомству тьмы, именно потому, что они есть что-то, вытесняющее свет, который по своей природе прозрачен и беспредметен, пустотен.
Смыслы – это уплотнения психической ткани, в отличие от света, который отвечает за рассеяние, рассредоточение. Это надо почувствовать. Они – как песок или камни в почках или печени, в зависимости от своей концентрации, только в данном случае речь идет о душе. Это «сгустки энергии» – вот именно «сгустки».
Смыслы – это своего рода спазмы души и тела, в отличие от света, который всегда дает расслабление.
Смыслы – это атрибуты земного бытия; к тому времени, когда человек обретает (после рождения и детства) мало-мальское собственное сознание, он уже нашпигован исходными для себя смыслами, которые ему потом тащить и тащить на себе через жизнь.
По сути, жизнь состоит в проживании смыслов, как врожденных, так и «благоприобретенных». Пока смысл не прожит, он будет требовать своего проживания – соответствующих действий, создания подходящих ситуаций. В конечном счете смысл, как порождение тьмы, есть зло; но для земной жизни он представляет собой энергетический ресурс. Когда все смыслы прожиты, жизнь может закончиться в любой момент, поскольку энергия к человеку идет через смыслы; через что она будет поступать, когда смыслов больше не осталось?
* * *
Смысловой элемент является носителем энергии и активности, а также желаний и интенций к действию. Он живет собственной жизнью. Мыслеобразы появляются, не спрашивая у нас разрешения, за ними следуют эмоции и импульсы, и все это просто случается, обнаруживая непредсказуемость поведения смыслового элемента, а также его отчужденность, внеположенность по отношению к внутреннему Я.
Давно замечено, что активность смысловых элементов включает элементы как непредсказуемости, так и закономерности: она имеет обыкновение изменяться циклически, двигаясь от «обострения» к «ремиссии» (а кто-то скажет – от великих деяний к застою и прозябанию). Кроме того, смысловые элементы имеют привычку менять свой знак на противоположный: любовь оборачивается ненавистью, восхищение – отвращением.
Есть и другие закономерности в формировании картины смыслов: например, принцип их парного образования, как элементарных частиц в физике (по принципу противоположности). Наиболее весомый вклад в изучение этой темы внесли Лао-Цзы в «Дао-дэ цзин» и К.Г. Юнг – например, в «Трансцендентальной функции». В бытовой же жизни даже те не слишком большие знания в этой области, которые у человечества имеются, обычно игнорируются, поскольку они неудобны и зачастую неприятны, лучше о них и не вспоминать.
* * *
Каждый смысловой элемент образует участок границы между светом и тьмой – границы индивидуального мира. Мы можем «видеть» внутренним взором смысловой элемент, наш взгляд как бы упирается в него, а что за ним? Мы этого не видим (можем только предполагать). Здесь «конец нашей вселенной» на этом направлении.

Илл. 1. Витражный фонарь: метафора психического мира.
Автор изделия и фото: Ульяна.
Источник: https://www.livemaster.ru/item/12828041-dlya-doma-i-interera-fonarik-podsvechnik
По сути, индивидуальный психический мир, с точки зрения первого лица, представляет собой некое пространство, в центре которого находится тот, кто смотрит, думает и делает, то есть внутреннее самостное Я. Стенки же этого пространства образуют психические образы и конструкты – объекты, на которые внутреннее Я смотрит, о которых думает и с которыми что-то делает. С этим центральным Я связан источник света, который освещает внутренний мир. Мир начинается с этого источника света – а что же еще может быть в начале мира, как не Я? – и кончается объектами, поскольку они обладают плотностью и представляют собой, в большей или меньшей степени, тьму.
Смысловые элементы, таким образом, конституируют индивидуальный психический мир. Они его замыкают. Эта картина более-менее соответствует образу витражного фонаря с расписанными стенками и свечой внутри (илл. 1), где свеча – это, конечно, внутреннее Я.
Этот образ чем-то напоминает мне стихотворение Иосифа Бродского:
«Не выходи из комнаты,
не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце,
если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все,
особенно – возглас счастья.
Только в уборную —
и сразу же возвращайся».
Пространство индивидуальной психической вселенной искривлено, поскольку оно замыкается (кончается) объектами, одни из которых близки (к центру), а другие далеки. Близким в психике является то, что индивидуально важно (близкие люди, близкие идеи, близкие идеалы), а далеким, соответственно, – малозначительное (всё это сейчас так от меня далеко!).
* * *
Смысловые образования изначально содержат энергию: это энергия значения. Тот или иной объект или явление действительности что-то значат для человека, причем всегда следует подразумевать – для данного человека.
Благодаря тому, что вещи что-то значат, они привлекают энергию духа – свет вышеупомянутой свечи. Язык свидетельствует об этом конструкциями типа меня привлекает то-то, меня позвало то-то. Людей тянет к чему-то или влечет, поэтому с ними случаются увлечения.
Энергия движется от «свечи» к смысловым образам: свеча «питает» их. Обратимся снова к языку: можно «питать» симпатию, надежду, презрение, ненависть, «нежные чувства», а ведь все это и есть смысловые образования. Добавим, что язык однозначно указывает и на субъекта этого процесса: кто питает надежду? – Я. Под Я здесь подразумевается подлинное и трансцендентное Я человека – пустота.
Пройдя через смысловой элемент, энергия возвращается в психику, приобретя соответствующий данному элементу смысловой оттенок (и приняв в себя значительную порцию тьмы/материи). Это энергетический контур нашего «двигателя внутреннего сгорания» (рис. 1). Возвращаясь, эта энергия поддерживает всю остальную психическую систему, влияет на нее, может подкреплять или подавлять какие-то аспекты психической жизни. Наконец, этот отраженный от смысла энергетический поток – если он силен – может, возвращаясь, даже снова достигнуть сакрального центра психики, откуда он пришел, но теперь уже – как агрессивный поток материи (рис. 2).

Рис. 1. Движение энергии в психическом мире индивидуума.
* * *
Кстати, о двигателе внутреннего сгорания. В психологическом аспекте это очень содержательная аналогия.
Та энергия, которая движется внутри психики – это продукт синтеза энергии пустоты и энергии тьмы (материи). Мы можем назвать ее двухкомпонентной энергией, отсылаясь к термину двухкомпонентное топливо. Двухкомпонентное ракетное топливо состоит из горючего (например, керосина) и окислителя (например, жидкого кислорода); они хранятся раздельно и подаются в камеру сгорания, где смешиваются и воспламеняются. В нашем случае, в качестве горючего выступает психическая материя, а в качестве окислителя – энергия света и пустоты. Психика же может пониматься как своего рода камера сгорания.

Рис. 2. Отражение энергетического потока обратно в сакральный центр психики.
Вещество смысла горит в присутствии духа / света, который оно потребляет для этого горения, как кислород. Это горение (он загорелся новой идеей, он воспылал к ней страстью) ощущается как переживание смысла. Вместе с тем оно является его проживанием.
Тема горения чрезвычайно широко отражена в языке. Причем, обычно этот дискурс имеет позитивную коннотацию. Пламя души, огонь сердец, или, например, сентенция градус их отношений был очень высок – все это комплиментарные обороты речи. Между тем, замечу: свет пребывает в небесах, а огонь – в аду. И в этот ад легко попасть еще при жизни, если упомянутая реакция света и тьмы, сопровождающаяся горением, выйдет по своей интенсивности за какие-то пределы. Лава страсти и огонь ненависти испепеляют души. И на работе тоже, как известно, можно сгореть. Сколько их, этих душ, сгоревших в пламени собственных аффектов? Миллионы и миллионы. Бесконечными шеренгами они уходят туда, где…
«…уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем».16
По мере прогорания / выгорания смысловой элемент начинает гореть менее ярко и уменьшается в размере. Поток энергии через этот канал ослабевает вплоть до нуля. У явления душевного горения, как и у всего на свете, есть начало, расцвет, упадок и конец. С прогоранием / выгоранием бывает связана проблема энергетической депривации – прекращения поступления энергии по привычному каналу.
* * *
Смысл выполняет роль общности. Каждая человеческая психика связана с множеством других бесконечным числом общих элементов – образов, идей, знаний, инстинктов, побуждений, переживаний. Я уже не говорю о языках – это тривиально. Мы разделяем смыслы с другими людьми. Только поэтому для нас и возможно общение. Темы общности касаются всего на свете, от взаимоотношений с близкими людьми до включенности в человечество как целое.
Между тем общность – это канал связи, стыковочный узел, практически «труба», по которой может идти информация, как это показано на рис. 3. Изучение смыслов-общностей как соединяющих элементов дает возможность развить тему архетипов и их конституирующей роли в строении «мировой души» – Anima Mundi. В частности, это позволяет пролить свет на поставленную К. Г. Юнгом проблему синхронии. Если существует мировая душа, отчего бы информации не распространяться внутри нее – по ее внутренним объединенным пространствам – от одного человека (группы людей) к другому человеку (группе)? Было бы скорее странно, если бы такое распространение не наблюдалось.

Рис. 3. Движение информации через общий смысловой элемент двух индивидуумов.
* * *
Смысловые элементы, будучи включены в структуру двух или множества психик (для которых они являются общими), могут генерировать общий смысловый импульс.
Давно уже обращено внимание на то, что в некий момент времени огромные общественные силы имеют обыкновение вдруг просыпаться, приходить в движение и начинать активно двигаться в каком-то направлении – будь то в географическом смысле, как это происходило при великих переселениях народов или в захватнических войнах великих империй, или в смысле психическом, когда массы населения бывают захвачены некоторой сверхидеей (как при возникновении религий – буддизма, христианства, ислама) или новым мироощущением (как при смене стилей в искусстве и рождении, например, готики, или ренессансного искусства, или барокко). Это и есть проявление деятельности общих смысловых образований (рис. 4).

Рис. 4. Навязывание общим смысловым элементом своего импульса двум индивидуумам.
* * *
Смысловые образования обладают природной агрессивностью. Чем она обусловлена? Ничем. Просто это закон жизни – вещи, на некотором этапе своего развития, обладают пассионарностью, интенцией к своему увеличению и расширению (а потом, когда-то, утрачивают эту интенцию, но сейчас не об этом). Склонность вторгаться и овладевать психикой – это очень важное свойство смыслов.
Существенно, что смысловые элементы, расширяясь, осуществляют агрессию и вторжение во все стороны – то есть на территории всех психических миров, которые они объединяют: двух, по меньшей мере, или более чем двух. Вторжение смысла – это всегда надиндивидуальный процесс.
На этом свойстве смысловых элементов надо остановиться подробнее, поскольку это, я полагаю, есть важнейшее, что нам надо знать о жизни смыслов.
Напомню, что смысл – это всегда общность кого-то с кем-то, кого-то с чем-то. Мы только что об этом говорили. Смысл – это общий элемент в двух или нескольких психиках. И, коль скоро он образовался, все его дальнейшие метаморфозы касаются всех психик, которые он объединяет. При этом мы видим его деятельность с позиции первого лица, «от себя».
Если этот элемент активизируется (а мы воспринимаем его как «свой»), он вторгается в чужую душу, имея целью ею завладеть; я вполне могу это даже осознавать и к этому стремиться (хочу завладеть ее сердцем). Но своей другой стороной эта фигура вторгается в мою собственную душу, в ее глубь, проникает в ее сакральную сердцевину и завладевает ее пространством и энергией. То же самое происходит, если я, допустим, штурмую некую область науки или искусства: я проникаю в них и покоряю, а на заднем плане этот (мой собственный, но в то же время и совместный с кем-то / чем-то) аспект личности проникает в меня и покоряет меня самого; он переделывает под себя всю конструкцию моей души и ставит себе на службу ее потенциал, – по сути, становится объектом-вампиром. Это болезненный процесс.
Агрессивность (наступательность, пассионарность) в отношении внешнего мира оборачивается агрессивностью в отношении себя самого. Это двусторонний, обоюдоострый, зеркальный процесс. Его существование требует помнить о золотом правиле: будь чуть «полегче», поспокойнее в отношении остального мира, не налегай на него особо и не переделывай его «под себя», – может, останешься цел…
Важен размер этих (зеркальных) вторжений. До какой-то степени это просто часть жизни: человек чем-то или кем-то увлечен, что здесь такого? Это нормально. Без этого жизнь потеряла бы свои краски. Буквально, потеряла бы свои смыслы. Проблемы начинаются, когда вторжение становится массированным и глубинным и приближается к сакральной внутренней зоне, заполненной лишь энергией пустоты, – или, что совсем плохо, захватывает эту зону (сравните рис. 5 и 6).

Рис. 5. Вторжение активного смыслового элемента в объемы двух соединенных психик.

Рис. 6. Патологическое вторжение активного смыслового элемента во внутренние сакральные зоны двух соединенных психик.
Вторжение смыслового элемента в сакральную центральную световую полость (нарушение ее целостности) и есть, собственно, причина психического страдания. Тревога, страх и, при дальнейшем развитии процесса, психическая боль – это симптомы вторжения.
Сверхактивный (пассионарный) смысловой элемент – это проблема, и это предмет интереса для психотерапии, а то и для психиатрии. Более того, он может и соматизироваться. В том смысле, что для определенного аффекта (например, ощущения «я в силах познать тайны вселенной» или чего-нибудь более прозаического, например, обсессии «я хочу быть с этой девушкой»), может найтись и соматическое переживание, которое трудно описать словами. Оно просто «включается» вместе с этим аффектом: «что-то посасывает» или «покалывает», «деревенеет» или «немеет» в определенном месте. И может начать «покалывать» довольно ощутимо.
* * *
Сильные смыслы – аффекты – имеют привычку вцепляться в человека и не отпускать его. Под «человеком» здесь имеется в виду его дух, или свет, – внутренняя (ни на что не ориентированная и ни к чему не привязанная – как говорят на Востоке, необусловленная) энергия. Аффект тянет на себя эту энергию, высасывает ее, как вампир, лишая питания другие смысловые акценты и темы жизни. Это может касаться самых разных проблем – от наркомании и алкоголизма до чрезмерной привязанности к определенному занятию, идее или человеку.
Pulsuz fraqment bitdi.