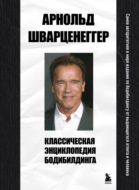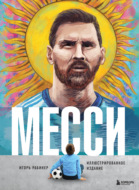Kitabı oxu: «Найти свою волну. Жизнь, люди, путешествия, серфинг», səhifə 2
Джоуз: особенности
Раньше биг-вэйв серферы ждали шторма, который принесет гигантские волны. Сегодня, когда речь идет о больших волнах, высота – важный, но не основной критерий.
Качество волны определяется ее массой, объемом и, в итоге, внутренней энергией. Внутренняя энергия – показатель силы и мощи приходящего шторма, или свелла, – измеряется в килоджоулях. Современные технологии позволяют ее заранее просчитать.
Самые качественные волны – вовсе не обязательно самые большие. А самые большие – вовсе не обязательно качественные. Бывает, поштормило всего в тысяче километров, и волны вроде бы здоровые, но энергии в них нет.
Если сходятся оба фактора – и высота, и качество, – возникает то, о чем серферы потом вспоминают всю жизнь.
Внутренняя энергия определяет не только качество волны, но и ее особенности – форму, узор и скорость.
В отличие от других больших волн, которые по виду напоминают холм, Джоуз имеет форму качественной двухметровой волны. С той лишь разницей, что Джоуз намного выше и, главное, мощнее. Ее высота – от 10 до 23 метров.
Одна из версий, почему волну назвали Джоуз – «Челюсти»: схлопываясь, она становится похожа на пасть акулы. Ветер рисует на стенках волны изощренный узор, рассекающий ее на множество мелких зубчиков.
Это происходит потому, что скорость встречного ветра при столкновении с волной повышается. Пятнадцатиметровая волна движется со скоростью 50 километров в час, и если дует ветер хотя бы 2–3 метра в секунду, то волна, толкая этот ветер перед собой, «уплотняет» его. Ветер скользит вверх и усиливается. Таким образом, если внизу волны скорость ветра 2 метра в секунду, то на верхней ее точке эта скорость увеличивается до 10–15 метров в секунду.
Когда мы смотрим прогноз, особое внимание уделяется силе, объему и направлению ветра, который дует где-то у берегов Камчатки, Японии, Алеутских островов и толкает огромную массу воды по направлению к Гавайям. Чем большая площадь охвачена ветром, тем серьезнее будут волны.
В тот день прогноз показывал нам долгожданный девятнадцатисекундный период между гребнями волн и энергию каждой из них более 10 тысяч килоджоулей, что гарантировало не самый большой, но достаточно хороший размер. Чем дольше период – тем чище и качественнее волны, ведь именно он позволяет вернуться в океан огромной массе воды, которую вбрасывают волны в прибрежное пространство. При меньшем периоде утекающая в океан вода попросту сталкивается с набегающими волнами, разрушая и ломая их.

Также очень важен местный ветер – пассат, его сила и направление. Такие ветра есть в каждой местности, они дуют в определенном направлении в определенное время года. На Гавайях пассат очень силен летом, но иногда может подуть и зимой – сломать волны и испортить серфинг. Кстати, пассат также называют trade wind, то есть «торговый ветер». Это название пошло еще со времен Колумба и Васко да Гамы: мореплаватели знали, когда дуют эти ветра, и благодаря им в соответствующий сезон могли пересекать Атлантику на парусных судах.
Нам необходим местный ветер с берега (off shore) не сильнее 3–5 метров в секунду: именно при таких параметрах волна выглаживается, натягивается, обретает правильную, красивую форму. К тому же немного притормаживается восходящими потоками ветра, то есть дольше не обрушается. Худший ветер для серфинга – на берег (on shore), он дует прямо в «спину» волн, отчего они рушатся и осыпаются.
Глава 2
Волны, которых я еще не видел

Ночь на 13 февраля 2015 года, Мауи
Прогноз остался в точности таким же, как перед нашим отъездом на Мауи. Он утверждает, что через сутки вся мощь шторма, идущего со стороны Алеутских островов – 19 секунд, 11 тысяч килоджоулей, – обрушится на северный берег Гавайского архипелага, но главный удар примет бухта Пеахи. Погода на Мауи идеальная: солнечно, ветер северо-восточный, не более 2 метров в секунду. О таком можно только мечтать, особенно зимой, когда на островах неделями могут идти дожди.
Уснуть невозможно. Отключаюсь лишь на пару часов. То, что происходит дальше, больше похоже на видение, чем на сон.
Я вижу себя со стороны как точку, полностью синхронизированную с бесконечной по протяженности волной. Во сне она кажется всеобъемлющей и перекатывается, как огромный холм, не обрушиваясь и не ломаясь. Волна будто вобрала в себя и пространство, и время, и вот я уже не только смотрю на себя со стороны, но и скольжу по ней – как в замедленной съемке, осознавая великолепие каждой секунды. Нет ни мыслей, ни тревог: только восторг, только мерный шум океана – как биение огромного сердца.
Открываю глаза. Темно. В ушах – тот же звук. За окном грохочут волны, как всегда зимой на Гавайях.
На циферблате три часа ночи. Будильник заведен на четыре утра, но какой теперь сон.
Прогноз в интернете подтверждает: большие волны уже близко.
Вопрос в том, насколько большими они окажутся и подойдут ли для катания. Это выясняется только на месте. Никогда заранее не знаешь, какой волна будет по форме: чуть поменялся градус волны – она неправильно встает, неправильно рушится – и все, кататься невозможно.
Волна, с которой я надеюсь сегодня встретиться, – полная противоположность длинной, спокойной волне из моего сна.

Краткая история серфинга
Серфинг на больших волнах, или биг-вэйв серфинг, – сегодня вершина для тех, кто посвящает свою жизнь волнам. Попасть в десятку сильнейших биг-вэйверов планеты – вот цель лучших из них.
Но мало кто помнит, что гигантские двадцатиметровые волны стали доступны серферам только благодаря буксировочному, или тау-ин (tow-in) серфингу* (когда водный мотоцикл завозит райдера на гребень огромной волны с помощью фала, или буксировочного троса).
В современном виде тау-ин серфинг появился лишь в 90-х годах XX века. Но в действительности его практиковали на Гавайях еще тысячу лет назад. Естественно, технологии тогда применялись другие, но сам принцип был тот же.
Катание на доске при помощи буксировки гавайцы называли Леле Ваа (LeLe Wa’a). Дело было так: семеро мужчин выгребали за прибой на большом каноэ. Благодаря их общим усилиям удавалось набрать достаточно скорости, чтобы оседлать большую волну. В тот момент, когда каноэ оказывалось на стенке волны, седьмой высаживался на свой серф-борд. Ему оставалось сделать лишь несколько символических гребков – и он попадал на самый гребень огромной волны, которую своими силами ему никогда не удалось бы поймать. Шестерых гребцов могли позволить себе только члены королевских семей, поэтому такой серфинг считался королевским спортом. Так развлекался, например, король Гавайев Великий Камехамеха (Kamehameha, 1736–1819).
В 1777 году Джеймс Кук (James Cook) одним из первых рассказал о серфинге европейцам. Понаблюдав за гавайцем, катающимся на доске в океане, он констатировал: «Я не мог не отметить, что этот человек испытывал невероятную радость, когда его носили эти быстрые волны!»
В XIX веке серфинг подвергся гонениям со стороны появившихся на Гавайях европейских миссионеров-кальвинистов. Они осуждали свободный образ жизни, связанный с серфингом, и делали все возможное, чтобы искоренить его. Про серфинг на долгое время забыли.
Серфинг начал возрождаться на Гавайях только в начале XX века. Это произошло благодаря путешественнику Александру Юнфорду (Alexander Yunford), который загорелся идеей привлечь туристов на побережье Гавайев, пляж Вайкики (Waikiki).
В 1912 году Дьюк Каханамоку (Duke Kahanamoku), парень с Вайкики, стал олимпийским чемпионом по плаванию и первой звездой международного серфинга. Путешествуя по миру, Дьюк распространил любовь к серфингу в Нью-Йорке, Калифорнии, Австралии.
В начале 1950-х появились новые технологии и материалы, которые позволили вдвое уменьшить вес тяжелых досок для серфинга. Серфинг как стиль жизни стал набирать популярность среди молодежи, не приемлющей консервативные идеалы 1950-х.
Зимой 1953 года Баззи Трент (Buzzy Trent), Джордж Дауни (George Downing) и Уолли Фросет (Wally Froiseth) покорили невероятную для того времени высоту, прокатившись на девятиметровой волне на гавайском острове Оаху (Oahu). Это была сенсация, о которой написали на первых полосах газет и которая вызвала миграцию с западного побережья США на Оаху (считалось, что нигде нет таких больших волн так близко от берега). Несколько десятков человек присоединились к троице, оставив привычную жизнь ради того, чтобы годами кататься на мало кому доступных волнах, изучать их, обитать на пляже и питаться, чем остров пошлет.
В 1964 году в Сан-Франциско родился Лэйрд Хэмилтон (Laird Hamilton). Сегодня он признан одним из величайших серферов всех времен и народов, хотя и принципиально не участвует в соревнованиях. Хэмилтон прославился также как инноватор: именно он изобрел современный буксировочный (тау-ин) серфинг, а также фойл серфинг* (серфинг на подводных крыльях, дающий невероятное ощущение полета над водой).
В 1992 году Лэйрд Хэмилтон, Дэррик Доэрнер (Darrick Doerner) и Баззи Кербокс (Buzzy Kerbox) применили буксировку на волнах: с помощью надувной лодки и троса начали затаскивать друг друга на волны выше 10 метров, на которые не удавалось выгрести самостоятельно. Надувную лодку вскоре сменил более маневренный водный мотоцикл, а большие неповоротливые доски «ганы» – короткие и легко управляемые доски. Так родился тау-ин серфинг.
Вскоре тау-ин серфинг стал отдельным явлением, породив новую культуру, новые технологии и новые взаимоотношения. Если обычный серфинг – спорт сугубо индивидуальный, то тау-ин серфинг объединил людей в команды, где безопасность райдера полностью зависит от пилота.
«Тау-ин изменил будущее серфинга на больших волнах. Теперь смысл не в том, чтобы прокатиться на шестиметровой волне и выжить. Теперь вы катаетесь на двадцатиметровых волнах и заезжаете в трубы. Раньше никто и представить не мог, что такое вообще возможно!»
Баззи Кербокс
Тау-ин серфинг привел к революционным изменениям, открыв путь к большим волнам, недоступным ранее. Благодаря тау-ин серфингу барьеры страха упали: сегодня серферы самостоятельно выплывают на волны, о которых раньше даже не помышляли, в том числе и на Джоуз. Этот процесс занял порядка пятнадцати-двадцати лет.
Вообще, инновации довольно медленно доходят до массового сознания. Взять хотя бы тот же фойл серфинг. На сегодняшний день это один из самых захватывающих видов серфинга, к сожалению, технически очень сложный. С тех пор, как это изобретение появилось на свет, и до того, как мир его принял, прошло лет двадцать. Когда в 2018 году я одним из первых продемонстрировал фойл серфинг в московском Строгино, я не мог не отметить, что люди смотрели на меня как на клоуна.
По материалам фильма Riding the Giants

Фойл серфинг
«Запорожец» в сугробе
1977–1983, Москва, Свиблово
Когда я рос, я и понятия не имел о том, что в это время на Гавайях самые бесстрашные серферы мира осваивают десятиметровые волны. Но, как ни удивительно, весь опыт, полученный мною до встречи с волнами, пригодился мне в серфинге, а потом и в тау-ин серфинге.
Волны снились мне с детства. Я просыпался с чувством, что где-то есть другой мир, совсем не похожий на тот, что окружает меня. Что это за мир, я толком не понимал: моря я не видел до восемнадцати лет и рассказов о нем тоже не слышал, если не брать в расчет традиционные слагаемые советского детства – книги Жюля Верна и фильм «Остров сокровищ».
Тем не менее,
СНЫ О ВОЛНАХ БЫЛИ НЕЗАМЕТНЫМ, НО ПОСТОЯННЫМ ФОНОМ МОЕЙ ЖИЗНИ. МОЖЕТ БЫТЬ, ОНИ И ЗАРОДИЛИ ВО МНЕ ПОТРЕБНОСТЬ ВЫРВАТЬСЯ КУДА-ТО ЗА ПРЕДЕЛЫ МОЕГО МИРА.
Но в детстве я этого, конечно, не осознавал, просто стремился куда-то дальше – из дома, а потом и из района.
Родители, брат, я и младшая сестра жили в Свиблово, на окраине Москвы, впятером в однокомнатной квартире на 30 квадратных метрах. Мы с братом почти все время проводили во дворе.
В детстве я удивлялся, почему у моих дворовых друзей нет отцов. Понял это только много лет спустя. Оказалось, что квартиру нам дали по программе для многодетных семей, а большинство наших соседей переехали сюда из самого криминального района Москвы – Марьиной рощи. Там был такой рассадник преступности, что власти не могли с ним справиться, и в итоге на государственном уровне было принято решение: снести в Марьиной роще все подчистую, а жителей переселить в новый район, на окраину города. Отцы у моих дворовых товарищей были. Просто они сидели в тюрьмах.
А мои родители обычно были дома. Они оба окончили журфак МГУ. Отец работал журналистом в издании гражданской авиации. Помню, он все время что-то писал: почерк у него был какой-то дикий, неразборчивый. Мама была машинисткой: целыми днями стучала по клавишам – 10 копеек за лист, 100 рублей в месяц.

С братом Димой (он слева). Москва, 1972

Как у многих мужчин послевоенного поколения, у отца случались запои, и это, по сути, разрушило его жизнь. Родители часто ссорились, и им было совершенно не до нас. Никакого совместного спорта, никаких театров-музеев-выставок, ни одной поездки на море. Просто выжить – и все, больше ни на что они не претендовали.
Единственное, что мы делали вместе с отцом начиная с моих восьми-девяти лет, – это чинили машину. У нас был «запорожец», который всю зиму стоял в сугробе. Как только начиналась оттепель, отец принимался готовить машину к поездке «на дачу». Соответственно, каждую весну мы с ним ползали под этой развалиной, пытаясь ее реанимировать – чтобы отправиться в деревню за 400 километров от Москвы и посадить там картошку.
Это был единственный «экшн» в нашей совместной жизни, и я его ненавидел: тащиться черт знает куда по бездорожью, чтобы целыми днями копаться в земле! В четырнадцать лет я себя от этой обязанности избавил: сказал, что не поеду ни сажать картошку, ни собирать этого проклятого колорадского жука! Ни за что и ни при каких обстоятельствах.
Ребенком я мало общался с отцом. В восемнадцать лет я ушел из дома, а через два года отец умер. Я так и не успел узнать его по-настоящему. После смерти отца я, разбирая его бумаги, нашел красивые стихи. Его стихи. Никто и не подозревал, что он их пишет.
Зимой мы с братом проводили время в хоккейной коробке. Это была насыщенная, увлекательная жизнь: мы сами ухаживали за площадкой, заливали лед, организовывали турниры. А летом в футбол играли.
Выбор тогда у нас был небогатый: хоккей, футбол и… музыка. Понятно, что мы – пацаны из сурового бандитского Свиблово, какая нам музыка? Правда, я любил рисовать. Рисовал в основном гуашью, чаще всего животных. Почему-то таких, которых никогда не видел: львов, оленей, антилоп – перерисовывал их из книг. Но эти творческие порывы не получили развития: родители не вкладывали в наши увлечения ни денег, ни времени. Разве что купили нам коньки и клюшки.
С другой стороны, родители нам не мешали, ничего не навязывали. Вряд ли они вообще были в курсе, чем мы занимаемся. Хочешь идти в школу – идешь, не хочешь – не идешь, даже это никто не контролировал. Я жил собственной жизнью и ни о чем не просил. Просто понимал: если чего-то хочешь – придумай сам, как этого добиться.
Поскольку родители не задали никакого направления, я с детства сам искал свой путь, и часто это происходило ценой больших ошибок и рисков. Жизнь была как в компьютерной игре, когда идешь по дороге, а вокруг падают дубины и полыхают языки пламени.
Но мне везло.