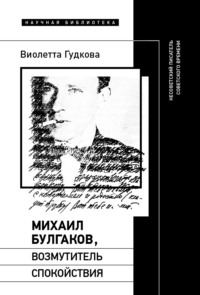Kitabı oxu: «Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени», səhifə 3
23 сентября проходит общественный показ – «полная генеральная с публикой»77. Спектакль, готовый к выпуску, смотрят представители Главреперткома, режиссерское управление, Высший совет и правительство (список приглашенных Станиславскому помогал составить Мейерхольд, более искушенный в царедворских тонкостях). Неожиданностью стало то, что была прислана еще и специальная комиссия, «которая отмечала, как отдельные моменты воспринимаются публикой. В результате появилась интереснейшая запись»78. Ни состав и назначение комиссии, ни ее «интереснейшая запись», к сожалению, неизвестны. А на следующий день, 24 сентября, в коллегию Наркомпроса под грифом «Срочно» отправлена бумага из ОГПУ.
Пьеса Булгакова «Семья Турбиных» («Белая гвардия»), поставленная МХАТом и дважды запрещенная Главным Репертуарным Комитетом, 23/1X с. г. была поставлена в третий раз с некоторыми изменениями.
Ввиду того, что эти изменения не меняют основной идеи пьесы – идеализации белого офицерства, – ОГПУ категорически возражает против ее постановки79.
Экстренное закрытое заседание коллегии собирается в тот же день. Хотя в протоколе № 48 пьеса названа скользкой, все же позволено ее играть в текущем сезоне,
сделав купюры по указанию Главреперткома. <…> Настоящее постановление сообщить Секретариату ЦК партии, Агитпропу ЦК партии, ЦК комсомола, Культотделу ВЦСПС, в Секретариат Председателя Совнаркома т. Рыкова и Председателю Малого Совнаркома т. Богуславскому80.
25 сентября в «Нашей газете» публикуется официальное сообщение о разрешении спектакля81. А 27 сентября А. В. Луначарский отправляет почтотелеграмму А. И. Рыкову.
Дорогой Алексей Иванович. На заседании коллегии Наркомпроса с участием Реперткома, в том числе и ГПУ, решено было разрешить пьесу Булгакова только одному Художественному театру и только на этот сезон. <…>
В субботу вечером (25 сентября. – В. Г.) ГПУ известило Наркомпрос, что оно запрещает пьесу. Необходимо рассмотреть этот вопрос в высшей инстанции либо подтвердить решение коллегии Наркомпроса, ставшее уже известным. Отмена решения коллегии Наркомпроса ГПУ является крайне нежелательной и даже скандальной82.
Итак, Наркомпрос разрешает спектакль, ГПУ его запрещает. Сам же факт участия сотрудников ГПУ в заседании по поводу репертуара театра воспринимается, по-видимому, как обычный.
30 сентября проходит заседание «высшей инстанции» – Политбюро, на котором 12‑м пунктом повестки стоит: «О пьесе». Докладчик – А. В. Луначарский, содокладчики – Менжинский и Кнорин83. Решено «не отменять постановление коллегии НКПроса о пьесе Булгакова»84. Подлинник протокола подписан В. М. Молотовым.
Наркому просвещения оппонируют глава ОГПУ и сотрудник Агитпропа. Вот кто определяет теперь художественную политику и имена на театральной афише.
Скандала было решено избежать, и выпуск спектакля не отменили.
Для МХАТа было важно и обретение полноценной пьесы с живыми и (еще) узнаваемыми персонажами, и выход на подмостки театральной смены старой гвардии – нового поколения молодых актеров. Для Главреперткома как инструмента цензуры, набирающего силу и выверяющего движение по партийным установкам, важна безусловная идеологическая чистота: близится 10-летие Октябрьского переворота, власть Советов, народная власть отошла в прошлое, у руля государства – партийные органы85. Стало быть, они и определяют в том числе и обновляющийся театральный репертуар.
С этого момента критические и театральные дискуссии о произведениях Булгакова и личности автора перемещаются на иной, государственный уровень. Теперь в дело вступают высшие власти – не только Наркомпрос, ОГПУ, но и Политбюро (кажется, о пьесе Булгакова знает каждый его член). Высказываются В. М. Молотов и Я. Э. Рудзутак, А. А. Сольц и В. В. Шмидт. Так, отвечая на анкету «Красной газеты» сразу после премьеры, высокие партийные работники и члены правительства говорят о «Днях Турбиных» вполне благожелательно. Заместитель председателя Совнаркома Рудзутак полагает, что «никакой контрреволюционности нет» и «снимать со сцены не следует». Шмидт (народный комиссар труда) отметил «художественную безукоризненность постановки»86.
Это весомый аргумент в пользу утверждения авторитетности (и, страшно сказать, влиятельности) нового писательского имени.
А Вс. Иванов напишет Горькому в Сорренто:
«Белую гвардию» разрешили. Я полагаю, пройдет она месяца три. А потом ее снимут. Пьеса бередит совесть, а это жестоко. И хорошо ли, не знаю87.
Комментарий поразителен: драматург, чья пьеса «Бронепоезд 14-69» год спустя выйдет на подмостки МХАТа, не уверен в правильности апелляции к совести, видимо, полагая, что можно как-то обойтись и без нее.
Премьера прошла 5 октября.
…Бесшумно раздвигался занавес, и люди из зрительного зала будто попадали в гостиную Турбиных. В теплой комнате на сцене зажигался камин и играли блики живого огня, вызванивали менуэт Боккерини часы, негромко звякали чашки. Друзья турбинского дома рассаживались за столом. И зритель благодарно узнавал, припоминал ту, в общем-то, уже несуществующую жизнь с обязательной скатертью на столе и привычно поблескивающим боком рояля. Кремовые шторы гостиной превращались в символ одного из двух грандиозных чувств, состояний человека. Уют и неуют. Холод и тепло. Свет и тьма. Вьюга – и огонь в камине. Пушки (грохот) – и менуэт старинных часов с пастушками. Зима – и алые розы на скатерти. Смерть, подстерегающая на улице – и вино, песня, любовь. Нежность к Дому как бытию человека, пристанищу его души. Сценические реалии Художественного театра в спектакле означали много больше, чем просто обжитую повседневность, – они возвращали, подтверждали одухотворенную осмысленность жизни. Некоторым даже показалось, что «основной подкупающей силой „Дней Турбиных“ оказался не сюжет пьесы, а ее оформление в МХАТе 1‑м, прочувствованная игра актеров, мягкость красок бытового реализма…»88
Один из тех, кто видел первые спектакли, вспоминал спустя более чем полвека: «Я еще те представления видел, когда на сцене „Боже, царя храни“ пели. – Ну, и как в зале реагировали на спектакль? – Ну, все заколдованные были!»89
Пьеса рассказывала о двух месяцах страшных событий, пронесшихся на Украине, какими их видела одна из множества киевских интеллигентных семей и ее друзья. Обостряло фабулу то, что описывалась ситуация Гражданской войны в многострадальном городе, власти в котором сменились за год свыше десятка раз. Белая армия и войско Петлюры, немцы, гетман, большевики – было от чего закружиться головам обывателей.
Герои булгаковской пьесы не служат в армии Краснова или Деникина, они все еще русские, российские офицеры, брошенные командирами и вынужденные самостоятельно принимать решение, с кем быть90. Тот, кому присягали, – расстрелян. Гетман оказался слаб, национальная идея скомпрометирована. Большевики неприемлемы – но Россия принадлежит им. Люди чести и верности, люди, привыкшие к приказам, должны начать собственное, личное самоопределение вне строя и исчезнувшей субординации. Вот, собственно, о чем шла речь.
Семейная пьеса со спорами 1919 года о том, с кем идти дальше русским офицерам, друзьям, застигнутым революцией и Гражданской войной врасплох, поразила публику тем, что люди пытаются объяснить свой выбор в домашних словесных столкновениях – без перестрелки. Они слушают и слышат друг друга, даже не соглашаясь с решением, принятым собеседником.
И именно миролюбие, дружественность вызвали у части общественности гневный протест, даже агрессию.
Несколько забегая вперед, приведем выступление Маркова:
Художественный театр в военных Турбиных, по существу, читал повесть о штатских Турбиных <…> как бы давал отчет в том психологическом перерождении, которое совершалось внутри интеллигенции. В этом был исторический смысл спектакля91.
После премьеры «Дней Турбиных» поднялась волна газетно-журнальных реакций. Первые отзывы о пьесе (писали именно о тексте и сочинителе – не об актерской игре или режиссуре) появились вечером того же дня.
На страницах «Комсомольской правды» сорок комсомольцев (вряд ли побывавших на премьере) выразили возмущение спектаклем.
А. Орлинский сообщил, что «Дни Турбиных» не что иное, как «политическая демонстрация, в которой Булгаков перемигивается с остатками белогвардейщины»92. В. Блюм напомнил о том, что «хитрая пьеса скрывает не только то, что у Турбиных есть прислуга и денщики, но и апологию шовинизма»93.
А. Безыменский был прост и груб: «Я ничего не говорю против автора пьесы Булгакова, который чем был, тем и останется: новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы»94.
Вновь Орлинский: «Против булгаковщины»95. В. Плетнев: «Мы будем вести классовую борьбу – и не будем пугаться этого слова – гражданскую войну в театре»96. Орлинский в статье «Гражданская война на сцене МХАТ» призывает «дать отпор булгаковщине» и заявляет, что «классовая борьба в театре – это реальность, которую отрицать невозможно»97.
Рассматривая рецепцию творчества Булгакова в 1920–1930‑е годы, приходится писать не о художественной стороне произведений, композиции спектаклей и находках в актерских работах, а об общественно-политических напряжениях. Что волновало, задевало рецензентов, пишущих о театральной премьере? Не «черные усики» Хмелева, женственная притягательность Соколовой или обаятельная инфантильность Яншина. Протест вызывали ноты на рояле, семейный уют и дружественные человеческие привязанности поверх идеологических расхождений. Со знаком плюс виделся в то время разрушенный быт, необжитое жилье, за безбытностью вставало и забвение родственных связей. Государство разрушало человеческие связи, делая каждого беззащитным, одиноким и не могущим противостоять диктату революционной идеи. Задачи государства – пятилетки, индустриализации – отменяли проблемы и сущность частных жизней. Жизнь каждого становилась неважной, превращалась в средство, утрачивала самоценность. Другими словами, политической пьесу делали не события фабулы, но система ценностей автора, конституирующая текст. Образ мира, явленный Булгаковым, притягивал зрителей.
Спустя десять дней после премьеры, когда прошло всего-то три-четыре представления «Турбиных», уже существует некая «булгаковщина», против которой необходимо вести ни много ни мало гражданскую войну. Градус обвинений драматурга все повышается. В. Блюм пишет о «героике белой гвардии» как «зародыше российского фашизма»98. Обвинения автора во всех смертных грехах, вплоть до «фашистских устремлений», были нелепы, но опасны.
Серьезные, страшные обвинения в адрес автора – «фашист», «шовинист», – строго говоря, к реальному значению этих слов отношения не имели. О фашизме в газетах писали с 1923 года – и об итальянском, с Муссолини, и о зарождающемся германском национал-социализме. Что за «фашизм» пугал критиков в нэповской России середины 1920‑х, объяснить вряд ли кто-то мог. Но даже опустошенные, освобожденные от конкретного содержания слова-жупелы имели значение. Они придавали некую зловещую, пугающую окраску фигуре драматурга, чью пьесу могли увидеть только жители Москвы и лишь в одном театре, – а газеты читали во всех городах страны. И обвинения Булгакова в шовинизме (то есть противостоянии провозглашенному СССР пролетарскому интернационализму) многими могли, по-видимому, приниматься на веру.
Работая с обильным газетно-журнальным материалом, невозможно составить представление о спектакле как феномене театрального искусства. Никто из рецензентов не писал ни об актерской игре, ни о режиссерских мизансценах, ни о декорациях и музыкально-шумовом оформлении (за исключением звуков «Интернационала» в финале, которые, по предложению И. Судакова, должны не утихать, а усиливаться) – ключевых элементах зрелища99.
Цель критических выступлений находилась не в описании и анализе художественных удач и промахов спектакля, а лишь в выявлении неверной направленности и этой пьесы, и творчества Булгакова в целом, оцениваемого как не лояльного советской власти.
На этом устрашающем фоне упреки в «интеллигентском мировоззрении», мещанстве выглядели мирно и даже утешительно, – например, когда снисходительно отмечали чрезмерную сосредоточенность актеров на «моментах „интимно-семейных“ переживаний»100. Либо сообщали, что
Идеология «Дней Турбиных» – это типичная идеология старого чеховского мещанина, 100% обывателя. Его символ веры – кремовые шторы и весь уют. Турбины и турбинствующие – пошляки, ненужные люди101.
Удачно найденная Э. Бескиным формула о кремовых шторах как символе пошлости стала расхожей, вошла в анналы. Нерв спектакля был определен и, казалось, обесценен.
Параллельно печатной критической кампании продолжались публичные общественные споры102. Диспуты в связи с «Днями Турбиных» и «Любовью Яровой» продолжались еще в 1928 году, театральная Москва не успокаивалась, критики не умолкали. Многажды выступал Луначарский. Читая доклады, давая интервью и участвуя в диспутах, он кардинальным образом менял оценку пьесы и автора, похоже, что пьеса и спектакль не отпускали его. 4 октября 1926 года, выступая с докладом в Коммунистической академии, он говорил, что пьеса «идеологически не выдержана» и «политически неверна»103. Через три дня, срываясь в грубость, заявлял, что Булгакову нравится «атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля»104.
Как это обычно и происходит, не самые талантливые участники боев за столичные подмостки проявляли творческое начало в изобретении все новых и новых, порой самых неожиданных параллелей и ассоциаций, долженствующих уничтожить конкурента.
Орлинский, который, кажется, не упускал ни одной возможности высказаться, на диспуте сообщил, что «МХАТ, обладающий таким большим мастерством, попадает вместе с пошляком-Булгаковым в лужу»105.
11 октября в Доме печати состоялся «Суд над „Белой гвардией“» – диспут о спектакле «Дни Турбиных». Хроникер писал:
И суд начался! И началась горячая «баня». Главные «банщики» – оппоненты: зав. клубной секцией МК ВКП Орлинский, автор мейерхольдовского «Треста Д. Е.» Подгаецкий, присяжный оратор Дома печати Левидов106. И еще, и еще… Почти все они пришли в полной боевой готовности, вооруженные до зубов цитатами и выписками <…> В «общем и целом» все ораторы, с разных только «концов» и «точек», сошлись на резком осуждении «Дней Турбиных» как пьесы неверной, художественно фальшивой и чужой. <…> Артисты Художественного театра хранили молчание, на требования публики высказаться ответили отказом («не уполномочены, а Константин Сергеевич болен и не мог прийти»)…107
В свидетельствах очевидцев остался еще выкрик из зала некой гражданки, на трибуну не поднимавшейся: «Все люди братья!»
18 октября 1926 года осведомитель сообщает начальнику СО ОГПУ Дерибасу:
Вся интеллигенция Москвы говорит о «Днях Турбиных» и о Булгакове. От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим.
Достать билет в 1 МХАТ на «Дни Турбиных» стало очень трудно. Говорят, что более сильно пошли рабочие, т. к. профсоюзные льготные билеты108.
Пьеса сама по себе ничем бы не выделялась из ряда современных пьес и при нормальном к ней отношении прошла бы как обычная премьера (хочется верить информатору. – В. Г.). Но кому-то понадобилось, чтобы о ней заговорили на заводах, по окраинам, в самой гуще – и вот результат: билета на эту пьесу не достать109.
Досадуя, он противоречит сам себе: начиная с утверждения, что о «Днях Турбиных» говорит «вся интеллигенция», сообщает о небывалом шуме и на рабочих окраинах.
Неспроста молчали несколько дней после премьеры (тут он попросту искажает факты, отклики посыпались на следующий же день. – В. Г.), а потом сразу начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву. Мало того, начали дискуссию в Доме печати, а отчет напечатали по всем газетам. Одним словом, все проведено так организованно, что не подточишь и булавки, а все это – вода на мельницу автора и 1 МХАТа110.
Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса («Зойкина квартира») усиленным темпом готовится в студии им. Вахтангова, а третья («Багровый остров») уже начинает анонсироваться Камерным театром. На основании этого успеха «Моск. Общ. Драм. Писателей» выдало Булгакову колоссальный гонорар <…>
Лицам, бывшим на генеральной репетиции «Дней Турбиных», а потом вместе ужинавшим (! – В. Г.), автор Булгаков в интимной беседе жаловался на «объективные условия», выявившие контрреволюционность пьесы <…>
Около Худож. театра теперь стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на «Дни Турбиных» по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа, весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки «Дней Турбиных». <…>
В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по 4 и 6 часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу. <…> Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением»111.
Под текстом стоит подпись: «Нач. 5 Отд. СО ОГПУ Рутковский»112.
Слухи, кругами расходившиеся по Москве, будут сопровождать Булгакова всю его жизнь.
Дважды повторенная уничижительная оценка пьесы и предположение, что газетная кампания, драматичная и мучительная для Булгакова, была кем-то организована, подталкивают к мысли, что донесение это принадлежит перу литератора-конкурента, который присутствовал и на генеральной репетиции, и на товарищеском ужине после нее (что сужает круг возможных информаторов) и либо был собеседником в той самой «интимной беседе», либо внимательно слушал ее, сидя неподалеку. Но открывшая свои хранилища на какое-то время преемница ОГПУ ФСБ фамилии своих штатных и нештатных секретных сотрудников по-прежнему хранит в тайне.
О Булгакове в эти месяцы высказывались и представители интеллигенции. Например, поэт и литератор, вдохновенная Л. Рейснер113 писала о «Белой гвардии»:
Возможна ли у нас в СССР «справедливая критика»? Конечно, нет! Булгаков написал талантливейшую книгу, но скверную и вредную. Его книга – книга врага, и она не будет признана. Устрялов – замечательный публицист, и Устрялова бьют и будут бить, потому что он враг, потому и опасный, что необыкновенно умный, талантливый. Со всеми ими наша критика ведет гражданскую войну, т. е. самую беспощадную изо всех войн. Когда не хватает пушек, бьют дубинами114.
Среди зрителей Москвы середины 1920‑х, можно предположить, было немало тех, кто прошел через пусть не тот же самый, но схожий с тем, который встал перед героями «Дней Турбиных», выбор. Принять случившееся как новую данность? Эмигрировать в неизвестность чужой страны, утратив профессию, – либо остаться среди новой и, похоже, неприветливой неизвестности дома. Прежняя устоявшаяся жизнь сломана, исчезли и многие привычные места службы. Нужно налаживать новые связи, устраивать быт. Не каждый склонен к рефлексии и способен ясно видеть происходящее. Театр оказался местом силы, нравственной поддержки и надежды.
Здесь человек понимал, что он не одинок, что подобную сумятицу мыслей и чувств переживали многие, что они выжили – и вот собрались у рождественской елки. Что можно жить дальше, опираясь на прежние ценности: дружбу, любовь, порядочность. Один из критиков был точен, когда писал, что социальный смысл «Белой гвардии» «в консолидации вокруг произведения всех мещанских настроений – примирения, общечеловеческой любви и проч.»115.
И именно в эти точки били агрессивные рецензенты. Обвинения свидетельствовали, по-видимому, о существенных напряжениях внутри страны и власти. Как можно было увидеть вражду к «коммунистическим идеалам рабочего класса» в пьесе, где не было речи ни о рабочих, ни об их идеалах? Кому была страшна «белогвардейщина» в 1926 году? О каком «фашизме» можно было рассуждать в связи с Турбиными? Еще того нелепее выглядело сравнение литераторов, испытывающих влияние драматурга, появившееся тремя годами позднее, с «подкулачниками». Зловещую параллель проводил В. Киршон: «Если в деревне, кроме кулаков, имеются подкулачники, то в искусстве, кроме Булгаковых <…> имеются подбулгачники»116. Обвиняла сама форма слова.
25 октября И. Нусинов в стенах Комакадемии (на секции литературы и искусства) читает доклад о творчестве Булгакова, в котором не слишком удачно формулирует упрек тем, кому булгаковские вещи нравятся: «фальшивой репутацией является прославление Булгакова»117.
Еще одним толчком к массовому срыву критики в ругательства станет афиша Художественного театра, появившаяся накануне премьеры «Дней Турбиных» и поместившая пьесу Булгакова среди сочинений Эсхила, Бомарше, Шекспира и Сухово-Кобылина. Зрительский бесспорный успех плеснул масла в огонь. Быстро вспыхнувшая известность Булгакова-драматурга задела многих причастных к литературе знакомцев. Дм. Стонов писал Ю. Слезкину 8 октября 1926 года:
Думаю, что «московские новости» тебя еще интересуют, разреши оторвать тебя на несколько минут от работы. В центре событий – пьеса Булгакова «Дни Турбиных». Ее разрешили только в Художеств[енном], только в Москве, и то – говорят – скоро снимут. Пресса ругает (Луначарский и др.), но и публика не хвалит. Прав был ты, прав: Бул. – мещанин и по-мещански подошел к событиям118.
Редкие голоса защитников спектакля терялись в многоголосом хоре осуждающих и автора, и театр. Но все же они были. Так, один из зрителей напоминал: «…критика забыла, что пьеса поставлена на пороге 10‑й годовщины Октябрьской революции, что теперь совершенно безопасно показать зрителю живых людей…»119, а Л. Сейфуллина говорила об авторе «Дней Турбиных» как о человеке, «честно взявшем на себя задачу описания врага без передержек»120. А. Пиотровский увидел в спектакле
рост основного театра, его прямое и непосредственное, руководимое Станиславским продолжение. И эта молодая труппа показала превосходную одаренность и отличный, чисто мхатовский и в то же время свежий, сильный и жизненный стиль. «Дни Турбиных» выдвигают малую сцену первого МХАТ в ряд прекраснейших молодых трупп Москвы121.
Страсти не успокаивались, и через четыре месяца спор о «Днях Турбиных» был продолжен еще на одном диспуте – в Театре имени Мейерхольда, где выступил и автор. Только теперь МХАТ ответил на нападки, защитив и автора, и спектакль. Заведующий литературной частью МХАТа П. А. Марков, по чьей инициативе и произошло знакомство «художественников» с молодым прозаиком, говорил о самых важных, принципиальных вещах. На фоне громких обвинений его мысли, видимо, показались не слишком существенными и, похоже, никого из нападавших не смогли переубедить.
Все обставлено так, чтобы можно было посмотреть в лицо человека, – говорил Марков. – Тут есть трагедия людей, есть мрак, который покрывает их за этими кремовыми занавесками, в эту суровую эпоху. <…> Тут-то и заключено самое важное для Художественного театра: раскрытие внутренних судеб человека и через это внутреннее раскрытие человека ход к эпохе…122
«Трагедия людей и раскрытие внутренних судеб человека» были именно теми темами, которые волновали многих в ситуации исторического перелома. И кроме бдительных коллег, сотрудников ОГПУ и прочих представителей идеологического слежения и контроля, существовали еще и зрители!
Именно на этом диспуте Луначарский отыщет точные слова, верность которых будет подтверждена временем: «„Турбины“ были первой политической пьесой на нашем горизонте, которая ставила серьезно социально-политические проблемы»123. Не только о внутренних судьбах частного человека, но и о направлении развития страны рассказывал «домашний», «семейный» спектакль Художественного театра – вот что было высказано наркомом.
Трудности при выпуске спектакля, слухи о которых мгновенно разлетелись по Москве, привлекли внимание и широкой публики. Возмутителем театрального спокойствия был не неизвестный автор, а уже начавший обретать художественный успех литератор с определенной идеологической физиономией.
Отзывов восхищенных и понимающих было немало, но они скрывались в переписке друзей, домашних обсуждениях, дневниковых записях и по большей части оставались Булгакову неизвестными. Как, например, дневник образованного милиционера Гаврилова, дежурившего на вечерних представлениях Художественного театра и ведущего записи своих театральных впечатлений.
Гаврилов смотрел «Дни Турбиных» более сотни раз, иногда ему приходилось выстаивать спектакль на ногах (когда появлялись важные гости, он уступал свое место в 3‑м ряду амфитеатра). После сорока просмотров, выучив звучащий текст спектакля наизусть, он записал его для себя, создав аналог самиздатского экземпляра (пьеса будет опубликована лишь спустя 30 лет). Не раз и не два Гаврилов сообщает о случаях истерик в зрительном зале, связывая их с хорошей игрой (спектакль шел неровно, вводились новые исполнители, исподволь менялся рисунок мизансцен и проч.). О многом сообщает историку театра и такая запись:
Как слышно из разговоров в публике, «Бронепоезд» смотрят обычно по одному разу, а «Дни Турбиных» даже по 6 раз и более; один гражданин видел «Дни Турбиных» более 20 раз, и все за плату124.
Но вернемся к перипетиям вокруг «Дней Турбиных», связанных, в том числе, и с финансовым положением театров.
К удаче современного исследователя, в решающие сентябрьские дни перед выпуском спектакля Вл. И. Немирович-Данченко находился за границей, и О. С. Бокшанская отправляла ему длинные, наполненные деталями и оценками как внутритеатрального, так и более широкого контекста, письма-отчеты.
Так, 10 сентября 1926 года, мельком сообщая, что не высылает текста «Дней Турбиных», так как он все еще не утвержден, – писала:
При этом все условия – и вообще, и в театре – сильно изменились за год. Сейчас нельзя говорить, нельзя заикаться ни о каких дотациях, ни о каких субсидиях. Сейчас могут говорить только те коллективы, которые себя окупают. Это правда, это верно, это непреложно. И при всем великолепном отношении сверху к Художественному театру никто из них не думает, что это отношение должно выражаться в какой-то реальной материальной помощи, в каких-то послаблениях. Жизнь теперь стала на строго деловую линию125.
Что же до новостей в связи с готовящимся спектаклем, то О. С. Бокшанская, человек театра до мозга костей, в очередном послании сообщала, что вокруг «Дней Турбиных»
развернулись страсти. По поводу этой пьесы происходят диспуты, кто-кто только не говорит о ней. Все это создало нам громадную рекламу. Пьеса делает аншлаги подряд…126
Она же, 20 октября:
С «Турбиными» все так же: идет травля в газетах и журналах, и одновременно идет такой спрос на места, что всегда множество людей отходит от кассы ни с чем – все билеты проданы <…> В виде самой большой милости теперь можно выпросить места «постоять».
И тут же:
Самый больной и ужасный вопрос у нас – наше безденежье. Театр весь в долгу. По векселям долгу около 100 000, и все векселя срочные до 1 января127.
В скобках замечу: в день генеральной репетиции «Ревизора» в Театре имени Мейерхольда, на которой был и Булгаков, несколько упал сбор на «Днях Турбиных» – театралы смотрели мейерхольдовскую премьеру.
2 ноября Бокшанская сообщает Немировичу, что «пьеса эта дает громадные сборы. При объявленных на нее несколько повышенных ценах (выделено мной. – В. Г.) она делает в вечер не менее 4000 р.128 Лучшие спектакли Художественного в эти недели на круг, за вечер приносят 2600, 2800 рублей»129.
Когда-то в разговоре со мной П. А. Марков на вопрос, кто принял спектакль, ответил: «Все». – «Кто не принял?» – «Все»130.
Тогда ответ показался не совсем ясным. Теперь понятно, что хотел донести до собеседника мудрый современник Булгакова. «Все, кто не принял» – те, кто имел вес в публичном поле и был противником драматурга. «Все, кто принял» – те, кто ходил на спектакль еще и еще, но не имел права голоса в печати, а таких было в Москве множество.
Любопытно, что в прессе звучали предположения, что герой «Турбиных» непременно станет и героем фильмов. Предвосхищая это и видя отражение черт Алексея Турбина в герое фильма «Сорок первый» (реж. Я. Протазанов по одноименной повести Б. Лавренева), В. Ашмарин писал, что спектакль «Дни Турбиных» – это «сменовеховский плевок» на «горячий утюг революции»131.
В ноябре 1926 года после двадцати аншлагов на «Турбиных» впервые в кассе случился недобор в полторы сотни рублей. «Ясно, что недобор может получиться только от непродажи первых мест (по 7 р.), т. к. в Москве немного людей, которые могут выбросить на билеты такие деньги. Дешевые же билеты раскупаются с бою»132, – свидетельствует О. С. Бокшанская.
Кто же покупал дешевые билеты? Уж, наверное, не нэпманы. Тема отношения рабочего зрителя к спектаклю Художественного театра заслуживает отдельного разбора.
Несмотря на утверждения, звучавшие с трибун диспутов, что «рабочему это не нужно» и что рабочему Турбины не просто неинтересны, но даже враждебны (как в статье «В Камергерском переулке. Дела и люди Художественного театра: повернется ли 1‑й МХАТ лицом к рабочему зрителю?», в которой неизвестный автор утверждал, что МХАТ ставит «чуждые», «упаднические», «далекие и неинтересные рабочему зрителю пьесы, например „Дни Турбиных“»133), ряд свидетельств говорит об обратном.
Так, Старостин, секретарь культкомиссии Прохоровской Трехгорной мануфактуры, возмущен тем, что в то время как интерес рабочего зрителя к спектаклю «Дни Турбиных» «все возрастает <…> удовлетворение спроса прогрессивно падает»134. А М. Анчарова сообщает о мнении заведующего центральной распределительной кассой льготных билетов Петрова о необходимости «принудительного ассортимента»: «Если стадное чувство заставляет рабочего тянуться на <…> „Дни Турбиных“, то я считаю нужным заставить его пойти и к Мейерхольду…»135
Вопреки утверждениям, что спектакль был адресован исключительно «бывшим людям», остаткам буржуазии и заблудившимся в идеологии интеллигентам, рабочие хотели видеть этот спектакль. Не случайно перед гастролями МХАТа в Ленинграде в 1928 году проходит общегородское собрание театральных рабкоров, которое выносит постановление о включении «Дней Турбиных» в гастрольную афишу136. Дело в том, что пьеса по-прежнему разрешена одному лишь МХАТу, к показу только в Москве, и вывоз ее за границы столицы требует специальных решений.
Добиться билета на «Дни Турбиных» с обычной профсоюзной скидкой – задача почти неразрешимая, – возмущались в журнале «Программы государственных академических театров». – При трех-четырех спектаклях в неделю в течение двух месяцев (январь – февраль) на эти спектакли было выделено только 1620 мест.
Далее, будто спохватившись и резко меняя логику рассуждения, автор заметки продолжал:
Богуславский Михаил Соломонович (1886–1937), революционер, партийный деятель, член РСДРП с 1917 г. В 1922–1924 гг. – зампредседателя Моссовета, с 1924 по 1927 г. – председатель малого Совнаркома. С 1923 г. – в левой оппозиции. В 1936 г. арестован по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра». Расстрелян на следующий день после вынесения приговора. Репрессирована вся его семья: два брата, жена, сын и дочь. В 1987 г. реабилитирован.
Кнорин (Кнориньш) Вильгельм Германович (1890–1938), в 1926–1927 гг. – заведующий Агитпропом ЦК ВКП(б). В 1937 г. арестован, в 1938‑м расстрелян. В 1955 г. реабилитирован.
Речь идет о новых типажах послереволюционной российской действительности: «советчике», то есть гражданском лице сельсовета или облсовета, и недавнем краскоме, «кожаном», которого «квачом да щетками вымазывают. Как есть к Сатаниилу собирается».
Вдумчивая Секлетея размышляет вслух: советчики – «каждый на метлу похож. Пиджаки на них бабьими юбками висят. И совсем они, кажись, не телесные. Тошнота одна». Меропа соглашается: «И состоятельности в них тож никакой – пролетария, одно слово» (Чижевский Д. Сиволапинская. Цит. по: Гудкова В. В. Рождение советских сюжетов: типология отечественной драматургии 1920–1930‑х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 52–53).