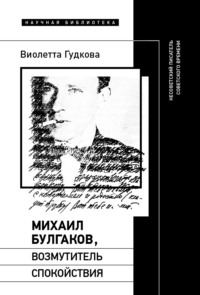Kitabı oxu: «Михаил Булгаков, возмутитель спокойствия. Несоветский писатель советского времени», səhifə 4
Кстати, необходимо отметить, что МХАТ-1 в своем хозрасчетном увлечении чересчур часто (четыре раза в неделю) ставит «Дни Турбиных», «Пугачевщина» совсем снята с репертуара, «Декабристы» крайне редко появляются, да и весь репертуар как-то скомкан во славу «Турбиных». Даже «Любовь Яровая», этот боевой спектакль сезона, ставится реже, чем «Турбины»137.
О булгаковских спектаклях то и дело вспоминали в связи с иными премьерами, неустанно проводя параллели. Выразительное и о многом говорящее описание стычки с критиком после спектакля «Любовь Яровая» (ленинградский Большой драматический театр, реж. Б. М. Дмоховский) оставил автор журнала «Рабочий и театр»:
В «кулуарах», вернее, в коридорах в день премьеры горячие споры.
Прижали критика к стене и пытают.
– Вы говорили, что это Тренев с поправкой на Булгакова!!
– Никогда не говорил!
– Как же – сам слышал!
– Злостная инсинуация.
– Значит, не вы? Кто же это мог сказать?
Критик смылся. <…>
Белые. Вот, только что, всерьез, при полном освещении показали парад, манифестацию. Передернуло. Любование белыми. Ставка на внушительность и величественность.
И вот другая постановка. <…> Вместо врага – живгазетные, смешные фигуры.
Что же это? Ведь нельзя же, право, при рассматривании «белой половины» оглядываться на Булгакова, да и нельзя перегибать палку и делать врагов смешными и неубедительными138.
За сезон 1926/1927 года спектакль посмотрело 113 409 зрителей139, аншлаги продолжались и тогда, когда число представлений перевалило за сотню. А. Глебов сокрушенно объяснял популярность «Дней Турбиных» тем, что «публика всех классовых категорий тянется к современности»140. По-видимому, «Дни Турбиных» завоевывали все большее число сторонников, по-прежнему не имеющих доступа в печать.
17 декабря 1926 года главный администратор МХАТ Ф. Михальский получает письмо от уполномоченного по театральным делам ТАСС:
Постановка «Дней Турбиных» вызвала большой шум в московском театральном и художественном мире. Поднялась целая дискуссия, следует ли советскому театру ставить такую пьесу, где некоторые белогвардейцы выведены в слишком идеализированном виде. То, что «Дни Турбиных» идут почти беспрерывно в течение нескольких месяцев, доказывает, что вопрос решен в положительном смысле.
И вполне правильно. Для нас было бы мало чести, если бы вся наша победа сводилась лишь к победе над пьяной оравой белогвардейцев, среди которых не было бы некоторой части более достойных противников.
Ничего антисоветского в пьесе, конечно, нет…141
Когда полвека назад, на исходе 1960‑х, началось изучение творчества Булгакова, фигуры его критиков вызывали общее возмущение, и только. Агрессивные, не слишком талантливые, те, кто регулярно выступал в печати, влияя на умы, стремясь сделать свою точку зрения единой для всех. Пришло время обсудить серьезность позиции противников спектакля и попытаться ощутить искренность либо фальшь упреков людей, писавших о «гражданской войне», «белогвардейщине» и неприятии «рабочего класса и его коммунистических идеалов», «шовинизме» и «фашизме», а еще и «пошлости», «мещанстве» и художественной ничтожности пьесы.
Взаимоотношения Булгакова и современной ему критики дают основания утверждать, что писатель был внимательно прочитан и прекрасно понят современниками – но пошел вразрез с теми, кто оказался готовым расстаться с ответственностью личности за путь и судьбу страны и собственные поступки, кто воспринял как правильное, «полезное», нужное – наступающее единомыслие писательского «коллективного хозяйства». И дело было не в отдельных «преступных личностях», а в движении общества к диктатуре сталинщины. Именно противники булгаковского творчества – с той зоркостью, которая порой рождается враждебностью, – делали достоянием общественности, договаривая, переводя с языка художественных образов на не допускающий разночтений и двусмысленностей понятийный язык – сущность, телеологию, да и особенности поэтики произведения писателя.
Множество недалеких людей пытались поймать миг удачи, напав на слабого, назначенного виновным. Затравив одну жертву, переходили к следующей до тех пор, пока неожиданно для себя сами не оказывались ею.
Сегодня полезно всмотреться и в эти судьбы. Сказать о том, что многие из них попали под тот же каток репрессий, который сами же и организовывали несколькими годами раньше. А. Орлинский и В. Киршон, Р. Пикель и Мих. Левидов, Ф. Раскольников и молодой следователь С. Г. Гендин, допрашивавший Булгакова накануне премьеры, – все они десятилетием позднее были убиты той самой властью, за которую они сражались, с Булгаковым в том числе. И список этот может быть продолжен.
Многие из них начинали свой путь в юности как революционеры, проходили через университетские волнения и сходки, распространение прокламаций, ссылки, революции марта и октября. Рано вступали в партию, свято верили в идеалы большевизма и не просто занимали посты, а истово служили идее революции. Как правило, не слишком образованные, они шли в фарватере главенствующих идей эпохи. Кому-то удалось прозреть раньше, чем оказаться брошенным в топку, кто-то так и ушел, не осознав причин собственной гибели.
Их слова писались и печатались, начиная жить отдельной жизнью, создавая вторую реальность, и пьесу вместе с ее автором накрывала мрачная пелена злоумышленного, преступного деяния. Обвинения порой были абсурдными, но их последствия – вполне практическими. «Классовая борьба в театре – это реальность, которую отрицать невозможно»142, – настаивала журнальная передовица.
Обвиняли Булгакова и в сменовеховстве143. Вряд ли Булгаков с этим согласился бы, судя по его репликам на страницах дневника в адрес Василевского Не-Буквы, Бобрищева-Пушкина и других и горьким мыслям об их человеческих качествах и собственной участи144.
Здесь уместно вспомнить об истории с запрещением пьесы не столь талантливого, но плодовитого автора, нечаянно угодившего в болевой нерв времени.
В мае 1922 года на сцене московского Теревсата (Театра революционной сатиры) прошла премьера пьесы Т. Майской «Россия № 2»145.
Спектакль о том, что стране нужно дружелюбно встретить своих граждан, эмигрировавших после революции, но теперь одумавшихся, прозревших и искренне стремящихся возвратиться, чтобы начать работать на благо родины, имел шумный успех. Автора несколько раз вызывали на поклоны, зрители хлопали, тем же вечером появилась рецензия в «Вечерних известиях», затем в «Правде», «Известиях ВЦИК», «Рабочей Москве».
Самым щедрым на похвалы оказался критик «Известий ВЦИК»:
Сюжет анекдотичен, – отмечал он. – Но анекдот дал возможность автору нарисовать уголок эмигрантской жизни. <…> В пьесе много от сменовеховства, от милюковщины, от Бурцева. <…> Было не скучно, а все виды искусства хороши, кроме скучного. <…> У подавляющего большинства пьеса имела безусловный успех. Надо отдать справедливость автору: некоторые роли написаны – в том числе роль главной героини – очень удачно. Старые театралы знают, что хорошо написанные роли – хорошая пенсия автору. Хорошая роль – это долгий век пьесе. В этом смысле надо с уверенностью предсказать и пьесе Т. Майской долгую жизнь. <…> Автора дружно вызывали и кричали «Спасибо!»
Хвалебный отзыв внезапно обрывался посткриптумом:
По распоряжению политсовета, последовавшему сегодня, пьеса Т. Майской снимается с репертуара и театр Теревсат закрывается. Жаль!146
На следующий же день спектакль был снят, а сам театр закрыт.
Театральным успехом власти не то что с легкостью пренебрегли – скорее, именно этот безоговорочный успех и подтолкнул к решительному шагу.
Что же их испугало?
«Милюковщина» пьесы, по формуле рецензента, отсылавшая к позиции П. Н. Милюкова147, одного из недавних министров Временного правительства, основателя партии кадетов, и упоминание имени еще одного известного эмигранта, яркого публициста В. Л. Бурцева148, уточняли причины отторжения властями, казалось бы, безобидной пьесы Т. А. Майской. Оба политика, и Милюков, и Бурцев, не скрывая морального неприятия большевизма, призывали соотечественников «убить в себе психологию гражданской войны»149.
Мелодраматические перипетии пьесы и впрямь происходили с субъективно искренними, любящими Родину «хорошими людьми».
Обнищавшие молодые люди дворянского происхождения Елена Аргутинская (Лолот), ее кузен Николай (Коко) и жених Георгий Алмазов иронизировали по поводу остающихся в Париже генералов и промышленников, мечтали работать в новой России. Не случайно речь одного из персонажей Николая изобиловала пословицами и поговорками – автор акцентировал бесспорную «русскость» героев, их органическую близость родине. В фабуле «России № 2» причудливо соединялись элементы любовной мелодрамы ушедшего века с остроактуальной идеей примирения эмиграции и новой России.
Рецензент «Правды» писал:
«Россия № 2», поставленная в театре революционной сатиры, произвела на меня впечатление не революционное. Ее политический пафос <…> «от лукавого», от сменовеховства. Ее политический лейтмотив: «Ленин поправеет, мы (белая эмиграция) – полевеем». И эта идеология возведена здесь в перл создания. <…> А «самый умный» (из героев. – В. Г.) развязно балансирует на ходулях некоего «скепсиса» – и по адресу белых, и по адресу красных, хорошо знакомая претенциозная поза обанкротившегося интеллигента.
В результате крайне соблазнительно, чтобы не сказать контрреволюционно, звучали обильно рассыпанные в пьесе шуточки, остроты и «бонмоты» на темы революции и революционного быта.
Пьеса безусловно не наша. Пьеса – нэпмана: характерно, что среди персонажей нет ни одного представителя промышленного капитала: буржуазию автор как будто намеренно «щадит».
Но и этот строгий критик подтверждал:
Пьеса имела совершенно исключительный успех – с требованиями «Автора на сцену!», с криками «Спасибо!», с речью автора. И так принимала пьесу публика высокой революционной квалификации – едва ли не ползала, заполнившие зал военные курсанты и комсомольцы. <…> Политический Совет Теревсата был совершенно прав, сняв эту «чужую» пьесу с репертуара. <…> Но почему «кстати» закрыт и Теревсат – непонятно. Почему сразу «высшая мера наказания»?150
По-видимому, именно потому, что «публика высокой революционной квалификации» – военные курсанты и комсомольцы, то есть отборные, «самые передовые» и политически грамотные молодые люди Страны Советов – с готовностью отозвалась на мысли Майской о необходимости примирения с русской эмиграцией и включения ее в общую созидательную работу. Возможно, именно это обстоятельство – специфичность отобранного зрительного зала, поддержавшего призыв к дружелюбию и прощению соотечественников, – и привело к молниеносному запрещению спектакля.
О новой общественной ситуации в стране размышляли и недавние эмигранты. Вл. Ходасевич в письме к М. Карповичу писал, что «влияние московских сфер на зачинателей возвращенчества имело целью не действительное возвращение их в Россию, а лишь смуту в умах и сердцах эмиграции». И утверждал: «РСФСР 1922 года и эпохи „военного коммунизма“ – либеральнейшая страна в сравнении с СССР 1926 года», в которой «напрочь отсутствует общественность и торжествует всеобщее подличанье…»151
Запрещенная в столице, пьеса много шла по провинции – такова была практика тех лет. «Россию № 2» посмотрели зрители драматических театров Баку, Екатеринбурга, Казани, Театра музыкальной комедии Петрограда и проч. Но в 1927 году ее вновь запретили, и автор, пытаясь возвратить пьесу на сцену, обратился в Главрепертком с заявлением:
Узнав о том, что моя пьеса «Россия № 2», комедия-буфф в 3‑х действиях, впервые поставленная в Москве в театре Революционной Сатиры в 1922 г. и шедшая с тех пор во многих городах РСФСР, теперь запрещена к представлению на сцене, прошу вновь рассмотреть этот вопрос, тем более что в Репертуарном комитете не имеется ни одного экземпляра пьесы, а запрещение ее последовало по впечатлению от постановки (1922 г.), что не всегда отвечает замыслам автора.
Предлагаю экземпляр пьесы, разрешенной к постановке Военно-Политической цензурой и Политконтролем ГПУ от 16/VI 22 г. и 21/VI 22 г. и от 25/VII 1922 г. за № 759 и соответствующими печатями и подписями.
К вышеизложенному должно прибавить, что после снятия пьесы «Россия № 2» с репертуара Художественным отделом МОНО был назначен закрытый просмотр пьесы в присутствии Театрального совета и представителей Губполитпросвета, ОГПУ и других заинтересованных организаций, после чего пьеса была вновь разрешена к постановке (без всяких изъятий – безусловно) и, как значится на постановлении: «К постановке в театрах может быть допущена и даже желательна».
Ввиду вышеизложенных обстоятельств прошу вновь рассмотреть пьесу и разрешить ее к постановке. Татьяна Майская152.
Положительная резолюция («Разрешена военно-политической цензурой МГ ОГПУ» 16.VI.22 года [А. Луначарский]) была сопровождена отзывом замначполитконтроля ГПУ Медведева от 25 июля 1922 года: «К представлению пьеса „Россия № 2“ Т. Майской разрешается, и препятствий к тому со стороны Политконтроля ГПУ не встречается»153.
Но в 1927 году прежнее решение не представляется верным, и, истребовав с автора плату «за просмотр и гербовый сбор», политредактор ГРК пишет:
Почти все показанные в пьесе герои <…> мечтают о России, презирают эмигрантов с их политическими планами монархической реставрации. Наконец, они направляются в Россию. Муж арендует завод, а все прочие приезжают к нему в гости. При этом эмигранты эти из породы «ничему не научившихся». Как только они попадают в Россию, так начинается брюзжание на новые порядки, обывательское зубоскальство по поводу бытовых особенностей советского строя. <…> Все они ничего не умеют делать. Понять Россию не могут. Перемениться – тоже. По приезде в Россию – они остаются теми же парижскими хлыщами.
Единственный мотив, который их влечет в Россию, – это березки, «каких нет в Италии», да воспоминание о туго заплетенной косичке девочки «в деревне у бабушки». А политическое отношение по-прежнему одно и то же. Мотивы притяжения к России оправдывают этих героев «по человечеству» и оставляют тем самым действенным и их недовольство, и их зубоскальство по адресу сов. власти и сов. общественности.
Кроме этого, и сами герои, и автор глубоко убеждены, что Россия нуждается в каждом лишнем работнике, человеке, даже таком, как они. Едут они в Россию с полной уверенностью в то, что они здесь нужны, что Россия без них не обойдется. Это интеллигентское хамочванство и устранение из пьесы мотива раскаяния эмигрантов – решительно бросается в глаза как вывод. <…> Никаких оснований тащить на сцену эту смесь булгаковской идеологии («ошибка хороших людей») с изобразительными средствами Лидии Чарской <…> – нет154.
Далее следует лаконичное резюме политредактора ГРК: «Пьеса сменовеховская. Запретить».
Драматургический дебют уже известного в Москве литератора резко переменил направленность и лексику критических откликов. Рецензенты пишут не о следовании Булгакова классическим традициям, а о его политическом лице, сменовеховстве и контрреволюционности пьесы, «хамочванстве»155 интеллигенции.
«Хамская чванливость», увиденная в интеллигенте (и преобразованная в уродливое слово «хамочванство»), проявляла и оскорбленность необразованного, и душевную сухость, и, может быть, прежде всего, – неумение и нежелание различать не одни лишь черно-белые краски, а неистребимое разноцветье жизни. Собственная агрессивность трансформировалась во враждебность, которую (как казалось противникам и ругателям «Турбиных») источали невинные «кремовые шторы» спектакля.
Обвинения в мещанстве и пошлости были упреками в склонности человека к частной, приватной жизни, утаенной от государства и не подчиняющейся ему. Это были обвинения в стремлении к личной свободе. Выраженные порой неуклюжими до комичности фразами, они тем не менее сообщали об узловых проблемах страны, ее движении к тотальному диктату – и упорном тихом сопротивлении «лукавого» народа.
История с запрещением пьесы Т. Майской была много серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. «Теревсат неожиданно подхватывал тему о бессмыслице „братоубийственной смуты“, т. е. гражданской войны, осуждал гордыню, вражду, мстительные чувства»156, – писал исследователь позднего времени. В спектакле пробивались мотивы будущей булгаковской «Белой гвардии» с ее поразительной для 1922 года фразой, обращенной и к белым, и к красным: «Все вы у меня в поле брани убиенные».
Для сравнения приведем пример того, что предлагалось другими авторами пьес в начале 1920‑х.
Д. Синявский, автор пьесы «Добрый черт», в пространной ремарке, заключающей текст, писал:
Зритель освобождается от впечатления действий на сцене, только попадая на улицу.
В коридоре, фойе и раздевальне порядок соблюдается рабочими с револьверами и винтовками… Валяется труп убитого казака… Трупы казаков в вестибюле. Внизу при выходе <…> сделана баррикада, пулемет направлен дулом к выходящей публике.
Режиссер должен поставить в толпе выходящих сценки, характерные для <…> времени. Кого-нибудь арестовывают, обыскивают157.
Именно подобным предложениям отвечал Булгаков, когда в беседе с другом говорил:
А я бы мечтал завести в драматических театрах оркестр, играющий во время антракта, как было в старой провинции. Усатый капельмейстер помахивает палочкой и, поглядывая то и дело в партер, раскланивается со знакомыми.
Либо:
Отлично, когда занавес не раздвигается, а поднимается вверх, а на занавесе написаны порхающие купидоны158.
«Порхающие купидоны» вызывающе противостояли арестам в толпе – вот что означали будто бы «консервативно-мещанские» реплики Булгакова. И во мхатовском спектакле ухаживали за Еленой, дарили ей цветы, пытались поддержать, согреть друг друга. В «Днях Турбиных» топили ванную, ставили самовар, пили вино и играли на рояле…
Миролюбие и стремление людей к объединению и прощению отвергались властями, насаждавшими и поддерживавшими вражду и злобу. Так, Орлинский был возмущен тем, что спектакль МХАТ «Дни Турбиных» «содействует эмоциональному примирению зрителей с героями»159.
13 января 1927 года осведомитель сообщал:
По полученным сведениям, драматург Булгаков <…> на днях рассказывал известному писателю Смидовичу-Вересаеву следующее (об этом говорят в московских литературных кругах), что его вызвали в ОГПУ на Лубянку и, расспросив его о социальном положении, спросили, почему он не пишет о рабочих. Булгаков ответил, что он интеллигент и не знает их жизни. Затем его спросили подобным образом о крестьянах. Он ответил то же самое. Во все время разговора ему казалось, что сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить.
В заключение ему было заявлено, что если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы. «Когда я вышел из ГПУ, то видел, что за мной идут».
Передавая этот разговор, писатель Смидович заявил: «Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: „ничего“, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку».
Таково настроение литературных кругов.
Сведения точные. Получены от осведома160.
Запись беседы двух литераторов объясняет, что шокирующая сегодняшнего читателя ремарка пьесы Д. Синявского («кого-нибудь арестовывают, обыскивают»), по-видимому, воспринималась как реальная и обыденная возможность.
В 1927 году, в преддверии идеологического совещания при Агитпропе, вокруг произведений Булгакова и их восприятия читающей публикой разыгрывается любопытная критическая драка, вышедшая далеко за пределы чисто литературных разногласий.
Дискуссия начата статьей В. Правдухина «Литература сигнализирует». Размышляя над изменениями в умонастроениях, он прочерчивает путь новой литературы:
Наша советская литература, рожденная в бурях 1917 года, шедшая долгое время по живым следам революции, была до краев опьянена радостным ощущением героической борьбы с обветшалым миром.
Оптимизм нашей литературы был подлинным и казался несокрушимым. Думалось, что его хватит на длительный исторический период.
За последние годы и особенно за последний год это настроение бодрости и революционного опьянения спало, снизилось.
Ноты бодрости и общественного радования плохо удаются нашим писателям. И наоборот, очень знаменательно – М. Булгаков стал одним из популярных беллетристов именно благодаря своему скепсису.
Булгаков – упадочный писатель в том смысле, в каком им был А. Чехов. Едва ли он по существу «контрреволюционен». Поскольку ему талантливо удается показать «антисоветских» людей, он делает небесполезную работу познания действительности161.
Статью В. Правдухина сопровождает «звездочка» с редакционным уведомлением: статья печатается в дискуссионном порядке. Подобное сообщение означало осторожное дистанцирование редакции от публикуемого текста, а также – предположение, что данным тезисам будет дан отпор.
Эволюция литературных настроений описана Правдухиным внятно и с редкой критической чуткостью. От пылкого энтузиазма – к сомнениям, от уверенности к скепсису, от простоты и непреложности предначертанных лозунгов общественного развития – к трезвому вглядыванию в реальное положение вещей.
Правдухину ответил Г. Горбачев.
Он начал статью энергично и весьма решительно, договаривая за оппонента начатые тем рассуждения:
Если бы «литература сигнализировала» так, как толкует ее сигналы Правдухин, дело было бы скверно. Как ни вертись, а пришлось бы признать, что правеет страна, что не к «бесклассовому обществу» функционирует (эволюционирует? – В. Г.) наша общественность, хотя бы и более сложными путями, чем казалось это В. Правдухину в блаженные дни пильняковской гегемонии, т. е. в 1922–1923 годах, но что мы переживаем эпоху упадка и реакции, что налицо распад общественных групп162.
Проблема названа, ситуация обозначена жестко. Теперь задача состоит в том, чтобы доказать ошибочность столь серьезных предположений.
В своей статье Правдухин в качестве подтверждающих его суждения примеров разбирает, в частности, поэму А. Безыменского «Феликс» и роман Ф. Гладкова «Цемент». Г. Горбачев возмущен:
В. Правдухин <…> искажает перспективу… по существу хочет сказать, что в нашей литературе все общественно-актуальные по теме и пафосу, все пролетарские и революционные произведения натянуты, ходульны и неубедительны.
Правдухин берет для доказательства этого положения из большой поэмы Безыменского «Феликс» – строчки, понятные лишь на фоне поэмы, как своеобразный припев – вывод, искажает их явно издевательски и кричит о литературном неприличии бодрых мотивов поэмы, в которой есть сильнейшие по художественной силе места (Дзержинский в Ч. К., Дзержинский в автомобиле, Дзержинский, едущий на отдых на юг).
Передергивая и не затрудняя себя аргументами, Горбачев отметает оценки оппонентом литературных вещей и ситуации в целом, а затем переходит к утверждению, что «раньше было еще хуже»:
И в те времена правдухинского благополучия <…> Зощенко описал <…> сплошные свиные хари, а Эренбург – распад компартии. И этот самый Эренбург со своими не менее «скептическими», чем «Дьяволиада», – «Николаем Курбовым», «Трестом Д. Е.» и «Хулио Хуренито» был не менее, а более у известной части читателей популярен, чем ныне Булгаков…163
На миг отвлечемся от спорящих. Итак, упомянуты сатирики Зощенко и Булгаков с его сатирической «Дьяволиадой» – и в том же самом номере газеты читаем: «У эпохи нашей большая нужда в своем Гоголе… Без сомнения, эпоха наша все же рано или поздно создаст своего Гоголя». Между тем «свои Гоголи» уже здесь – именно их громят на соседней полосе.
Г. Горбачева поддерживает Т. Рокотов:
«Литературное преступление», «словесная импотенция», – честит творчество Безыменского его строгий критик. А наряду с этим – легкий переход к М. Булгакову, «одному из самых популярных беллетристов». И сразу другой тон, другие мысли, образы и сравнения… Сравните тон и отношение к пролетарским писателям и к такому явному идеологу чаяний новой буржуазии, как Булгаков. Там критика, граничащая с пасквилем, здесь – трогательные кавычки, в которые взяты антисоветские герои булгаковских произведений164, —
уличает Рокотов Правдухина в симпатии к писателю. Задевает и дистанция, демонстрируемая Правдухиным в тех кавычках, которыми он снабжает эпитеты «контрреволюционный» и «антисоветский».
Правдухин оказывается в трудном положении, возможно, грозящем и оргвыводами, так как речь от проблем литературного процесса перешла в плоскость идеологическую. Теперь свой ответ (заметим, вновь печатающийся с подзаголовком «В порядке обсуждения») он начинает, вооружившись до зубов, – с двух пространных выдержек: из резолюции ЦК ВКП(б) о политике в области художественной литературы и из статьи Н. Бухарина «Пролетариат и вопросы художественной политики» («…потому что если я ругаю пролетарских писателей, то это вовсе не значит, что я потенциально отрицаю за ними право на их развитие…» – Н. Бухарин).
Тема, которую предложил было к обсуждению В. Правдухин, забыта, отодвинута. Теперь задача – оправдаться в политических обвинениях самому.
Меня обвиняют в пасквильной критике-травле пролетписателей, – так начинает свой ответ Правдухин, – в чрезмерном восхвалении «идеолога чаяний новой буржуазии – Булгакова». Никакого восхваления М. Булгакова в десяти строчках, ему посвященных, у меня нет. Угодно Т. Рокотову искать его в кавычках к слову «антисоветский» – это его дело, если он не может понять, что это неуклюжее, неестественное слово требует особой отметки.
Неправ и т. Горбачев, говоря, что – по Правдухину – «знаменем литературной эпохи является едва ли не Булгаков». Я утверждал и утверждаю, что знаменательно то, что Булгаков популярен, его много читают, его пьесы <…> имеют чуть ли не самый большой успех. Все это говорит о настроениях читателей…165
Отметим важную деталь: эпитет «антисоветский» нов и еще не стал общепринятым, Правдухину он представляется «неуклюжим» и «неестественным». Но спорят не о чистоте стиля – о возможности жить и дышать. 9 октября 1928 года на обсуждении булгаковской пьесы «Бег» А. И. Свидерский, председатель Главискусства, с запоздалой наивностью скажет, что слова «советский», «антисоветский» – надо оставить. Через четыре месяца, в начале февраля 1929 года, в неожиданную дискуссию о терминах войдет еще один участник. Отвечая на письмо В. Н. Билль-Белоцерковского по поводу того же «Бега», Сталин назовет пьесу явлением «антисоветским»166, чем и решит ее судьбу. О неестественности слова более вспоминать не будут. Оно прочно войдет в новый язык, обретет власть.
Но вернемся к ленинградской дискуссии. Правдухин продолжает отвечать по пунктам выдвинутых Г. Горбачевым обвинений. Речь – о расхождениях в оценке «Цемента» Гладкова, ставшего главным козырем года в тезисе о становлении пролетарской литературы как новаторского и самоценного эстетического явления. «Автор создает антитезу прошлой сентиментальности Карамзина – и пишет нам не „бедную Лизу“, а „красную Дашу“», – не удерживается от усмешки Правдухин. Но заканчивает серьезно и обдуманно: «„Цемент“ означает переход к новой литературе, но он останется лишь в учебниках, когда культурно „созреет“ наша эпоха». И далее обращается к важнейшей проблеме современного ему литературного быта:
С легкой руки Горбачева у нас всякие сомнения в литературной ценности «благонамеренных» по содержанию произведений расцениваются как контрреволюционные попытки. Это нездоровое явление. Вредное снисхождение к своим, послабление писательскому безволию, вместо критики – рекомендация своих изданий, выдвижения своих кружковых товарищей вне зависимости от оценки писаний <…> – и в результате резкое снижение творческих устремлений, даже у талантливых писателей. <…> Легко идти по проторенной дороге установленных репутаций!167
Завершает дискуссию Горбачев, одержавший верх над идеологически нетвердым противником. Его заключающая дискуссию статья так и называется: «Отступление Валериана Правдухина». Г. Горбачев торжествует победу: Правдухин
отказывается от того непомерного значения, приписывавшегося им Булгакову, которое набрасывало тень на всю нарисованную им литературную перспективу. Правдухин не настаивает и на защите Булгакова от обвинения в контрреволюционности <…> Напрасно Правдухин повторяет явную опечатку «Правды», напечатавшей в отзыве на «Цемент», что это достижения «диктатуры», а не литературы, хотя, конечно, успехи пролетарской литературы тесно связаны с успехами пролетарской диктатуры168.
Вот, казалось бы, и все, в дискуссии поставлена точка. Разговор с обрисовки и анализа ситуации в литературе и – шире – обществе переведен на личности. Личности скомпрометированы. Попытка чуткого наблюдателя, социально озабоченного литератора пригласить общество к совместному размышлению терпит крах.
В апреле 1927 года развитие литературного процесса оборвано, совещанием при Агитпропе дан сигнал к разгрому независимых творческих людей. Но спустя месяц Г. Горбачев вновь возвращается к булгаковскому имени и публикует обширную статью, посвященную его творчеству. Выступление Горбачева, по всей видимости, есть не что иное, как подведение итогов. Если дискуссия на страницах ленинградских газет была развернута в марте, то есть накануне готовящегося совещания по идеологии, то майская статья, вероятно, носит «установочный» характер. Другими словами, это выражение платформы целой общественной группы, занимавшей командные посты в литературной практике тех лет, точнее – в практике идеологического разделения писателей на «прогрессивных» и «реакционных». К последним отнесены все те, кто выражал сомнения в безусловно «восходящем» развитии страны. Не переходя пока что к мерам административным, производили штучную селекцию писательских имен.
Что же видит критик в упрямом попутчике?
Формулировки Г. Горбачева недвусмысленны:
Если можно сомневаться в явно издевательском смысле «Роковых яиц» по отношению к творчеству, хозяйственно и культурно-организаторским способностям революционной власти <…> то это можно делать, лишь рассматривая «Роковые яйца» изолированно. В связи же со всем подбором рассказов в книге «Дьяволиада» для иллюзий места не останется.
И далее дает краткий разбор каждого из произведений, вошедших в сборник.
«Похождения Чичикова», в которых бессмертный гоголевский Павел Иванович, обретя вторую жизнь, убеждается, что «для авантюристов, обжор, нахалов, жуликов никогда не было такой благоприятной обстановки, как в дни безнадежно-глуповатого большевистского практического управления и хозяйствования», и т. д.
Василевский Не-Буква Илья Маркович (1882–1938), журналист, фельетонист, издатель. В 1920 г. эмигрировал (Константинополь, Париж, Берлин). С 1922 г. – сотрудник и автор берлинского издания «Накануне». Выступал против примирения с советской властью. В 1923 г. вместе с А. Н. Толстым возвратился в Россию вместе с женой – Л. Е. Белозерской. В 1937 г. арестован за «контрреволюционную деятельность». В 1938 г. расстрелян. В 1961 г. реабилитирован.
Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович (1875–1937), потомственный дворянин. Политический деятель, адвокат, писатель. В Гражданскую войну занимал посты в правительстве Деникина, затем эмигрировал (Сербия, Германия). Стал активным участником движения «Смена вех». В 1923 г. вернулся в Россию. В 1935 г. был арестован, в 1937 г. расстрелян (Сандармох). В 1963 г. реабилитирован.
Володарский В. (Гольдштейн Моисей Маркович, 1891–1918), революционер. В 1913–1917 гг. – в эмиграции. В 1917 г. возвратился в Россию, вступил в РСДРП(б). В статусе редактора петроградской «Красной газеты» был сторонником жесткой цензуры (инициировал закрытие около 150 петроградских газет). Приобрел известность как талантливый оратор, пропагандист и агитатор. В 1918 г. был застрелен.
Садыкер Павел Абрамович (1888–?), директор-распорядитель акционерного общества «Накануне», член редколлегии издания. С 1929 г. невозвращенец.